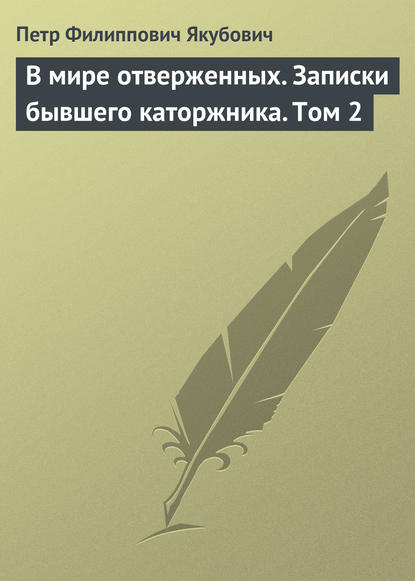По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но он уклоняется, он прикладывает палец к губам, умоляя о молчании… Нам обоим грозит страшная опасность. Один звук может погубить нас обоих… И я сразу вспоминаю, что мы в каторжной тюрьме, оба несчастные, всеми покинутые… Кругом ночной мрак и какая-то высокая каменная стена, за которой живет Елена и откуда мы должны похитить ее, чтобы вместе бежать… Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно вздрагивая..; И вдруг – яростный смех раздается сзади, стук ключей, бряцанье ружей… Все погибло! Мы открыты, узнаны и некуда деться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, Юхорева…
– В карцер отвести их! Наручни подать! В ужасе я просыпаюсь.
– Вставай на поверку, вставай!
Со свистом проходит по коридору надзиратель… Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить – не то очень дурное, не то очень хорошее.
– Да, я ведь не одинок больше среди этого ужаса. Со мной товарищи…
О, как я счастлив! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всем, жилам! Прочь сомнение и отчаяние! Теперь есть цель в жизни – облегчить страдания дорогих людей, только что начинающих тяжелое каторжное поприще, людей непривычных, слабых, не закаленных в испытаниях…
– Дмитрий Петрович! – окликаю я Штейнгарта. – Вы тоже уже проснулись?
Штейнгарт сидит на своей постели и нервно, поспешно одевается. Но ответить он не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается в сторону.
– Куда вы так спешите?
– А как же… сейчас поверка?
– Утром поверка делается в коридоре. Это облегчение давно уже завоевано… После свистка двери камер отворят только через двадцать минут. Тогда и успеем накинуть халаты: а затем, в виду того, что сегодня нерабочий день, можно будет и еще часика полтора соснуть. Ну, как вы провели ночь? Что во сне видели?
– Спал плоховато и всевозможную чепуху видел. Лучезаров будто бы учитель латинского языка в нашей гимназии и поставил мне единицу!
– Да, он теперь частенько будет вам сниться. После поверки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного в постелях, отправились в камеру Башурова проведать, как он жив и здоров. Мы столкнулись с ним в коридоре – он, в свою очередь, шел навестить нас. Прогуливаясь втроем по коридору, мы стали делиться ночными впечатлениями.
Башуров жаловался на убийственную атмосферу них камере, на процедуру поверок, на общую тягостность тюремного режима, но зато был в большом восторге от арестантов, от состава своей камеры.
– Я представлял их себе гораздо хуже, судя по дорожным впечатлениям, – говорил он. – Но там, в пути, условия жизни до того ненормальны, что, собственно, и спрашивать многого с людей нельзя. Все там чужды друг другу, сегодня идут вместе, а завтра пойдут розно; трудно даже характер человека настоящим образом вызнать. А здесь другое дело. Люди живут вместе годами и невольно сдружаются.
– Ну, особенной дружбы вы и здесь, пожалуй, не увидите, – заметил я расхолаживающим тоном. – А кто же больше всего понравился вам из сожителей?
– Прежде всего, как юмористический элемент, Карпушка Липатов.
– Советую только не поощрять особенно его болтовни, а то он сядет вам на шею и вы потом от него не отвяжетесь.
– Ах, какой же вы, право, Иван Николаевич… суровый человек! Я уж и вчера заметил, что вы с ним чересчур строги. Он милый, этот Карпушка… Представь, Дмитрий, из-за чего он вчера со всей камерой поссорился. Я просил отворить форточку, и староста отворил, я он встал посередине камеры в позу и протестует: "Это вы все, мужичий род, в конюшнях воспитывались, так нам и нужен чистый воздух, а во мне дворяньская кровь течет, мне чистого воздуха не надо". И так потешно выговаривает он эти слова: "дворяньский", "Двиньск" (место его родины) и пр. Смеху сколько было над ним! В конце концов стал просить у меня сахару и табаку, но тут Юхорев (вот властный человек этот Юхорев!) как подымется с нар, да прикрикнет на него… И, мой Карпушка в угол тотчас же, на свое место! Вообще вся камера производит отрадное впечатление, прежде всего выдержкой в обращении, солидностью, разумностью. Просто, забываешь, что имеешь дело с каторгой, а не с обыкновенным русским народом. И какая жажда к учению, к знанию. Представьте, у меня вчера же составилась целая школа, чуть не полкамеры учеников набралось! Интересно, как вы глядите, Иван Николаевич, на этих людей! Мне кажется, теория Ломброзо возмутительна, в сущности, бездушная теория! На самом деле большинство наших по крайней мере преступников точь-в-точь такие же, как все русские люди, и только случайно какое-нибудь стечение обстоятельств толкает их на путь преступления.
– Право, не знаю, Валерьян Михайлович. Живу здесь вот уж два с половиной года, но обобщений никаких не возьмусь пока делать.
– Ну разумеется, мы с вами не ученый диспут ведем, но все же очень важны первые впечатления. Например, хотя бы взять Юхорева. Теперь он считается каторжным, разбойником, а разберите-ка суть дела, скажите: при других условиях разве не мог бы он стать вожаком какой-нибудь гарибальдийской банды, борющейся за возвышенный принцип? У него даже и внешность-то скорее общественного протестанта, чем уголовного преступника!
– Внешность у него, правда, внушительная, но все-таки трудно сказать, что было бы, если бы было… Пока что он – разбойник, и ничего больше.
– Не совсем. Вы разве не знаете, за что он попал в каторгу с олекминских приисков? Он был там спиртоносом. Конечно, не бог знает какое это возвышенное занятие, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотели отнять у него с товарищами золото, он оказал смелое вооруженное сопротивление…
– А из России за что он попал в Якутскую область?
– Его ведь общество сослало в Сибирь, и если верить его собственному рассказу, – а он, кажется не враль, – общество это состояло из порядочных скотов. Он же защищал интересы бедноты. Во всяком случае, человек это несомненно замечательный. Представь себе, Дмитрий, безграмотный в сущности мужик, а знает наизусть огромную защитительную речь, которую написал ему один якутский же ссыльный. Юхорев должен был произнести ее на суде, но ему не позволили. Речь действительно недурная и очень смелая. И как энергично, как выразительно произносит ее этот разбойник, как называет его Иван Николаевич!
Я вспомнил, что Юхорев и мне собирался несколько раз прочесть эту речь, но все не выходило подходящего случая.
– Валерьян! – послышался вдруг с другого конца Коридора громкий возглас легкого на помине Юхорева. – Чаевать ступайте, все готово!
– Сейчас, сейчас, – откликнулся несколько сконфуженный Башуров и поспешил в свою камеру.
Штейнгарт заметил, что я немного поморщился.
– Вы, по-видимому, недолюбливаете этого Юхорева? – спросил он меня.
– Я объяснил, что нахожу во многих отношениях неудобным для нас допускать слишком большую фамильярность не только с Юхоревым, занимающим должность артельного старосты, но и вообще с арестантами, с людьми совершенно иного нравственного склада. Штейнгарт задумался.
– Боюсь, что Валерьян доставит нам в этом отношении хлопоты. У него вообще есть недостаток – то без причины завязывать с людьми слишком дружеские, почти интимные отношения, то вдруг без видимой же причины отталкивать их от себя. Конечно, не от дурного чего-нибудь это происходит у его, а так – от молодого легкомыслия… И, кроме того, он довольно самонадеян и самомнителен. Вот он уже прочел вам сегодня легкую нотацию насчет вашего якобы жесткого отношения к людям и, вероятно, искренно думает про себя, что сам он не таков, что он способен всех этих людей без исключения по-братски любить, прощая им все их недостатки. А о том он и забыл, что вы уже прожили здесь без нас целые годы и мы застали вас любимым и уважаемым всем тюрьмой; мы же только начинаем свое поприще, и кто еще знает, что мы сделаем, как уживемся с этим народом?
После этого мы отправились в свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались беспробудным спаньем, то принимались по двадцати раз за чаепитие. Местами перекидывались в картишки, местами велись вялые разговоры на давно истощенные темы. Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Не успев досыта наговориться об одном предмете, мы уже бросались к другому, третьему и так далее до бесконечности. Мне приходилось, впрочем, вначале больше слушать, так как, прожив столько времени вдали от живого мира, я сгорал нетерпением узнать, что произошло в этом мире за годы моего отсутствия… Но едва только удовлетворена была в общих чертах моя любознательность, как рассказчиками овладевало тоже вполне законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей их в Шелайском руднике жизни, и я, в свою очередь, из слушателя превращался в рассказчика. Взявшись втроем под руки и прогуливаясь по коридорам тюрьмы, мы весь день провели таким образом в самой оживленной беседе. Я спросил, между прочим, товарищей об их денежных средствах. Оказалось, что оба они рассчитывали получать от родственников по двадцати рублей ежемесячно.
– Отлично! – воскликнул я. – Почти столько же могу получать и я. Но, пока я жил здесь один, эти деньги были мне почти ни к чему, так как помогать всей тюрьме на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и неприятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроим дело так, что вся тюрьма будет жить в материальном отношении сносно.
– Разве это мыслимо при бюджете в шестьдесят рублей?
– А вот судите сами. Тюремное население не превышает обыкновенно ста двадцати человек, в редких случаях достигая ста пятидесяти и больше. Прежде всего арестанты страдают от отсутствия табаку. Полутора фунтов махорки в неделю совершенно достаточно для одной камеры, в качестве прибавки к тому табаку, который арестанты могут выписывать сами. Считая с кухней десять камер, мы должны будем покупать полтора пуда махорки в месяц.
– А сколько стоит махорка?
– Сорок копеек фунт. Значит, полтора пуда – двадцать четыре рубля… Это самая крупная статья расхода. Если затем в постные дни прибавлять в котел по одному пуду мяса, то баланда, наверное, получится великолепная. Баранина стоит здесь два рубля пуд. Следовательно, улучшение пищи в постные дни обойдется нам в месяц (восемь постных дней) в шестнадцать рублей. На остающиеся двадцать рублей мы можем иметь байховый чай, сахар и табак для себя и еще делать изредка, в праздничные дни, прямо роскошные обеды для всей тюрьмы, прибавляя, например, по полпуду мяса к казенному пайку.
– Но позвольте! Что скажет на все это Лучезаров?
– Ничего. Он сам неоднократно заявлял публично, что улучшения общего котла законом разрешаются. Беда была в том только, что арестанты держатся на этот счет своего особого мнения: коммунальными теориями их не соблазнит и сам закон, и ни одного такого благодетеля тюрьмы до сих пор не отыскивалось. А богатые люди есть и среди них…
– Итак, Иван Николаевич, наша многолюдная артель единогласно избирает вас своим старостой. Вы так отлично все эти дела знаете. Да и с Шестиглазым у вас установились уже определенные отношения.
Я, не споря, принял бразды правления, переговорил немедленно с экономом и заказал ему табак и мясо для ближайшего постного дня. Услыхав о нашем желании кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый эконом хихикнул, очевидно считая меня с новыми товарищами отчаянными олухами, но противоречить ни в чем не стал и на другой же день доставил пятнадцать фунтов махорки.
– Начальник смеется, – сообщил он при этом, широко улыбаясь, – никому б, кроме вас говорит, не позволил в тюльме майдан устлаивать.
Я обошел все камеры и роздал старостам для дележки по полтора фунта махорки на каждый номер. Старосты, принимая табак, не выражали ни большого удивления, пи особенного любопытства. Вернувшись после того в свою камеру, я не мог не наблюдать за тем впечатлением, какое произвело на каждого из сожителей необычное в тюремной жизни явление. Старичок Шемелин, наш камерный староста, вытер тщательно стол и принялся раскладывать табак на шестнадцать кучек, точь-в-точь так же, как он делал это ежедневно с мясом. Я поспешил шепнуть ему, чтоб меня с Штейнгартом он в расчет не принимал. Шемелин почтительно выслушал и ничего не возразил. Две кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распределились между остальными четырнадцатью. Затем старик все с той же деловитостью и тщательностью смахнул рукой в какую-то бумажку свою кучку (хотя мне отлично было известно, что он не курит) и ушел с нею на свое место, сообщив громко камере:
– Разбирайте, ребята!
Но ребята не торопились, и никто из присутствовавших даже не пошевельнулся при этом возгласе, точно и не слышал его, – каждый с достоинством продолжал заниматься своим делом. Только те из арестантов, которые ничего не знали и входили в камеру прямо со двора, увидев табак, удивленно спрашивали:
– Это что за табак?
– Берите по кучке, – коротко ответил Шемелин, и удивительно, что этого ответа оказывалось вполне достаточно, так что лишь очень редкие, менее всех дальновидные, после того еще спрашивали:
– А откудова он? Чей?
Большинство принимало этот дар безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно известное, должное и вполне законное. Некоторые кучки лежали, впрочем, до позднего вечера, и я уже думал было, что хозяева этих кучек так и не возьмут их – из чувства ли гордости, потому ли, что сами имеют средства и стесняются брать наравне с бедняками, – однако в конце концов со стола исчез решительно весь табак; взяли свою долю и те, которые не курили, и те, которые свободно могли бы пожертвовать ее в пользу товарищей.[2 - Впрочем, впоследствии, когда материальное положение тюрьмы стало еще стесненнее, подобное соглашение между арестантами установилось само собой и камерные старосты начали делить нашу махорку только по числу куривших. (Прим. автора.)]
– В карцер отвести их! Наручни подать! В ужасе я просыпаюсь.
– Вставай на поверку, вставай!
Со свистом проходит по коридору надзиратель… Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить – не то очень дурное, не то очень хорошее.
– Да, я ведь не одинок больше среди этого ужаса. Со мной товарищи…
О, как я счастлив! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всем, жилам! Прочь сомнение и отчаяние! Теперь есть цель в жизни – облегчить страдания дорогих людей, только что начинающих тяжелое каторжное поприще, людей непривычных, слабых, не закаленных в испытаниях…
– Дмитрий Петрович! – окликаю я Штейнгарта. – Вы тоже уже проснулись?
Штейнгарт сидит на своей постели и нервно, поспешно одевается. Но ответить он не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается в сторону.
– Куда вы так спешите?
– А как же… сейчас поверка?
– Утром поверка делается в коридоре. Это облегчение давно уже завоевано… После свистка двери камер отворят только через двадцать минут. Тогда и успеем накинуть халаты: а затем, в виду того, что сегодня нерабочий день, можно будет и еще часика полтора соснуть. Ну, как вы провели ночь? Что во сне видели?
– Спал плоховато и всевозможную чепуху видел. Лучезаров будто бы учитель латинского языка в нашей гимназии и поставил мне единицу!
– Да, он теперь частенько будет вам сниться. После поверки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного в постелях, отправились в камеру Башурова проведать, как он жив и здоров. Мы столкнулись с ним в коридоре – он, в свою очередь, шел навестить нас. Прогуливаясь втроем по коридору, мы стали делиться ночными впечатлениями.
Башуров жаловался на убийственную атмосферу них камере, на процедуру поверок, на общую тягостность тюремного режима, но зато был в большом восторге от арестантов, от состава своей камеры.
– Я представлял их себе гораздо хуже, судя по дорожным впечатлениям, – говорил он. – Но там, в пути, условия жизни до того ненормальны, что, собственно, и спрашивать многого с людей нельзя. Все там чужды друг другу, сегодня идут вместе, а завтра пойдут розно; трудно даже характер человека настоящим образом вызнать. А здесь другое дело. Люди живут вместе годами и невольно сдружаются.
– Ну, особенной дружбы вы и здесь, пожалуй, не увидите, – заметил я расхолаживающим тоном. – А кто же больше всего понравился вам из сожителей?
– Прежде всего, как юмористический элемент, Карпушка Липатов.
– Советую только не поощрять особенно его болтовни, а то он сядет вам на шею и вы потом от него не отвяжетесь.
– Ах, какой же вы, право, Иван Николаевич… суровый человек! Я уж и вчера заметил, что вы с ним чересчур строги. Он милый, этот Карпушка… Представь, Дмитрий, из-за чего он вчера со всей камерой поссорился. Я просил отворить форточку, и староста отворил, я он встал посередине камеры в позу и протестует: "Это вы все, мужичий род, в конюшнях воспитывались, так нам и нужен чистый воздух, а во мне дворяньская кровь течет, мне чистого воздуха не надо". И так потешно выговаривает он эти слова: "дворяньский", "Двиньск" (место его родины) и пр. Смеху сколько было над ним! В конце концов стал просить у меня сахару и табаку, но тут Юхорев (вот властный человек этот Юхорев!) как подымется с нар, да прикрикнет на него… И, мой Карпушка в угол тотчас же, на свое место! Вообще вся камера производит отрадное впечатление, прежде всего выдержкой в обращении, солидностью, разумностью. Просто, забываешь, что имеешь дело с каторгой, а не с обыкновенным русским народом. И какая жажда к учению, к знанию. Представьте, у меня вчера же составилась целая школа, чуть не полкамеры учеников набралось! Интересно, как вы глядите, Иван Николаевич, на этих людей! Мне кажется, теория Ломброзо возмутительна, в сущности, бездушная теория! На самом деле большинство наших по крайней мере преступников точь-в-точь такие же, как все русские люди, и только случайно какое-нибудь стечение обстоятельств толкает их на путь преступления.
– Право, не знаю, Валерьян Михайлович. Живу здесь вот уж два с половиной года, но обобщений никаких не возьмусь пока делать.
– Ну разумеется, мы с вами не ученый диспут ведем, но все же очень важны первые впечатления. Например, хотя бы взять Юхорева. Теперь он считается каторжным, разбойником, а разберите-ка суть дела, скажите: при других условиях разве не мог бы он стать вожаком какой-нибудь гарибальдийской банды, борющейся за возвышенный принцип? У него даже и внешность-то скорее общественного протестанта, чем уголовного преступника!
– Внешность у него, правда, внушительная, но все-таки трудно сказать, что было бы, если бы было… Пока что он – разбойник, и ничего больше.
– Не совсем. Вы разве не знаете, за что он попал в каторгу с олекминских приисков? Он был там спиртоносом. Конечно, не бог знает какое это возвышенное занятие, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотели отнять у него с товарищами золото, он оказал смелое вооруженное сопротивление…
– А из России за что он попал в Якутскую область?
– Его ведь общество сослало в Сибирь, и если верить его собственному рассказу, – а он, кажется не враль, – общество это состояло из порядочных скотов. Он же защищал интересы бедноты. Во всяком случае, человек это несомненно замечательный. Представь себе, Дмитрий, безграмотный в сущности мужик, а знает наизусть огромную защитительную речь, которую написал ему один якутский же ссыльный. Юхорев должен был произнести ее на суде, но ему не позволили. Речь действительно недурная и очень смелая. И как энергично, как выразительно произносит ее этот разбойник, как называет его Иван Николаевич!
Я вспомнил, что Юхорев и мне собирался несколько раз прочесть эту речь, но все не выходило подходящего случая.
– Валерьян! – послышался вдруг с другого конца Коридора громкий возглас легкого на помине Юхорева. – Чаевать ступайте, все готово!
– Сейчас, сейчас, – откликнулся несколько сконфуженный Башуров и поспешил в свою камеру.
Штейнгарт заметил, что я немного поморщился.
– Вы, по-видимому, недолюбливаете этого Юхорева? – спросил он меня.
– Я объяснил, что нахожу во многих отношениях неудобным для нас допускать слишком большую фамильярность не только с Юхоревым, занимающим должность артельного старосты, но и вообще с арестантами, с людьми совершенно иного нравственного склада. Штейнгарт задумался.
– Боюсь, что Валерьян доставит нам в этом отношении хлопоты. У него вообще есть недостаток – то без причины завязывать с людьми слишком дружеские, почти интимные отношения, то вдруг без видимой же причины отталкивать их от себя. Конечно, не от дурного чего-нибудь это происходит у его, а так – от молодого легкомыслия… И, кроме того, он довольно самонадеян и самомнителен. Вот он уже прочел вам сегодня легкую нотацию насчет вашего якобы жесткого отношения к людям и, вероятно, искренно думает про себя, что сам он не таков, что он способен всех этих людей без исключения по-братски любить, прощая им все их недостатки. А о том он и забыл, что вы уже прожили здесь без нас целые годы и мы застали вас любимым и уважаемым всем тюрьмой; мы же только начинаем свое поприще, и кто еще знает, что мы сделаем, как уживемся с этим народом?
После этого мы отправились в свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались беспробудным спаньем, то принимались по двадцати раз за чаепитие. Местами перекидывались в картишки, местами велись вялые разговоры на давно истощенные темы. Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Не успев досыта наговориться об одном предмете, мы уже бросались к другому, третьему и так далее до бесконечности. Мне приходилось, впрочем, вначале больше слушать, так как, прожив столько времени вдали от живого мира, я сгорал нетерпением узнать, что произошло в этом мире за годы моего отсутствия… Но едва только удовлетворена была в общих чертах моя любознательность, как рассказчиками овладевало тоже вполне законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей их в Шелайском руднике жизни, и я, в свою очередь, из слушателя превращался в рассказчика. Взявшись втроем под руки и прогуливаясь по коридорам тюрьмы, мы весь день провели таким образом в самой оживленной беседе. Я спросил, между прочим, товарищей об их денежных средствах. Оказалось, что оба они рассчитывали получать от родственников по двадцати рублей ежемесячно.
– Отлично! – воскликнул я. – Почти столько же могу получать и я. Но, пока я жил здесь один, эти деньги были мне почти ни к чему, так как помогать всей тюрьме на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и неприятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроим дело так, что вся тюрьма будет жить в материальном отношении сносно.
– Разве это мыслимо при бюджете в шестьдесят рублей?
– А вот судите сами. Тюремное население не превышает обыкновенно ста двадцати человек, в редких случаях достигая ста пятидесяти и больше. Прежде всего арестанты страдают от отсутствия табаку. Полутора фунтов махорки в неделю совершенно достаточно для одной камеры, в качестве прибавки к тому табаку, который арестанты могут выписывать сами. Считая с кухней десять камер, мы должны будем покупать полтора пуда махорки в месяц.
– А сколько стоит махорка?
– Сорок копеек фунт. Значит, полтора пуда – двадцать четыре рубля… Это самая крупная статья расхода. Если затем в постные дни прибавлять в котел по одному пуду мяса, то баланда, наверное, получится великолепная. Баранина стоит здесь два рубля пуд. Следовательно, улучшение пищи в постные дни обойдется нам в месяц (восемь постных дней) в шестнадцать рублей. На остающиеся двадцать рублей мы можем иметь байховый чай, сахар и табак для себя и еще делать изредка, в праздничные дни, прямо роскошные обеды для всей тюрьмы, прибавляя, например, по полпуду мяса к казенному пайку.
– Но позвольте! Что скажет на все это Лучезаров?
– Ничего. Он сам неоднократно заявлял публично, что улучшения общего котла законом разрешаются. Беда была в том только, что арестанты держатся на этот счет своего особого мнения: коммунальными теориями их не соблазнит и сам закон, и ни одного такого благодетеля тюрьмы до сих пор не отыскивалось. А богатые люди есть и среди них…
– Итак, Иван Николаевич, наша многолюдная артель единогласно избирает вас своим старостой. Вы так отлично все эти дела знаете. Да и с Шестиглазым у вас установились уже определенные отношения.
Я, не споря, принял бразды правления, переговорил немедленно с экономом и заказал ему табак и мясо для ближайшего постного дня. Услыхав о нашем желании кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый эконом хихикнул, очевидно считая меня с новыми товарищами отчаянными олухами, но противоречить ни в чем не стал и на другой же день доставил пятнадцать фунтов махорки.
– Начальник смеется, – сообщил он при этом, широко улыбаясь, – никому б, кроме вас говорит, не позволил в тюльме майдан устлаивать.
Я обошел все камеры и роздал старостам для дележки по полтора фунта махорки на каждый номер. Старосты, принимая табак, не выражали ни большого удивления, пи особенного любопытства. Вернувшись после того в свою камеру, я не мог не наблюдать за тем впечатлением, какое произвело на каждого из сожителей необычное в тюремной жизни явление. Старичок Шемелин, наш камерный староста, вытер тщательно стол и принялся раскладывать табак на шестнадцать кучек, точь-в-точь так же, как он делал это ежедневно с мясом. Я поспешил шепнуть ему, чтоб меня с Штейнгартом он в расчет не принимал. Шемелин почтительно выслушал и ничего не возразил. Две кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распределились между остальными четырнадцатью. Затем старик все с той же деловитостью и тщательностью смахнул рукой в какую-то бумажку свою кучку (хотя мне отлично было известно, что он не курит) и ушел с нею на свое место, сообщив громко камере:
– Разбирайте, ребята!
Но ребята не торопились, и никто из присутствовавших даже не пошевельнулся при этом возгласе, точно и не слышал его, – каждый с достоинством продолжал заниматься своим делом. Только те из арестантов, которые ничего не знали и входили в камеру прямо со двора, увидев табак, удивленно спрашивали:
– Это что за табак?
– Берите по кучке, – коротко ответил Шемелин, и удивительно, что этого ответа оказывалось вполне достаточно, так что лишь очень редкие, менее всех дальновидные, после того еще спрашивали:
– А откудова он? Чей?
Большинство принимало этот дар безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно известное, должное и вполне законное. Некоторые кучки лежали, впрочем, до позднего вечера, и я уже думал было, что хозяева этих кучек так и не возьмут их – из чувства ли гордости, потому ли, что сами имеют средства и стесняются брать наравне с бедняками, – однако в конце концов со стола исчез решительно весь табак; взяли свою долю и те, которые не курили, и те, которые свободно могли бы пожертвовать ее в пользу товарищей.[2 - Впрочем, впоследствии, когда материальное положение тюрьмы стало еще стесненнее, подобное соглашение между арестантами установилось само собой и камерные старосты начали делить нашу махорку только по числу куривших. (Прим. автора.)]