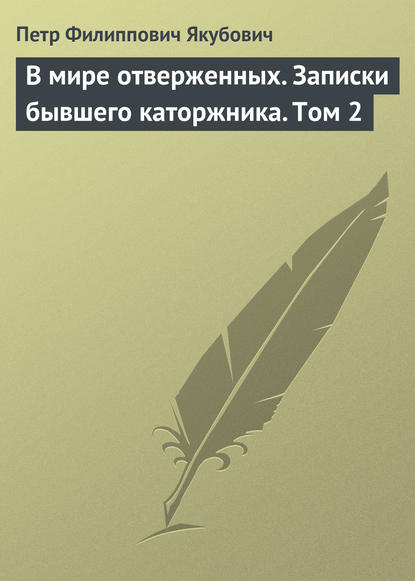По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хитрые вы, Иван Миколаич, спулить от себя Карпушку хотите. Вам-то – поговорить меж собой, в хевре своей чайку напиться, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти дело идет. Говорю, косточки у меня в спине нет! Я сказываю фершалу: давай ты мне настоящей ханании, такой, чтобы она, значит, болезнь из костей вон выгоняла. А он, цыганская его морда, калидатом да калидатом все меня пичкает! А калидат – я знаю, что такое. Он ведь болезнь в нутро, в кости вгоняет…
– Это что же такое за калидат и какой-такой ханании ему нужно? – в недоумении обратился ко мне Штейнгарт.
Мне уже достаточно известен был Карпушкин словарь, и я объяснил, что хананией он называет, по-видимому, хину и вообще всякое лекарство, а калидатом – кали-йодат.
Штейнгарт и Башуров громко засмеялись, их поддержал и сам Карпушка.
– В том-то и дело… Вот сейчас видно, что дохтур настоящий – все понимают. Я уж знаю, что они мне настоящей ханании пропишут. Сейчас замечаешь хорошего человека, не то что Иван-Николаевич; проваливай, мод, Карпушка Липатов! Ты к моей хевре не подходишь… А почему я не подхожу? У меня тоже дворяньская ведь кровь. Вот дали бы вы мне, господа, чайку дворяньского испить. Байховый чай – он, знаете, хорошо тоже по жилам расходится, особливо ежели с молоком. Лучше всякой ханании.
Дали Карпушке чашку чаю. Своей беседы нам так и не удалось вести: скоро послышался свисток дежурного и его же взволнованный крик по коридору:
– Вылазь на поверку! Скорей на поверку! Сам начальник будет!
Лучезаров давно уже не появлялся на поверках собственной персоной, и сегодня готовилась, очевидно по случаю прибытия новичков, – торжественная церемония.
– Любезен-то он любезен был с вами, а попугать все-таки хочет, – заметил я товарищам, выходя с ними на двор тюрьмы, и поспешил предупредить относительно того, что следовало делать во время поверки.
С Башуровым мы тут же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Он направился к своей камере, которая "строилась" в другом конце длинной арестантской шеренги. Там Юхорев тотчас же принял его под свое покровительство, поставив за своей могучей спиной. Повел и я Штейнгарта на то место, где шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара – Чирок уже стоял в переднем ряду, поджидая меня и энергичной бранью прогоняя всякого, кто по забывчивости пытался занять позади его мое место. Впереди Штейнгарта, стоявшего рядом со мною, вытянулся гигант Петин.
Надзиратель беспокойно метался перед строем арестантов, делая им предварительный счет. И только теперь ударил звонок на поверку; но и после звонка мы мерзли еще около пяти минут, а Шестиглазый все не показывался.
– Выстойку нам, как хорошим жеребцам, делает, – острили неунывающие арестанты.
Наконец за решетчатыми воротами произошло движение, и на глазах у всех появилась величавая фигура в большой мохнатой папахе и широко развевающейся шинели. Мы трое уже стояли давно без шапок. Распахнулись широко ворота. Точно проглотивший аршин, надзиратель проревел неестественно зычным голосом слова команды:
– Смир-р-на! Шапки дол-лой!
Сотня голов моментально с шумом обнажилась. – Шапки надеть! – торопливо, почти не дав кончиться надзирательскому крику, произнес Лучезаров.
– Продолжает быть любезным, – шепнул я Штейнгарту и с любопытством посмотрел на товарища. Я заметил, как лицо его потемнело и то и дело поддергивалось нервными судорогами… Лучезаровская любезность, очевидно, мало утешала его. Дальнейшая часть поверки прошла с обычной помпой по раз установленной форме и, к счастью, без всяких неприятных инцидентов. Наряда на работы не читалось, так как день был субботний.
– По камерам шагом мар-рш! – прогремела заключительная команда, и ровным ритмическим шагом попарно арестанты двинулись к тюрьме. Штейнгарт шел впереди меня, бледный и сумрачный, понуря голову. В коридоре к нам подбежал Валерьян Башуров.
– Это ужасно, господа! Какое унижение! – прошептал он, конвульсивно стискивая себе пальцы рук. Юношески розовое лицо его от волнения еще более разрумянилось. Штейнгарт упрямо молчал.
– А разве вы лучшего вдали, господа? – сказал я успокоительным тоном. – Глядите на эти вещи философски. Если можно, запаситесь даже юмором…
Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались. В камере между тем арестанты опять выстроились в шеренги. Мы с Штейнгартом, как и прежде, встали позади Чирка и Сохатого, возле своих нар.
Дверь быстро распахнулась, человек пять надзирателей влетели как ураган, и один из них прокричал обычное:
– Смир-р-на!
Внушительно замедленными шагами вошел Лучезаров, окидывая пытливым взглядом лица арестантов и, видимо, кого-то отыскивая. Упитанное, румяное лицо его, по обыкновению, чуть-чуть улыбалось иронически; в бравом штабс-капитане не произошло вообще никакой перемены с тех пор, как читатель видел его в последний раз, за исключением одного только: он носил уже полные капитанские погоны, и это обстоятельство, конечно, придало ему еще больше внушительности и величавости.
Наконец он увидал Штейнгарта и, приблизившись, молча подал ему письмо, которое вынул из бокового кармана. Затем круто повернулся к надзирателям и произнес сердито:
– Вы слышите запах? Есть тут запах?
– Не можем знать, господин начальник, – подобострастно ответил кто-то в нерешительности.
– Как не можете знать? Носа надо не иметь, чтобы не слышать! Гадкий, отвратительный запах!
– Да, оно точно, чижоловатый воздух, господин начальник, – согласился тот же надзиратель.
Тяжелый запах в нашей камере за последнее время сделался почему-то предметом постоянных наблюдений и раздражения бравого начальника. Он слышал его даже в такие дни, когда у нас подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера других камер, наверное, была вдвое удушливее, и ни за что ни про что распекал и надзирателей и несчастного старосту. Точно так же и теперь он бросился за перегородку, где помещались камерные параши. За ним последовала и вся свита.
– Откройте! – услышали мы оттуда повелительный голос начальника. – Понюхайте!.. Нет, вы понюхайте хорошенько!
Слышно было, как надзиратели один за другим подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смеясь, переглядывалась.
– Вот что! – заговорил Лучезаров, появляясь опять в камере. – Староста и парашники плохо знают свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите, я строго буду взыскивать.
И быстрыми шагами почти выбежал в коридор; со стуком и грохотом проследовала за ним свита, дверь захлопнулась, и замок щелкнул. Арестанты зашумели, засмеялись и принялись за свои обычные беседы и занятия.
Штейнгарт, склонившись над столом, читал при тусклом свете лампы полученное письмо, и мрачное лицо его с густыми нахмуренными бровями напоминало мне первый момент нашей встречи. Сердце мое болезненно сжалось… Я чувствовал себя опять одиноким, ревниво размышляя о том, что у этого человека есть и всегда будет свой особый мир, в который я никогда не проникну и в котором он будет страдать и радоваться один, замкнуто и молчаливо. Я лег в свой угол, предаваясь этим грустным думам; а товарищ долго еще сидел над письмом, чтение которого, по-видимому, давно было окончено. Затем, поднявшись, он стал ходить в глубокой задумчивости взад и вперед по камере. Луньков и Сохатый, разложив свои тетради, сидели за столом и переругивались.
III. Рассказ Штейнгарта
Было уже совсем поздно. Арестанты, не исключая и учеников, давно исправно храпели, когда Штейнгарт, взобравшись на нары, начал устраивать свою постель рядом с моею.
– Вы еще не спите, Иван Николаевич? Знаете, от кого я письмо сегодня получил? – неожиданно вполголоса заговорил он, заметив, что я не сплю; и, взглянув ему в лицо, я радостно вздрогнул: опять оно было светлое, доброе, и темные глаза сияли из-под разглаженных бровей как две звезды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.
Я, конечно, не знал, от кого было письмо. От матери? Сестры?
– Нет, от невесты, – сказал Штейнгарт грустным, растроганным голосом. – Вот уж никак не надеялся! Сегодня во время приемки Лучезаров прямо заявил, что будет выдавать письма только от ближайших и несомненных родственников, все же остальные сохранит у себя вплоть до нашего выхода на поселение. Это, мол, закон, нарушить который невозможно. И вдруг – приносит вечером это самое письмо… Признаюсь, Иван Николаевич, за этот великодушный поступок я многое готов простить Лучезарову и с очень многим в его режиме примириться!
– Да, я видел, какое впечатление произвела на вас поверка.
– Ужасное! Но… знаете ли, о чем просит меня невеста? Впрочем, мне уж хочется все рассказать вам, всю нашу грустную повесть. Конечно, это личные муки и радости, и вам они покажутся, быть может, неинтересными…
– Что вы, Дмитрий Петрович! Я боюсь только, что не заслужил еще подобного доверия с вашей стороны.
– Нет, я чувствую, вам можно довериться… Все, от сердца сказанное, вы сердцем же и примете. Для меня же… Я так устал про себя таить свои думы и муки!
– А Валерьян Михайлович? Разве с ним вы не дружны?
– Видите ли… Я очень люблю Валерьяна, но мы с ним не друзья. Он слишком еще юн, и в нем есть черты, которые не располагают к излияниям. Ну, словом, вы сами потом узнаете. Во всяком случае, моя интимная жизнь ему известна лишь в самых общих чертах. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?
– Вы еврей? Никогда бы этого не подумал! Да и ваше имя…
– Ну, имя-то ничего не значит. По-настоящему я вовсе не Дмитрий, а Мордух, и не Петрович, а Пейсехович, но ведь это так дико звучит по-русски… Однако, скажите откровенно, Иван Николаевич, в вас ничего нет юдофобского?
Я засмеялся.
– К счастью, нет. Могу сказать это положа руку на сердце. Я родился и вырос в северной глуши, где и евреев-то почти нет. Поэтому, когда я поступил в Петербургский университет, то каждого черного хохла, говорившего "хадость" вместо "гадость" – принимал долгое время за еврея. И после того у меня было несколько лучших товарищей и друзей из евреев.
– Очень рад. Вы снимаете с моего сердца тяжелый камень. Поверите ли, Иван Николаевич, какие подлые вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, по-видимому, люди не стесняются громко и открыто произносить слово "жид" и высказывать презрение и ненависть к евреям. Тем больнее все это видеть и слышать человеку, который, будучи, как я сам, евреем, в сущности ничем, кроме происхождения, не связан с родным племенем. Но когда со всех сторон летят в этот несчастный народ плевки и каменья, то можно ли спрашивать, что я должен чувствовать и кого любить?.. Да, этот проклятый еврейский вопрос был проклятием и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?
– Это что же такое за калидат и какой-такой ханании ему нужно? – в недоумении обратился ко мне Штейнгарт.
Мне уже достаточно известен был Карпушкин словарь, и я объяснил, что хананией он называет, по-видимому, хину и вообще всякое лекарство, а калидатом – кали-йодат.
Штейнгарт и Башуров громко засмеялись, их поддержал и сам Карпушка.
– В том-то и дело… Вот сейчас видно, что дохтур настоящий – все понимают. Я уж знаю, что они мне настоящей ханании пропишут. Сейчас замечаешь хорошего человека, не то что Иван-Николаевич; проваливай, мод, Карпушка Липатов! Ты к моей хевре не подходишь… А почему я не подхожу? У меня тоже дворяньская ведь кровь. Вот дали бы вы мне, господа, чайку дворяньского испить. Байховый чай – он, знаете, хорошо тоже по жилам расходится, особливо ежели с молоком. Лучше всякой ханании.
Дали Карпушке чашку чаю. Своей беседы нам так и не удалось вести: скоро послышался свисток дежурного и его же взволнованный крик по коридору:
– Вылазь на поверку! Скорей на поверку! Сам начальник будет!
Лучезаров давно уже не появлялся на поверках собственной персоной, и сегодня готовилась, очевидно по случаю прибытия новичков, – торжественная церемония.
– Любезен-то он любезен был с вами, а попугать все-таки хочет, – заметил я товарищам, выходя с ними на двор тюрьмы, и поспешил предупредить относительно того, что следовало делать во время поверки.
С Башуровым мы тут же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Он направился к своей камере, которая "строилась" в другом конце длинной арестантской шеренги. Там Юхорев тотчас же принял его под свое покровительство, поставив за своей могучей спиной. Повел и я Штейнгарта на то место, где шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара – Чирок уже стоял в переднем ряду, поджидая меня и энергичной бранью прогоняя всякого, кто по забывчивости пытался занять позади его мое место. Впереди Штейнгарта, стоявшего рядом со мною, вытянулся гигант Петин.
Надзиратель беспокойно метался перед строем арестантов, делая им предварительный счет. И только теперь ударил звонок на поверку; но и после звонка мы мерзли еще около пяти минут, а Шестиглазый все не показывался.
– Выстойку нам, как хорошим жеребцам, делает, – острили неунывающие арестанты.
Наконец за решетчатыми воротами произошло движение, и на глазах у всех появилась величавая фигура в большой мохнатой папахе и широко развевающейся шинели. Мы трое уже стояли давно без шапок. Распахнулись широко ворота. Точно проглотивший аршин, надзиратель проревел неестественно зычным голосом слова команды:
– Смир-р-на! Шапки дол-лой!
Сотня голов моментально с шумом обнажилась. – Шапки надеть! – торопливо, почти не дав кончиться надзирательскому крику, произнес Лучезаров.
– Продолжает быть любезным, – шепнул я Штейнгарту и с любопытством посмотрел на товарища. Я заметил, как лицо его потемнело и то и дело поддергивалось нервными судорогами… Лучезаровская любезность, очевидно, мало утешала его. Дальнейшая часть поверки прошла с обычной помпой по раз установленной форме и, к счастью, без всяких неприятных инцидентов. Наряда на работы не читалось, так как день был субботний.
– По камерам шагом мар-рш! – прогремела заключительная команда, и ровным ритмическим шагом попарно арестанты двинулись к тюрьме. Штейнгарт шел впереди меня, бледный и сумрачный, понуря голову. В коридоре к нам подбежал Валерьян Башуров.
– Это ужасно, господа! Какое унижение! – прошептал он, конвульсивно стискивая себе пальцы рук. Юношески розовое лицо его от волнения еще более разрумянилось. Штейнгарт упрямо молчал.
– А разве вы лучшего вдали, господа? – сказал я успокоительным тоном. – Глядите на эти вещи философски. Если можно, запаситесь даже юмором…
Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались. В камере между тем арестанты опять выстроились в шеренги. Мы с Штейнгартом, как и прежде, встали позади Чирка и Сохатого, возле своих нар.
Дверь быстро распахнулась, человек пять надзирателей влетели как ураган, и один из них прокричал обычное:
– Смир-р-на!
Внушительно замедленными шагами вошел Лучезаров, окидывая пытливым взглядом лица арестантов и, видимо, кого-то отыскивая. Упитанное, румяное лицо его, по обыкновению, чуть-чуть улыбалось иронически; в бравом штабс-капитане не произошло вообще никакой перемены с тех пор, как читатель видел его в последний раз, за исключением одного только: он носил уже полные капитанские погоны, и это обстоятельство, конечно, придало ему еще больше внушительности и величавости.
Наконец он увидал Штейнгарта и, приблизившись, молча подал ему письмо, которое вынул из бокового кармана. Затем круто повернулся к надзирателям и произнес сердито:
– Вы слышите запах? Есть тут запах?
– Не можем знать, господин начальник, – подобострастно ответил кто-то в нерешительности.
– Как не можете знать? Носа надо не иметь, чтобы не слышать! Гадкий, отвратительный запах!
– Да, оно точно, чижоловатый воздух, господин начальник, – согласился тот же надзиратель.
Тяжелый запах в нашей камере за последнее время сделался почему-то предметом постоянных наблюдений и раздражения бравого начальника. Он слышал его даже в такие дни, когда у нас подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера других камер, наверное, была вдвое удушливее, и ни за что ни про что распекал и надзирателей и несчастного старосту. Точно так же и теперь он бросился за перегородку, где помещались камерные параши. За ним последовала и вся свита.
– Откройте! – услышали мы оттуда повелительный голос начальника. – Понюхайте!.. Нет, вы понюхайте хорошенько!
Слышно было, как надзиратели один за другим подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смеясь, переглядывалась.
– Вот что! – заговорил Лучезаров, появляясь опять в камере. – Староста и парашники плохо знают свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите, я строго буду взыскивать.
И быстрыми шагами почти выбежал в коридор; со стуком и грохотом проследовала за ним свита, дверь захлопнулась, и замок щелкнул. Арестанты зашумели, засмеялись и принялись за свои обычные беседы и занятия.
Штейнгарт, склонившись над столом, читал при тусклом свете лампы полученное письмо, и мрачное лицо его с густыми нахмуренными бровями напоминало мне первый момент нашей встречи. Сердце мое болезненно сжалось… Я чувствовал себя опять одиноким, ревниво размышляя о том, что у этого человека есть и всегда будет свой особый мир, в который я никогда не проникну и в котором он будет страдать и радоваться один, замкнуто и молчаливо. Я лег в свой угол, предаваясь этим грустным думам; а товарищ долго еще сидел над письмом, чтение которого, по-видимому, давно было окончено. Затем, поднявшись, он стал ходить в глубокой задумчивости взад и вперед по камере. Луньков и Сохатый, разложив свои тетради, сидели за столом и переругивались.
III. Рассказ Штейнгарта
Было уже совсем поздно. Арестанты, не исключая и учеников, давно исправно храпели, когда Штейнгарт, взобравшись на нары, начал устраивать свою постель рядом с моею.
– Вы еще не спите, Иван Николаевич? Знаете, от кого я письмо сегодня получил? – неожиданно вполголоса заговорил он, заметив, что я не сплю; и, взглянув ему в лицо, я радостно вздрогнул: опять оно было светлое, доброе, и темные глаза сияли из-под разглаженных бровей как две звезды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.
Я, конечно, не знал, от кого было письмо. От матери? Сестры?
– Нет, от невесты, – сказал Штейнгарт грустным, растроганным голосом. – Вот уж никак не надеялся! Сегодня во время приемки Лучезаров прямо заявил, что будет выдавать письма только от ближайших и несомненных родственников, все же остальные сохранит у себя вплоть до нашего выхода на поселение. Это, мол, закон, нарушить который невозможно. И вдруг – приносит вечером это самое письмо… Признаюсь, Иван Николаевич, за этот великодушный поступок я многое готов простить Лучезарову и с очень многим в его режиме примириться!
– Да, я видел, какое впечатление произвела на вас поверка.
– Ужасное! Но… знаете ли, о чем просит меня невеста? Впрочем, мне уж хочется все рассказать вам, всю нашу грустную повесть. Конечно, это личные муки и радости, и вам они покажутся, быть может, неинтересными…
– Что вы, Дмитрий Петрович! Я боюсь только, что не заслужил еще подобного доверия с вашей стороны.
– Нет, я чувствую, вам можно довериться… Все, от сердца сказанное, вы сердцем же и примете. Для меня же… Я так устал про себя таить свои думы и муки!
– А Валерьян Михайлович? Разве с ним вы не дружны?
– Видите ли… Я очень люблю Валерьяна, но мы с ним не друзья. Он слишком еще юн, и в нем есть черты, которые не располагают к излияниям. Ну, словом, вы сами потом узнаете. Во всяком случае, моя интимная жизнь ему известна лишь в самых общих чертах. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?
– Вы еврей? Никогда бы этого не подумал! Да и ваше имя…
– Ну, имя-то ничего не значит. По-настоящему я вовсе не Дмитрий, а Мордух, и не Петрович, а Пейсехович, но ведь это так дико звучит по-русски… Однако, скажите откровенно, Иван Николаевич, в вас ничего нет юдофобского?
Я засмеялся.
– К счастью, нет. Могу сказать это положа руку на сердце. Я родился и вырос в северной глуши, где и евреев-то почти нет. Поэтому, когда я поступил в Петербургский университет, то каждого черного хохла, говорившего "хадость" вместо "гадость" – принимал долгое время за еврея. И после того у меня было несколько лучших товарищей и друзей из евреев.
– Очень рад. Вы снимаете с моего сердца тяжелый камень. Поверите ли, Иван Николаевич, какие подлые вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, по-видимому, люди не стесняются громко и открыто произносить слово "жид" и высказывать презрение и ненависть к евреям. Тем больнее все это видеть и слышать человеку, который, будучи, как я сам, евреем, в сущности ничем, кроме происхождения, не связан с родным племенем. Но когда со всех сторон летят в этот несчастный народ плевки и каменья, то можно ли спрашивать, что я должен чувствовать и кого любить?.. Да, этот проклятый еврейский вопрос был проклятием и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?