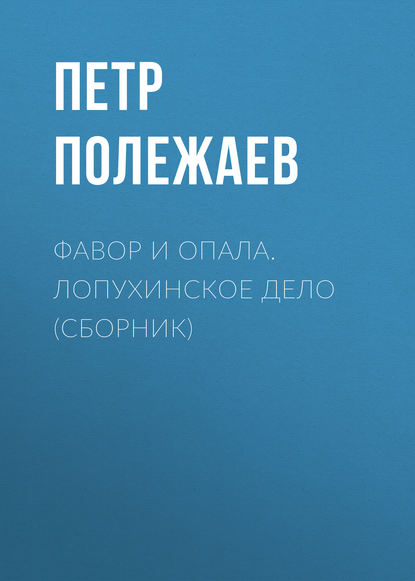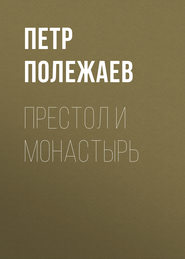По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подле князя Дмитрия Михайловича стоял генерал-прокурор Павел Ягужинский, которого гонец так нещадно был избит собственноручно князем Василием Лукичом Долгоруковым и затем доставлен в Москву в колодках генералом Леонтьевым, привезшим и письмо государыни. Павел Иванович не знал еще участи своего посла, но тем не менее невольно тревожился гордою самоуверенностью верховников и подмеченными им раза два странными взглядами на него князей Долгорукова и Голицына. Конечно, он имел заручку в среде верховников в тесте своем канцлере Головкине, но вместе с тем он близко знал тестя, знал, что тот ни за какого близкого человека не рискнет ни на какую решительную меру. Подозрительны казались ему эти странные взгляды. До сих пор верховники считали его из своих, не скрывались перед ним, и вдруг такая перемена! Как будто они прочли в его сердце, увидели там на дне неугомонно грызущего самолюбивого червячка, не терпевшего впереди себя никого и смертельно оскорбленного неполучением места в Верховном тайном совете.
Вдруг князь Дмитрий Михайлович круто повернулся к Павлу Ивановичу и, подавая ему кондиции российскому правлению, сурово проговорил:
– Не угодно ли господину генерал-прокурору прочитать кондиции и сказать свое мнение?
Ягужинский смутился и видимо потерялся.
– Так я приказываю вам не выходить отсюда, – продолжал князь еще более сурово, отворачиваясь от побледневшего Павла Ивановича и подзывая рукою статс-секретаря Степанова. – Поговори-ка с генералом пояснее, – поручил князь подошедшему статс-секретарю.
Тот взял под руку Ягужинского и вывел в соседнюю комнату, куда почти следом пришел князь Василий Владимирович Долгоруков с майором гвардии.
– Возьми-ка, господин майор, у генерал-прокурора шпагу, – распорядился князь Василий Владимирович, – и отведи его под арест в дворцовую караульную.
Ягужинского увели.
Эпизод этот не мог не произвести должного эффекта. Кто совершенно застыл, кого нервно передергивало, но у всех появилось одно общее желание, скорее бы выйти из этой западни, хотя бы провалиться. Несогласных с верховниками была масса, но масса не подготовленная, не сплотившаяся, не решившаяся окончательно на какую-либо меру. Только после нескольких минут успел оправиться выдвинутый обстоятельствами в вожаки князь Алексей Михайлович Черкасский. Он нерешительно подошел к членам Верховного тайного совета и почтительнейше просил даровать господам дворянам время «порассудить свободнее».
Со своей стороны, и верховники тоже чувствовали себя в неловком положении. Правда, у них была сила, было войско, так как в среде их было два фельдмаршала, но они видели против себя молчаливый, но тем не менее упорный протест всего общества. Нельзя же было всех подвергать допросам с пристрастием или посылать путешествовать. Надобно было и им обсудить свое положение, а теперь освободиться от этой упрямой, не понимающей своей пользы толпы.
По данному разрешению толпа радостно хлынула из собрания, как школьники, не приготовившие урока и вдруг отпущенные домой по болезни страшного учителя.
В то же утро отслужено было во всех соборах и церквах московских благодарственное молебствие по случаю изъявленного герцогинею Анною согласия на воцарение. Феофан Прокопович не упустил благоприятного случая подставить ножку верховникам. На ектениях о здравии государыни диакон по распоряжению Синода провозглашал ее имя с титулом самодержавной. «Не любо было это верховникам, – рассказывает сам Феофан, – и каялись они в оплошности своей и запамятовании, но уж было поздно». В тот же день от Синода разосланы были титулованные формы по всем городам.
Не рискнув на крутую меру против массы недоброжелателей, бывших в собрании, верховники налегли на отдельных лиц, в надежде устрашить остальных и отбить охоту к противодействию. Начались аресты, обыски и допросы лиц, по чему-либо выделившихся или подозрительных князьям Долгоруковым и Голицыным. Но эта мера привела к совершенно противоположному результату. Правда, она напугала многих, заставила скрываться, прятаться, переодеваться, но в то же время и всполошила недовольных. В некоторых центрах кружки стали теснее, составлялись более образованными людьми записки, в которых выражалось уже определенное желание.
Более многочисленные кружки образовались в доме богача того времени князя Алексея Михайловича Черкасского, около Василия Никитича Татищева, под запискою которого подписалось до двухсот девяноста трех лиц. В этой записке говорилось, что дворянство не прочь было от ограничения власти, но отвергало только решительное преобладание аристократической партии, казавшейся ему пагубнее самодержавия. Следуя логическому настроению, Василий Никитич прежде высказал мнение о непорядочности избрания наследника четырьмя или пятью лицами, тогда как в избрании должно бы было быть согласие всех подданных, или персонально, или через поверенных, как это производится в других государствах. Затем высказывается главная мысль записки: «Хотя мы ее (императрицы Анны Иоанновны) мудростью, благонравием и порядочным правительством в Курляндии довольно уверены, однако ж как есть персона женская, так многим трудам неудобна, паче же ей знания законов недостает, для того на время, доколе нам Всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить».
Эти новые учреждения, по мнению Василия Никитича, должны были заключаться в следующем: 1) в Сенате, долженствующем состоять из двадцати одного, в том числе и членов Верховного тайного совета, 2) в другом, «нижнем правительстве», заведующем внутреннею экономиею, из ста человек, разделенных на три части для занятий по третям года; в случаях же важных члены «нижнего правительства» должны собираться в общее собрание, которое, впрочем, может продолжаться не более месяца. Кроме этих главных мер, Василий Никитич предлагал еще некоторые дополнительные, как, например: места сенаторов, президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов и вице-губернаторов замещать баллотированием в Сенате и «нижнем правительстве». Проекты новых законов должны быть предварительно рассмотрены в коллегиях. В Тайной канцелярии должны присутствовать депутатами два сенатора и т. д. В заключение излагались меры к развитию образования.
Почти подобного же содержания была и другая записка, подписанная князем Куракиным и пятнадцатью дворянами, с тем только различием, что в нем предлагалось оставить при Сенате и «нижнем правительстве» и Верховный тайный совет. В заключение этой записки заявлялось желание на переезд двора в Москву, которая должна оставаться постоянной государственной резиденцией.
Эти две записки должно считать собственно протестующими, так как в третьей, подписанной генералом Матюшкиным и девяноста тремя дворянами, предоставлялось право рассмотрения и решения вопроса об изменениях в образе правления одному Верховному тайному совету.
Татищевская записка представлена была совету на другой день после собрания, то есть 4 февраля, князем Черкасским с просьбою от дворян о немедленном ее рассмотрении и обсуждении вместе с депутатами из среды подписавшихся дворян. Сопоставляя число внесения записки генерала Матюшкина, 5 февраля, с числом внесения записки Татищева, 4 февраля, нельзя не видеть в первой желания верховников парализовать стремление оппозиционной партии.
На все эти заявления верховники отвечали гордым и решительным отказом, что «им одним надлежит все учреждение учинить, не требуя ничьего совета», но в действительности в совете, только подходящем к их партии, они сильно нуждались. Кондиции российскому управлению, составленные князем Дмитрием Михайловичем, заключали только общие черты без подробностей, без соглашения их с существовавшим строем. Необходимо было определить новые формы для преобразований, новые функции для отправления новой власти, необходима спешная организаторская работа, а между тем людей, способных для выполнения ее, не было. Сам Дмитрий Михайлович был человек, бесспорно, большого ума, но не отличавшийся быстрым соображением и не подготовленный к быстрому проведению государственных реформ. Необходимо было углубиться, всецело отдаться разработке заданного себе вопроса, а это-то и невозможно было при беспрерывных отвлечениях практическими вопросами, возникавшими от столкновений с партиями. Кроме же Дмитрия Михайловича, никого из верховников, способных и желавших заняться этим делом, не было. Князья Долгоруковы способны были только на придворные интриги; граф Головкин по нерешительности характера отклонил от себя всякое личное участие; Остерман, осторожный до крайности, не считал себя вправе быть главным руководителем дела, которому будто бы мешало его иностранное происхождение.
Точно так же и противная партия не могла выставить, кроме Василия Никитича, даровитых деятелей. Большинство ее состояло из людей неразвитых, слепо приверженных к старине и не понимавших иных потребностей, но зато они были в более выгодном положении, их роль ограничивалась простым отрицанием.
Развязку борьбы составлял приезд новой императрицы, и обе партии с напряженным нетерпением ожидали этого приезда.
V
Февраля 10-го прискакал гонец с известием о приближении к Москве государыни. Немедленно по распоряжению Верховного тайного совета к ней отправились три архиерея и три сенатора, встретившие ее в селе Чашники. Посланные поздравили императрицу, выслушавшую их с благосклонною улыбкою и удостоившую их милостивым словом; при приеме этих первых депутатов находился сопровождавший Анну Иоанновну и почти не отходивший от нее князь Василий Лукич. Зорко присматривался к ним князь Василий и, как рассказывает Феофан, остро наблюдал за всеми их движениями: «толико, сиречь, трусливо и опасно было оно и властолюбивое шатание».
Из Чашников императрица выехала в тот же день после обеда, а в третьем часу по полуночи прибыла в село Всехсвятское, отстоявшее от Москвы в семи верстах, где и предположила оставаться до торжественного въезда в столицу, назначенного совершиться после погребения тела усопшего императора. По прибытии во Всехсвятское к императрице приехали ее сестры, Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна, а затем начались и торжественные приветствия. 11 февраля, тотчас после погребальной церемонии, из Москвы явились члены Верховного тайного совета, сенаторы и другие сановитые особы; вместе с тем прибыл для почетного караула и батальон преображенцев с отрядом кавалергардов. Государыня встречала всех милостиво и была особенно любезна с верховниками.
Члены Верховного тайного совета просияли от такого благосклонного приема и стали обнадеживаться в успехе предприятия. Через два дня, то есть 14 февраля, все сановники снова приехали во Всехсвятское для поднесения государыне ордена святого Андрея Первозванного. В речи, сказанной князем Дмитрием Михайловичем, верховники просили ее величество принять на себя звание гроссмейстера этого ордена, по примеру предшественников, а самые орденские знаки были поднесены государственным канцлером Головкиным. Анна Иоанновна соизволила благосклонно выслушать речь и принять знаки, но в этот приезд верховники не казались особенно сияющими.
Дело в том, что императрица, слишком уже ласково приняв явившихся для караула преображенских и кавалергардских офицеров, тотчас же самовольно назначила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов, а генерал-поручика Семена Андреевича Салтыкова – полковником Преображенского полка
. От этой милости офицеры, конечно, пришли в восторг и со слезами радости, как рассказывает герцог Лирийский, целовали руки государыне. Одновременно с этим назначением солдаты обильно угощены были водкою, что, разумеется, вызвало горячие изъявления их преданности. В сущности, это было первое нарушение кондиций, так как назначения в гвардию и армию зависели от Верховного тайного совета. Государыня, видимо, желала приобрести расположение войск, а опыты уже столько раз доказывали, что значит войско! Наконец и князь Василий Лукич, надзирающий зорко за императрицею, стороживший ее как «некий дракон», в первый раз заметил в императрице как будто какую-то принужденность в отношении к себе.
Между тем в Москве все приготовлялось к торжественному въезду императрицы, назначенному на 15 февраля по особому церемониалу, составленному Тайным советом. Вся столица пришла в движение и приняла на этот день особенно радостный, торжественный вид. Устроены были двое триумфальных ворот, у Земляного города и у Воскресенских ворот, между которыми по обеим сторонам улицы стояли шпалерами полки: 1-й и 2-й Московские, Выборгский, Воронежский, Копорский, Симбирский, Бутырский и Вятский; от Красной же площади и Воскресенских ворот до Успенского собора, точно так же шпалерами, стояли полки Преображенский и Семеновский. Самые улицы преобразились, усыпанные песком и обставленные перед каждым домом еловыми деревьями, эффектно зеленевшими на снеговом фоне. На всем пути толпились несметные громады народу.
В объемистой золотой карете, запряженной девятью богато убранными лошадьми, ехала императрица. Кучер и форейтор были одеты в лазоревые бархатные ливреи, обложенные золотым позументом; у каждой лошади шел особый конюшенный служитель. По сторонам кареты шли пятеро гайдуков и ехали верхами: на правой стороне князь Василий Лукич, имея за собою генерал-майора Леонтьева, на левой стороне князь Михаил Михайлович Голицын, имея за собою генерал-майора Шувалова. При въезде в Земляной город императрицу встретил семьдесят один пушечный выстрел, а в Белый город – восемьдесят пять выстрелов. На Красной площади ее ожидало духовенство с иконами и крестами. Наконец, когда торжественный поезд вступил в Кремль и императрица вошла в Успенский собор, раздался оглушительный залп из ста одного орудия, сопровождаемый троекратным беглым ружейным огнем всех полков.
Из Успенского собора государыня в сопровождении блестящей свиты вельмож и придворных изволила шествовать в Архангельский, а оттуда в приготовленные дворцовые апартаменты.
Но с великим, радостным торжеством не гармонировало душевное настроение участвующих и зрителей. Лицо императрицы казалось сумрачным и как будто печальным; ее, не привыкшую к таким почестям, загнанную в молодости и всегда забитую, пугали и эти церемонии, и эти громкие крики. Лица верховников были озабочены и пытливы, а в массах зрителей, сквозь любопытство, пробегало невольное беспокойство о будущем. Народ инстинктивно понимал, что все делается как-то не так, не по-прежнему, и что самое избрание императрицы вышло какое-то странное. О державных правах даже и отца-то ее, Ивана Алексеевича, в народе не сохранилось никакой памяти по немощности его, слабоумию и постоянному отдалению от правительственных дел, а тем более о правах дочерей, повышедших замуж и уехавших. В памяти народной держался резкий и величавый образ Петра как единственного государя, а от него невольно переводились права на детей его, из которых одна величавая и веселая Елизавета пользовалась полною его симпатиею. Да и можно ли сравнивать этих двух двоюродных сестер, Анну и Елизавету: одна, невольно наводящая тоску осенней невзгоды, другая светлая и сияющая.
Под тяжелым впечатлением расходился народ с церемонии.
В первые же дни по прибытии избранной императрицы должен был решиться вопрос о присяге, вопрос весьма важный, так как им главным образом всенародно очерчивались будущие отношения правительственной власти. Верховники занялись им тотчас же. Верный своей идее, князь Дмитрий Михайлович предположил составить новую форму присяги, в которой бы клятва произносилась общая, на имя государыни и Верховного тайного совета.
– Лучше, по-моему, – говорил он, насупливая густые брови, – зараз поставить так, чтобы всяк понимал и не имел никакого шатания в разуме своем.
Но это решительное мнение встретило возражения почти от всех его товарищей-верховников. Великий канцлер Головкин, большой любитель компромиссов и полумер, первый заговорил о рискованности, о том, что подобная резкая перемена непременно возбудит общее неудовольствие и может погубить их всех. За ним вице-канцлер Андрей Иванович не преминул вставить свое иностранное происхождение, вследствие которого будто бы неминуемо должно было возникнуть обвинение в своекорыстных расчетах иностранца. С мнениями канцлеров согласились и остальные – Голицын и Долгоруковы.
В чем же должно состоять изменение? А оно необходимо ввиду изменения значения Верховного совета – в этом согласны были Голицыны и Долгоруковы, но не согласны Головкин и Остерман, высказавшие наконец мысль, что особенной надобности нет в новой форме присяги, как не имеющей никакого влияния на значение Верховного совета.
Несколько дней прошло в совещаниях и спорах; наконец решено было на том, чтобы в присяге выразить ограничение самодержавия словами клятвы на имя государыни и отечества.
Мучились верховники в сочинении новой реформы присяжного листа, но не менее мучилась напряженным ожиданием оппозиционная партия, а в особенности владыка Феофан Прокопович. Каждый день бегали секретари из Синода в канцелярию Тайного совета за новою формою, но каждый день получался один и тот же ответ: «Не готова». Убежденный в существенных переменах, Феофан, желая подготовить противодействие, витийствовал в Синоде, в кругу собравшегося духовенства, и везде, где только мог, о том, что «великое весьма дело есть присяга и вечно наводит бедство, если кто присягнет на то, что противно совести, или чего и сам не хощет или не ведает».
Каково же было изумление сладкоглаголивого Феофана, когда вдруг, неожиданно, утром 20 февраля, в собрание Синода прибежал секретарь совета с приглашением пожаловать в Успенский собор для совершения присяги, где уже находились верховные господа и вельможи. Смутились архиереи, а еще более сам знаменитый вития.
– Не идем в сонм зложелательных, – начал было говорить он духовенству, но ему заметили с должною настойчивостью, что собор окружен войском и что сопротивление может повести только к неприятным последствиям. Архиереи убедились и немедленно отправились в собор, а за ними и сам вития Феофан.
При входе духовных в собор, наполненный уже всеми военными, придворными и статскими особами, князь Дмитрий Михайлович подошел к Феофану Прокоповичу и высказал просительским голосом:
– Соблаговолите, преосвященный владыка, первые учинить присягу, яко пастырь всего народа и предводитель духовных дел.
На это упрямый предводитель духовных дел прежде всего потребовал разрешения сказать приличное слово. В этой речи он, точно так же, как и в Синоде, распространился о бедствиях, совершающихся от необдуманно данной клятвы, предостерегал всех присутствующих не торопиться присягать и в заключение потребовал предварительного прочтения вслух присяжного листа.
– Не подобает черноризцу… – заговорил было своим суровым голосом князь Дмитрий Михайлович, но и на этот раз его товарищи, заметив общее волнение, поспешили вмешаться согласием на просьбу архипастыря. Потребовали подлинный присяжный лист, и, к общему изумлению, налицо не оказалось в храме ни одного экземпляра, из чего Феофан выводит заключение, как «фракция оная все торопко и непорядочно делала, и в затейках своих больше имела страха, нежели упования». Наконец принесли форму, прочли, и так как в ней все изменение заключалось только в опущении слова «самодержавие» и в добавлении, что присягают «государыне и отечеству», без упоминания «осьмомочия», по выражению Феофана, то все духовные и сановники присягу в обыкновенном порядке совершили.
За присягою в Успенском соборе безостановочно последовала присяга остальных жителей столицы и в провинциях. Таким образом обойден был этот первый подводный камень.
VI
С самого приезда в Москву Анна Иоанновна не улыбалась. Пасмурная и грустная, с угрюмо нависшими бровями, она, видимо, тосковала в московском дворце. Жаль ли ей было прежней митавской жизни, скудной средствами, но, по крайней мере, свободной в домашнем быту, или сердце изнывало по оставленном друге в Митаве, или ее не привыкшей к сдержанности природе слишком претило постоянное шпионство Василия Лукича, но только со дня на день государыня становилась все более озабоченнее и раздражительнее. Впрочем, надзор Василия Лукича действительно мог раздражить и натуру более спокойную и мягкую. Поселившись во дворце, рядом с покоями императрицы, и выказывая ей в публике все знаки верноподданнического уважения, он в то же время в интересе своих товарищей-верховников, а может быть, и в надежде воротить к себе когда-то мимолетную благодарность государыни, отдалял от нее всех, следил за каждым ее движением, за каждым шагом, не допуская к ней без себя не только мужчин, но даже и многих дам. Истинно, как «некий дракон»!
Целый час ходит императрица своею обыкновенною тяжелою поступью по своему апартаменту из угла в угол, молча, иногда перебрасываясь словами со старшею сестрою Екатериною Ивановною.
– Что ты за императрица? – чуть ли не в сотый раз повторяет Екатерина Ивановна, особенно не любившая верховников, обошедших ее перворожденные права. – Воли ты имеешь меньше, чем мы.
Анна Иоанновна продолжала ходить, как будто не вслушиваясь в слова сестры.
Вдруг князь Дмитрий Михайлович круто повернулся к Павлу Ивановичу и, подавая ему кондиции российскому правлению, сурово проговорил:
– Не угодно ли господину генерал-прокурору прочитать кондиции и сказать свое мнение?
Ягужинский смутился и видимо потерялся.
– Так я приказываю вам не выходить отсюда, – продолжал князь еще более сурово, отворачиваясь от побледневшего Павла Ивановича и подзывая рукою статс-секретаря Степанова. – Поговори-ка с генералом пояснее, – поручил князь подошедшему статс-секретарю.
Тот взял под руку Ягужинского и вывел в соседнюю комнату, куда почти следом пришел князь Василий Владимирович Долгоруков с майором гвардии.
– Возьми-ка, господин майор, у генерал-прокурора шпагу, – распорядился князь Василий Владимирович, – и отведи его под арест в дворцовую караульную.
Ягужинского увели.
Эпизод этот не мог не произвести должного эффекта. Кто совершенно застыл, кого нервно передергивало, но у всех появилось одно общее желание, скорее бы выйти из этой западни, хотя бы провалиться. Несогласных с верховниками была масса, но масса не подготовленная, не сплотившаяся, не решившаяся окончательно на какую-либо меру. Только после нескольких минут успел оправиться выдвинутый обстоятельствами в вожаки князь Алексей Михайлович Черкасский. Он нерешительно подошел к членам Верховного тайного совета и почтительнейше просил даровать господам дворянам время «порассудить свободнее».
Со своей стороны, и верховники тоже чувствовали себя в неловком положении. Правда, у них была сила, было войско, так как в среде их было два фельдмаршала, но они видели против себя молчаливый, но тем не менее упорный протест всего общества. Нельзя же было всех подвергать допросам с пристрастием или посылать путешествовать. Надобно было и им обсудить свое положение, а теперь освободиться от этой упрямой, не понимающей своей пользы толпы.
По данному разрешению толпа радостно хлынула из собрания, как школьники, не приготовившие урока и вдруг отпущенные домой по болезни страшного учителя.
В то же утро отслужено было во всех соборах и церквах московских благодарственное молебствие по случаю изъявленного герцогинею Анною согласия на воцарение. Феофан Прокопович не упустил благоприятного случая подставить ножку верховникам. На ектениях о здравии государыни диакон по распоряжению Синода провозглашал ее имя с титулом самодержавной. «Не любо было это верховникам, – рассказывает сам Феофан, – и каялись они в оплошности своей и запамятовании, но уж было поздно». В тот же день от Синода разосланы были титулованные формы по всем городам.
Не рискнув на крутую меру против массы недоброжелателей, бывших в собрании, верховники налегли на отдельных лиц, в надежде устрашить остальных и отбить охоту к противодействию. Начались аресты, обыски и допросы лиц, по чему-либо выделившихся или подозрительных князьям Долгоруковым и Голицыным. Но эта мера привела к совершенно противоположному результату. Правда, она напугала многих, заставила скрываться, прятаться, переодеваться, но в то же время и всполошила недовольных. В некоторых центрах кружки стали теснее, составлялись более образованными людьми записки, в которых выражалось уже определенное желание.
Более многочисленные кружки образовались в доме богача того времени князя Алексея Михайловича Черкасского, около Василия Никитича Татищева, под запискою которого подписалось до двухсот девяноста трех лиц. В этой записке говорилось, что дворянство не прочь было от ограничения власти, но отвергало только решительное преобладание аристократической партии, казавшейся ему пагубнее самодержавия. Следуя логическому настроению, Василий Никитич прежде высказал мнение о непорядочности избрания наследника четырьмя или пятью лицами, тогда как в избрании должно бы было быть согласие всех подданных, или персонально, или через поверенных, как это производится в других государствах. Затем высказывается главная мысль записки: «Хотя мы ее (императрицы Анны Иоанновны) мудростью, благонравием и порядочным правительством в Курляндии довольно уверены, однако ж как есть персона женская, так многим трудам неудобна, паче же ей знания законов недостает, для того на время, доколе нам Всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить».
Эти новые учреждения, по мнению Василия Никитича, должны были заключаться в следующем: 1) в Сенате, долженствующем состоять из двадцати одного, в том числе и членов Верховного тайного совета, 2) в другом, «нижнем правительстве», заведующем внутреннею экономиею, из ста человек, разделенных на три части для занятий по третям года; в случаях же важных члены «нижнего правительства» должны собираться в общее собрание, которое, впрочем, может продолжаться не более месяца. Кроме этих главных мер, Василий Никитич предлагал еще некоторые дополнительные, как, например: места сенаторов, президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов и вице-губернаторов замещать баллотированием в Сенате и «нижнем правительстве». Проекты новых законов должны быть предварительно рассмотрены в коллегиях. В Тайной канцелярии должны присутствовать депутатами два сенатора и т. д. В заключение излагались меры к развитию образования.
Почти подобного же содержания была и другая записка, подписанная князем Куракиным и пятнадцатью дворянами, с тем только различием, что в нем предлагалось оставить при Сенате и «нижнем правительстве» и Верховный тайный совет. В заключение этой записки заявлялось желание на переезд двора в Москву, которая должна оставаться постоянной государственной резиденцией.
Эти две записки должно считать собственно протестующими, так как в третьей, подписанной генералом Матюшкиным и девяноста тремя дворянами, предоставлялось право рассмотрения и решения вопроса об изменениях в образе правления одному Верховному тайному совету.
Татищевская записка представлена была совету на другой день после собрания, то есть 4 февраля, князем Черкасским с просьбою от дворян о немедленном ее рассмотрении и обсуждении вместе с депутатами из среды подписавшихся дворян. Сопоставляя число внесения записки генерала Матюшкина, 5 февраля, с числом внесения записки Татищева, 4 февраля, нельзя не видеть в первой желания верховников парализовать стремление оппозиционной партии.
На все эти заявления верховники отвечали гордым и решительным отказом, что «им одним надлежит все учреждение учинить, не требуя ничьего совета», но в действительности в совете, только подходящем к их партии, они сильно нуждались. Кондиции российскому управлению, составленные князем Дмитрием Михайловичем, заключали только общие черты без подробностей, без соглашения их с существовавшим строем. Необходимо было определить новые формы для преобразований, новые функции для отправления новой власти, необходима спешная организаторская работа, а между тем людей, способных для выполнения ее, не было. Сам Дмитрий Михайлович был человек, бесспорно, большого ума, но не отличавшийся быстрым соображением и не подготовленный к быстрому проведению государственных реформ. Необходимо было углубиться, всецело отдаться разработке заданного себе вопроса, а это-то и невозможно было при беспрерывных отвлечениях практическими вопросами, возникавшими от столкновений с партиями. Кроме же Дмитрия Михайловича, никого из верховников, способных и желавших заняться этим делом, не было. Князья Долгоруковы способны были только на придворные интриги; граф Головкин по нерешительности характера отклонил от себя всякое личное участие; Остерман, осторожный до крайности, не считал себя вправе быть главным руководителем дела, которому будто бы мешало его иностранное происхождение.
Точно так же и противная партия не могла выставить, кроме Василия Никитича, даровитых деятелей. Большинство ее состояло из людей неразвитых, слепо приверженных к старине и не понимавших иных потребностей, но зато они были в более выгодном положении, их роль ограничивалась простым отрицанием.
Развязку борьбы составлял приезд новой императрицы, и обе партии с напряженным нетерпением ожидали этого приезда.
V
Февраля 10-го прискакал гонец с известием о приближении к Москве государыни. Немедленно по распоряжению Верховного тайного совета к ней отправились три архиерея и три сенатора, встретившие ее в селе Чашники. Посланные поздравили императрицу, выслушавшую их с благосклонною улыбкою и удостоившую их милостивым словом; при приеме этих первых депутатов находился сопровождавший Анну Иоанновну и почти не отходивший от нее князь Василий Лукич. Зорко присматривался к ним князь Василий и, как рассказывает Феофан, остро наблюдал за всеми их движениями: «толико, сиречь, трусливо и опасно было оно и властолюбивое шатание».
Из Чашников императрица выехала в тот же день после обеда, а в третьем часу по полуночи прибыла в село Всехсвятское, отстоявшее от Москвы в семи верстах, где и предположила оставаться до торжественного въезда в столицу, назначенного совершиться после погребения тела усопшего императора. По прибытии во Всехсвятское к императрице приехали ее сестры, Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна, а затем начались и торжественные приветствия. 11 февраля, тотчас после погребальной церемонии, из Москвы явились члены Верховного тайного совета, сенаторы и другие сановитые особы; вместе с тем прибыл для почетного караула и батальон преображенцев с отрядом кавалергардов. Государыня встречала всех милостиво и была особенно любезна с верховниками.
Члены Верховного тайного совета просияли от такого благосклонного приема и стали обнадеживаться в успехе предприятия. Через два дня, то есть 14 февраля, все сановники снова приехали во Всехсвятское для поднесения государыне ордена святого Андрея Первозванного. В речи, сказанной князем Дмитрием Михайловичем, верховники просили ее величество принять на себя звание гроссмейстера этого ордена, по примеру предшественников, а самые орденские знаки были поднесены государственным канцлером Головкиным. Анна Иоанновна соизволила благосклонно выслушать речь и принять знаки, но в этот приезд верховники не казались особенно сияющими.
Дело в том, что императрица, слишком уже ласково приняв явившихся для караула преображенских и кавалергардских офицеров, тотчас же самовольно назначила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов, а генерал-поручика Семена Андреевича Салтыкова – полковником Преображенского полка
. От этой милости офицеры, конечно, пришли в восторг и со слезами радости, как рассказывает герцог Лирийский, целовали руки государыне. Одновременно с этим назначением солдаты обильно угощены были водкою, что, разумеется, вызвало горячие изъявления их преданности. В сущности, это было первое нарушение кондиций, так как назначения в гвардию и армию зависели от Верховного тайного совета. Государыня, видимо, желала приобрести расположение войск, а опыты уже столько раз доказывали, что значит войско! Наконец и князь Василий Лукич, надзирающий зорко за императрицею, стороживший ее как «некий дракон», в первый раз заметил в императрице как будто какую-то принужденность в отношении к себе.
Между тем в Москве все приготовлялось к торжественному въезду императрицы, назначенному на 15 февраля по особому церемониалу, составленному Тайным советом. Вся столица пришла в движение и приняла на этот день особенно радостный, торжественный вид. Устроены были двое триумфальных ворот, у Земляного города и у Воскресенских ворот, между которыми по обеим сторонам улицы стояли шпалерами полки: 1-й и 2-й Московские, Выборгский, Воронежский, Копорский, Симбирский, Бутырский и Вятский; от Красной же площади и Воскресенских ворот до Успенского собора, точно так же шпалерами, стояли полки Преображенский и Семеновский. Самые улицы преобразились, усыпанные песком и обставленные перед каждым домом еловыми деревьями, эффектно зеленевшими на снеговом фоне. На всем пути толпились несметные громады народу.
В объемистой золотой карете, запряженной девятью богато убранными лошадьми, ехала императрица. Кучер и форейтор были одеты в лазоревые бархатные ливреи, обложенные золотым позументом; у каждой лошади шел особый конюшенный служитель. По сторонам кареты шли пятеро гайдуков и ехали верхами: на правой стороне князь Василий Лукич, имея за собою генерал-майора Леонтьева, на левой стороне князь Михаил Михайлович Голицын, имея за собою генерал-майора Шувалова. При въезде в Земляной город императрицу встретил семьдесят один пушечный выстрел, а в Белый город – восемьдесят пять выстрелов. На Красной площади ее ожидало духовенство с иконами и крестами. Наконец, когда торжественный поезд вступил в Кремль и императрица вошла в Успенский собор, раздался оглушительный залп из ста одного орудия, сопровождаемый троекратным беглым ружейным огнем всех полков.
Из Успенского собора государыня в сопровождении блестящей свиты вельмож и придворных изволила шествовать в Архангельский, а оттуда в приготовленные дворцовые апартаменты.
Но с великим, радостным торжеством не гармонировало душевное настроение участвующих и зрителей. Лицо императрицы казалось сумрачным и как будто печальным; ее, не привыкшую к таким почестям, загнанную в молодости и всегда забитую, пугали и эти церемонии, и эти громкие крики. Лица верховников были озабочены и пытливы, а в массах зрителей, сквозь любопытство, пробегало невольное беспокойство о будущем. Народ инстинктивно понимал, что все делается как-то не так, не по-прежнему, и что самое избрание императрицы вышло какое-то странное. О державных правах даже и отца-то ее, Ивана Алексеевича, в народе не сохранилось никакой памяти по немощности его, слабоумию и постоянному отдалению от правительственных дел, а тем более о правах дочерей, повышедших замуж и уехавших. В памяти народной держался резкий и величавый образ Петра как единственного государя, а от него невольно переводились права на детей его, из которых одна величавая и веселая Елизавета пользовалась полною его симпатиею. Да и можно ли сравнивать этих двух двоюродных сестер, Анну и Елизавету: одна, невольно наводящая тоску осенней невзгоды, другая светлая и сияющая.
Под тяжелым впечатлением расходился народ с церемонии.
В первые же дни по прибытии избранной императрицы должен был решиться вопрос о присяге, вопрос весьма важный, так как им главным образом всенародно очерчивались будущие отношения правительственной власти. Верховники занялись им тотчас же. Верный своей идее, князь Дмитрий Михайлович предположил составить новую форму присяги, в которой бы клятва произносилась общая, на имя государыни и Верховного тайного совета.
– Лучше, по-моему, – говорил он, насупливая густые брови, – зараз поставить так, чтобы всяк понимал и не имел никакого шатания в разуме своем.
Но это решительное мнение встретило возражения почти от всех его товарищей-верховников. Великий канцлер Головкин, большой любитель компромиссов и полумер, первый заговорил о рискованности, о том, что подобная резкая перемена непременно возбудит общее неудовольствие и может погубить их всех. За ним вице-канцлер Андрей Иванович не преминул вставить свое иностранное происхождение, вследствие которого будто бы неминуемо должно было возникнуть обвинение в своекорыстных расчетах иностранца. С мнениями канцлеров согласились и остальные – Голицын и Долгоруковы.
В чем же должно состоять изменение? А оно необходимо ввиду изменения значения Верховного совета – в этом согласны были Голицыны и Долгоруковы, но не согласны Головкин и Остерман, высказавшие наконец мысль, что особенной надобности нет в новой форме присяги, как не имеющей никакого влияния на значение Верховного совета.
Несколько дней прошло в совещаниях и спорах; наконец решено было на том, чтобы в присяге выразить ограничение самодержавия словами клятвы на имя государыни и отечества.
Мучились верховники в сочинении новой реформы присяжного листа, но не менее мучилась напряженным ожиданием оппозиционная партия, а в особенности владыка Феофан Прокопович. Каждый день бегали секретари из Синода в канцелярию Тайного совета за новою формою, но каждый день получался один и тот же ответ: «Не готова». Убежденный в существенных переменах, Феофан, желая подготовить противодействие, витийствовал в Синоде, в кругу собравшегося духовенства, и везде, где только мог, о том, что «великое весьма дело есть присяга и вечно наводит бедство, если кто присягнет на то, что противно совести, или чего и сам не хощет или не ведает».
Каково же было изумление сладкоглаголивого Феофана, когда вдруг, неожиданно, утром 20 февраля, в собрание Синода прибежал секретарь совета с приглашением пожаловать в Успенский собор для совершения присяги, где уже находились верховные господа и вельможи. Смутились архиереи, а еще более сам знаменитый вития.
– Не идем в сонм зложелательных, – начал было говорить он духовенству, но ему заметили с должною настойчивостью, что собор окружен войском и что сопротивление может повести только к неприятным последствиям. Архиереи убедились и немедленно отправились в собор, а за ними и сам вития Феофан.
При входе духовных в собор, наполненный уже всеми военными, придворными и статскими особами, князь Дмитрий Михайлович подошел к Феофану Прокоповичу и высказал просительским голосом:
– Соблаговолите, преосвященный владыка, первые учинить присягу, яко пастырь всего народа и предводитель духовных дел.
На это упрямый предводитель духовных дел прежде всего потребовал разрешения сказать приличное слово. В этой речи он, точно так же, как и в Синоде, распространился о бедствиях, совершающихся от необдуманно данной клятвы, предостерегал всех присутствующих не торопиться присягать и в заключение потребовал предварительного прочтения вслух присяжного листа.
– Не подобает черноризцу… – заговорил было своим суровым голосом князь Дмитрий Михайлович, но и на этот раз его товарищи, заметив общее волнение, поспешили вмешаться согласием на просьбу архипастыря. Потребовали подлинный присяжный лист, и, к общему изумлению, налицо не оказалось в храме ни одного экземпляра, из чего Феофан выводит заключение, как «фракция оная все торопко и непорядочно делала, и в затейках своих больше имела страха, нежели упования». Наконец принесли форму, прочли, и так как в ней все изменение заключалось только в опущении слова «самодержавие» и в добавлении, что присягают «государыне и отечеству», без упоминания «осьмомочия», по выражению Феофана, то все духовные и сановники присягу в обыкновенном порядке совершили.
За присягою в Успенском соборе безостановочно последовала присяга остальных жителей столицы и в провинциях. Таким образом обойден был этот первый подводный камень.
VI
С самого приезда в Москву Анна Иоанновна не улыбалась. Пасмурная и грустная, с угрюмо нависшими бровями, она, видимо, тосковала в московском дворце. Жаль ли ей было прежней митавской жизни, скудной средствами, но, по крайней мере, свободной в домашнем быту, или сердце изнывало по оставленном друге в Митаве, или ее не привыкшей к сдержанности природе слишком претило постоянное шпионство Василия Лукича, но только со дня на день государыня становилась все более озабоченнее и раздражительнее. Впрочем, надзор Василия Лукича действительно мог раздражить и натуру более спокойную и мягкую. Поселившись во дворце, рядом с покоями императрицы, и выказывая ей в публике все знаки верноподданнического уважения, он в то же время в интересе своих товарищей-верховников, а может быть, и в надежде воротить к себе когда-то мимолетную благодарность государыни, отдалял от нее всех, следил за каждым ее движением, за каждым шагом, не допуская к ней без себя не только мужчин, но даже и многих дам. Истинно, как «некий дракон»!
Целый час ходит императрица своею обыкновенною тяжелою поступью по своему апартаменту из угла в угол, молча, иногда перебрасываясь словами со старшею сестрою Екатериною Ивановною.
– Что ты за императрица? – чуть ли не в сотый раз повторяет Екатерина Ивановна, особенно не любившая верховников, обошедших ее перворожденные права. – Воли ты имеешь меньше, чем мы.
Анна Иоанновна продолжала ходить, как будто не вслушиваясь в слова сестры.