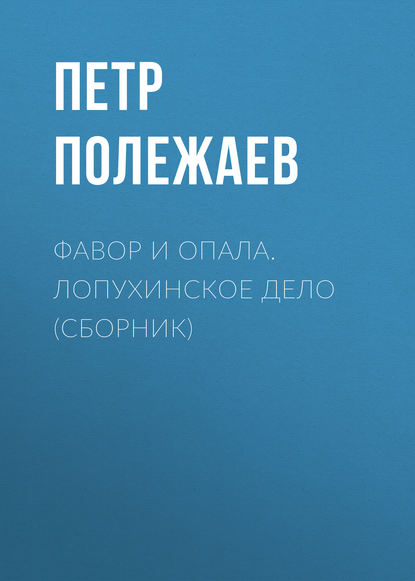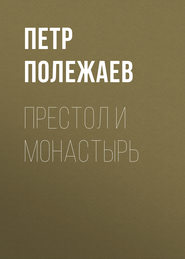По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Казнить тяжело, Андрей Иванович, не хотела бы казней… разве уж по крайности… Да вот еще что. По своей воле и по твоему совету я уничтожила Преображенский приказ и дела велела передать в Сенат… Ко мне теперь пристают господа Сенат, что дел много им несвойственных, волокита будет, просят взять от них те дела… Вот и Эрнст, граф, тоже говорит, будто во всех европейских государствах злоумышления на царское величество ведаются особо, а наипаче же здесь, при мятежническом духе. Как быть?
– Если благоугодно вашему величеству потребовать от меня, вашего преданнейшего и всенижайшего раба своего, консидерации по сей материи, то я осмеливаюсь доложить, что все опасения мятежнического духа преувеличены. Народ и шляхетство здесь смиренны и не способны к пертурбациям… Существуют действительно некоторые особые фамилии, интригующие, но они, как растения без почвы, не могут произрастать, и их опасаться нечего, для вящей же крепости и устранения всякой сумнительности я полагал бы достаточным увеличить комплект преданной гвардии новым полком, под руководством надежных людей, а главное, переехать в Санкт-Петербург.
– Недобрую память оставил по мне ваш Петербург… везде болота… вода… Здесь кости отца моего…
– Вода служит, ваше величество, знатным проводником для иностранных альянсов, а блаженной памяти премудрый дядя ваш в основании Петербурга имел особую партикулярную цель. На московской почве не могло произрасти насажденное им дерево, понеже новые порядки требовали и нового места. В Петербурге, августейшая государыня, мятежного духа не пребывает, а только рабы по рангам.
– Подумаю… а насчет регимента гвардии спасибо за совет. Поговорю с Рейнгольдом Ивановичем… Ну, теперь, Андрей Иванович, прощай.
Вице-канцлер опустился на колени и, почтительно поцеловав благосклонно протянутую ему руку, удалился.
Несмотря на видимые знаки благосклонности императрицы, граф Остерман, однако же, постоянно казался озабоченным. Его, как человека дальновидного и всегда смотревшего вперед, заботила будущность престолонаследия. Если императрица останется вдовствующею, кто будет ее наследником? Опять смута, а в смуте могут исчезнуть труды того единственного человека, планам которого Андрей Иванович был верным рабом, которого предначертаний он будет верным исполнителем до могилы. Необходимо устроить брак государыни, решал он, обдумывая выгоды того или другого альянса и советуясь с своею супругою, знавшею до тонкости характер императрицы, но Марфа Ивановна на все комбинации мужа только щурила глазки да сомнительно покачивала головою. С целью лично поразведать он и ехал на заседание в Измайлово, но, взглянув на домашние отношения императрицы, сам убедился в бесполезности всякой попытки. Нечего и говорить, что предложение графа Вратиславского было сделано под тайным влиянием Андрея Ивановича, и Бирон инстинктивно угадал истинного виновника, по обыкновению оставшегося в стороне.
X
Получив повеление императрицы, Андрей Иванович решился покончить с противными Долгоруковыми под каким бы то ни было благовидным предлогом. Так как выставлять основанием обвинения неосторожную откровенность князя Василия Лукича было неловко, то в обвинительном манифесте о ссылке Алексея Григорьевича в Березов, о духовной не упомянуто ни слова, а исчисляются только вины князя Алексея относительно зловредного воспитания покойного императора, преступного небрежения к его здоровью и похищение государственных достояний. В обвинительном же манифесте о заточении князя Василия Лукича в Соловках сказано неопределенно: «…о многих против государыни бессовестных и противных поступках».
В конце сентября 1730 года Березов оживился приездом семейства Долгоруковых, состоявшего из старого князя Алексея Григорьевича, жены его, сына Ивана с женою Натальею Борисовною, трех братьев Ивана и трех сестер, в числе которых была и «разрушенная невеста» Петра II, с прислугою в пятнадцать человек и с сопровождавшею их командою.
Тяжело было положение прибывших узников, много тяжелее положения Меншиковых. Их по прибытии тотчас же заперли в острожек с полным запрещением выхода. К довершению несчастья, и финансовая сторона не могла облегчить их участи. Лишенное по конфискации всех своих вотчин и движимости, все семейство должно было жить только деньгами, отпускаемыми на содержание его от казны, по одному рублю в сутки, тогда как даже самые необходимые съестные припасы, привозимые туда, были неимоверно дороги. Вследствие таких скудных средств, опальные, привыкшие к расточительности, принуждены были довольствоваться похлебкою, которую ели деревянными ложками, и водою в оловянных кружках.
Однообразно, утомительно и бездеятельно потянулась жизнь заключенных. Бумагу, чернила и книги им запрещено было давать, и мужчины весь день оставались без дела. Только для женщин сделано было исключение: им дозволялось заниматься рукоделием. И они воспользовались позволением, постоянно занимаясь кроме домашней швейной работы рисованием и вышиванием священных изображений на материях и шитьем церковных одежд. В Воскресенском соборе и до сих пор хранятся две священнические ризы с орденскими звездами святого Андрея Первозванного на оплечьях. Одна из этих риз шита дочерьми князя Меншикова, а другая – дочерьми князя Алексея Долгорукова.
Если и в фаворе семья Долгоруковых отличалась сварливостью, то теперь, когда лишения ожесточили их друг против друга, взаимные ссоры, брань и упреки сделались ежеминутными. В особенности раздражение усилилось после смерти матери, жены Алексея Григорьевича, умершей через месяц по приезде в Березов. Более всех доставалось лучшему из них, князю Ивану, которого сестра и отец обвиняли в умышленной оплошности относительно подписи покойным императором духовной.
– Ну что, доволен? Рад? – подступал к сыну Алексей Григорьевич. – Упрятал-таки отца в каторгу… Ну да подожди… не вечно же этой Анне царствовать, будет и на нашей улице праздник…
– Из ненависти ко мне ты всегда отводил государя от меня, тебе бы только самому величаться… – упрекала, с другой стороны, «разрушенная невеста» брата, забывая, что холодность покойного государя была вызываема не другими, а ею самою.
Не помнила она, как, бывало, царственный отрок, истощенный физически, иной раз желал бы встретить в невесте не продажную любовь, а нравственную поддержку здорового чувства, в котором так нуждался, но находил только одну холодную готовность к исполнению пожеланий государя. Другой образ стоял тогда между нею и царственным женихом, стоял постоянно, незримо, заставляя отворачиваться от сердечного призыва и отдаваться бездушно правам жениха. Страшный удар, оторвавший от нее блестящую будущность, оторвал вместе с тем и другой, милый образ, оставив пустоту, в которой свободно стала бродить семейная закваска эгоизма.
Защищала Наталья Борисовна мужа, да бесполезно; изредка только удавалось ей перенести брань и ругань с мужа на себя, и тогда она была довольна. Наконец эти ссоры приняли такие размеры, что заведовавший караульною командою вынужден был описать об них высшему начальству, откуда и последовал высочайший указ: «Сказать Долгоруковым, чтобы они впредь от таких ссор и непристойных слов, конечно, воздержались и жили смирно, под опасением наижесточайшего содержания».
Прошло семь лет. В довольно просторной комнате бревенчатой избы, как видно недавно срубленной, живет несчастное семейство Долгоруковых в Березове. Изба, как и все простые русские избы, с тем же крылечком, с колонцами и с навесом, с обширными сенями, с горницею, в которой большая русская печь занимает чуть ли не треть всего пространства; в светлице брусевые чистые стены, лавки кругом, в переднем углу простой некрашеный стол перед образами в поставце, полки у печи с незатейливою посудою. Нет никаких вычурных украшений – да и не сумели бы их срубить простым топором березовские плотники. Имеются, однако же, и орнаменты, которых не встретишь нигде, – предмет постоянной любознательности высшего березовского общества и утешения самих хозяев. На стене рядом висели три топорные рамки с двумя патентами и манифестом. Оба патента – один о назначении Ивана Алексеевича гофюнкером, другой о назначении обер-камергером – за подписью покойного друга, императора Петра II, а манифест, с раскрашенным бордюром, о кончине Петра и о воцарении императрицы Анны Иоанновны. В поставце, под защитою образов, хранится драгоценная книга, писанная церковно-славянским уставом, о коронации Петра II, в похвалу его императорского величества, а в книге не менее драгоценная картина, изображающая «персоны императора Петра, сидящего на престоле, и России стоящей перед престолом на коленях, в образе девы в русском одеянии». Оставались еще припрятанными и утаенными от фискального погрома и многие другие ценные вещи, но не дорожили ими хозяева, без сожаления назначая их на подарки разным березовским власть имеющим лицам. С патентами же и с книгою хозяева не разлучались при жизни своей. Они были единственным утешением в нескончаемо долго тянувшиеся годы.
Семья Долгоруковых все в том же составе: Иван Алексеевич с женою Натальею Борисовною, братья Николай, Алексей и Александр, сестры Екатерина, «разрушенная невеста», Елена и Анна, недостает умершего года три назад от горячки самого старика Алексея Григорьевича, да прибыл сынок князя Ивана, семилетний мальчик Михаил.
Непродолжительно лето в Березове, но именно вследствие этого оно и имеет особенную прелесть. При этой быстро развивающейся жизни нет возможности усидеть в четырех стенах; так и тянет в поле дышать свежим воздухом, успокоить глаз на яркой зелени и разнообразии оттенков далеко раскинувшегося пространства.
Из мужчин Долгоруковых никого нет дома. Иван Алексеевич пошел к кому-то в гости – после смерти отца он опять пустился в прежнюю разгульную жизнь, поливаемую крепким зельем; братья – кто в ближний лес за дичью, кто в реке ловить рыбу для семейного обеда. В горнице оставалась Наталья Борисовна у оконца с вечною работою, сшить то, починить другое, заштопать третье в белье большого семейства, да младшая из сестер, Анна, подле топившейся печки.
– Наташа… Наташа! Где братец Иван?
– Не знаю… Верно, пошел к Петрову или к отцу Федору
.
– Нет, Наташа, не у них бывает Иван. От них он не возвращался бы таким сердитым, не придирался бы к тебе за каждую малость.
Девушка замолчала. Наталья Борисовна наклонилась еще ниже над работою, слезы текли на вышивание и застилали глаза.
– Наташа! – снова послышался голос девушки. – Где братья?
– Пошли в лес да на реку; может, принесут нам чего на обед.
– Я есть хочу, Наташа!
– Подожди, милая, скоро они вернутся. Приготовить недолго… А уж если очень проголодалась, так возьми отрежь хлеба да посоли.
Девушка отрезала себе ломоть от каравая черного хлеба и, густо посолив его, с удовольствием съела.
– А где, Наташа, сестра-государыня? – опять начала свои допросы утолившая голод княжна. В семье старшую сестру даже заочно всегда называли государынею.
– Вышла… на задворки. Слышишь, у калитки с кем-то говорит.
Действительно, от ворот временами доносились звуки отдаленных слов; смысла разговора разобрать было невозможно, но, однако же, слышалось, что какой-то пьяный, хриплый голос то требовал, то умолял о чем-то, а в ответ отзывались односложные слова сердитого женского голоса.
– Фролка Тишин с сестрицею на скамейке у ворот, – определила княжна, прислушавшись к голосам. – И чего этот Фролка пристал к государыне-сестрице… прохода ей не дает… Наташа! Наташа! Отчего Фролка за сестрицею все бегает?
– Так, милая, любит разговаривать с нею… – уклончиво объяснила Наталья Борисовна.
На широкой скамейке у несколько покосившихся ворот сидели тобольский таможенный подьячий Фрол Тишин и «разрушенная невеста».
Фрол Филиппович Тишин, бывавший и прежде в Березове по делам службы, в последнее время заметно участил приезды. Познакомившись с семейством Долгоруковых, он скоро сделался их постоянным, хотя и нежеланным, гостем. Грубый мужицкий говор подьячего никак не мог подходить к утонченному вкусу князей и княжон, но делать было нечего. Подьячий тоже своего рода была сила, перед которою не раз приходилось заискивать развенчанному семейству. Не раз его услужливость выручала бедную семью из голодной нищеты, снабжая ее то тем, то другим из необходимых житейских потребностей. Да и, кроме того, как лицо должностное и видное у начальства, Тишин мог повредить, мог доносами или неосторожным словом у начальства стеснить еще более заключение, которое в последнее время стало свободнее. Правда, в них принимали участие все сильные люди Березова, воевода Бобровский, майор Петров, все гарнизонные и казачьи офицеры, но разве все это не могло измениться снова? Разве не могло быть нового доноса? Был же ведь донос два года тому назад от мещанина Ивана Канкарова и потом, позже, от офицера Муравьева. Наезжали следователи, приезжал из самого Петербурга капитан Рагозин, обыскивали, отобрали уцелевшие было некоторые вещи, но, к счастью, особенно дурных последствий не было. Канкаров, объявивший первый «слово и дело», оказался сумасшедшим, а по муравьевскому доносу только и было, что отобрали вещи да на некоторое время стеснили свободный выход из острожного помещения, даже не запретили посещений заключенных местными обывателями.
Фролку в Березове не любили. Помимо общего нерасположения и недоверия ко всем подьячим того времени, получавшим от своей грамотности обильный доход, выжимавшим разными кляузами и крючками у бедного люда последние крохи, самая личность Тишина по наружности и по манерам от себя отталкивала. Сизый расплывшийся с бугорками нос, серенькие глазки с белобрысыми реденькими ресницами, бегавшие неспокойно, широкие, мясистые губы, раскрывавшиеся вплоть до ушей и выказывавшие желтые с черными пятнами огромные зубы, хриплый голос, сильный, отшибающий даже самое неприхотливое обоняние, ему только свойственный запах, конечно, не могли составить особенной привлекательности. Вдобавок к безобразию Фролка был ревностным служителем Бахуса и в особенности Венеры, и редкой из молодых и пригожих обитательниц Березова удавалось ускользнуть из его пахучих объятий.
Этому-то Фролке понравилась «разрушенная государыня-невеста». Бывая все чаще и чаще в Березове, он скоро сделался домашним человеком в семье Долгоруковых, привозя с собою каждый раз подарочки, то гребешок для расчески роскошной косы Екатерины Алексеевны, то пряников с разными другими сластями, то материи для платьев. С самим Иваном Алексеевичем он сошелся по-дружески, угощая его привезенным вином. Беззаботная и открытая натура князя Ивана легко поддавалась всякому влиянию, хорошему и дурному, и скорее дурному, так как это более совпадало с его легким воспитанием. Иван Алексеевич стал по-прежнему пить, только не прежние заморские вина, а простую русскую сивуху. Все чаще и чаще становились угощения, и все чаще стал возвращаться домой князь Иван пьяным, в развратном виде, сварливым и придирчивым.
Тяжелее отзывалась эта перемена на бедной жене его, Наталье Борисовне, на которой лежала вся житейская забота о всем семействе. Пожертвовав блестящим положением, состоянием, молодостью и красотою для выбранного ее сердцем, она безропотно несла и теперь свой тяжелый, непосильный крест. К несчастью, жертва ее оказывалась бесплодною и не оцененною. Напрасно она изобретала тысячи средств удержать мужа дома, отвлекать его от ежедневных попоек, в которых погибали его здоровье и вся будущность, напрасно она старалась ободрить его возможностью возврата к прежнему величию, в чем подавали некоторую возможность родные и близкие, с которыми она вела деятельную переписку, но князь Иван втягивался в разгульную и безобразную жизнь все глубже и глубже.
Из всех гульливых товарищей мужа Наталья Борисовна более всех не любила подьячего Фролку. Чуяло сердце ее, вечно страдающее за любимого человека, угадывало в нем не простого гуляку и пьяницу. Сколько раз ей удавалось вовремя предостеречь мужа от нескромной болтовни или дать невинный оборот какой-нибудь дерзкой и озлобленной выходке против угнетательницы. Иван Алексеевич в редкие трезвые минуты сознавал справедливость слов жены, порою давал слово исправиться, быть осторожным, но все эти благие решения продолжались только до первой рюмки, до прихода Фролки.
– Ныне не государыня у нас, – заговаривал обыкновенно князь под пьяную руку, – а шведка. Знамо, за что она жалует Бирона-то… Знамо, про что сгубила и нашу фамилию. Послушала Елизавету, а та зла на меня за то, что я хотел, когда был в фаворе, заключить ее в монастырь по легкой ее жизни…
– Негоже говорить такие речи, князь, а лучше бы Бога молил о здоровье ее государского величества, – подзадоривал Фролка хмелевшего князя.
– А что? Доносить хочешь? Да где тебе доносить! Ты ведь сибиряк! А донесешь, так первому же голову снесут… – успокаивался князь.
– Доносить не пойду, а донесет, пожалуй, майор Петров.
– Ну, этот из наших… не донесет. Немало получал подарков, – неосторожно проговаривался Иван.
Таких-то откровенных речей и добивался Фролка. Ими он заручался, обеспечивал свое влияние и ставил опальное семейство в зависимое от себя положение. Чем более проговаривался князь, тем дерзче становился Фролка, тем яснее становились его наглые требования от «разрушенной невесты».
И теперь, в это утро, увидев уходившего из дома князя Ивана, Фролка, с утра полупьяный, поспешил отправиться к острожку, где на широкой скамейке у ворот увидел сладкий предмет своих пожеланий.
Катерине Алексеевне только что минуло двадцать два года, но раннее свободное обращение как с невестою развило ее уже женщиною. Она не отличалась ни бросающеюся красотою, ни симпатичностью, но развившийся стройный стан, видный даже и в грубой местной одежде, довольно правильные черты лица, снежный цвет кожи, сохранившейся и в суровом березовском климате, грациозность манер отличали ее от самых красивых березовских девушек.