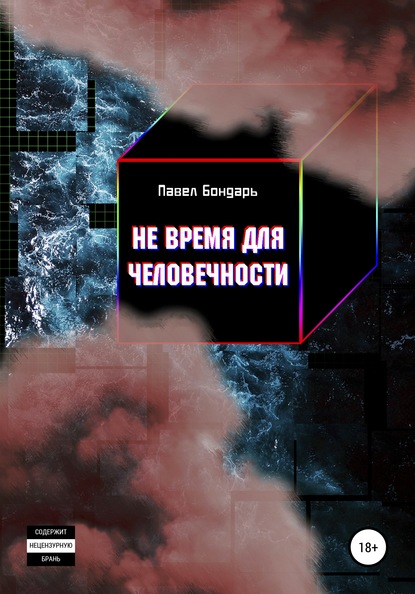По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не время для человечности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разве богу нужны доспехи?
– В монотеизме – нет, не нужны, конечно. Но тут другой случай.
– Ладно. А что это такое? Какой-то сценарий, что ли…
– Похоже на то. Я же говорю, мы – отстраненность. Холодная, черствая и безопасная.
– Что ж, тогда приступим.
– Так почему ты думаешь, что это кому-нибудь нужно? Только из-за откровенного характера графомании тебя надо выслушать, понять и помочь, так что ли? Сколько раз все доказывало уже свое равнодушие к сколь угодно сильным чувствам, как много ты уже получил подсказок и намеков на то, что вселенная пуста, безразлична, непознаваема и чужда справедливости, а тебе все кажется, что чем хуже кому-то, тем больше ему должно за это воздаться. Нет, не должно. Страшно посмотреть правде в глаза и признаться, что мы все – обреченные куски мяса, нарезаемые в фарш собой же, идеальным пыточным инструментом? Тебе жутко поверить, что все ровным счетом ничего не значит, тебе ужасно хочется думать, что ты уникален в этих страхах, кошмарно представить, что это не так, чудовищно – понимать, насколько же твои чувства и мысли избиты. А что, если все живут с этими тоской и ужасом, и только ты не можешь удержать их в себе, потому что ты – самый трусливый, тупой и слабый человек на свете? Что, если ты запутался уже достаточно, чтобы не понимать разницы между чем угодно очевидным для других, не можешь адекватно оценить себя и свои мысли, поступки, и, словно слепец, идешь по пустыне, воображая каждый шаг – шагом по краю пропасти, а свой неровный путь в зыбучих песках – героическим поиском смысла у самых пределов познаваемого? Это жалко и мерзко – такая презренная неспособность принять свою ограниченность, нежелание вместо побега от бессмысленной пустоты себя самого и выдачи бездарного беспорядка в голове за сложные концепции попытаться жить в заданных границах. Ей богу, не понимаю, что такого плохого в том, чтобы быть как все?
– Я не хочу быть как все, я хочу знать, что все – как я. И остальные хотят того же – видеть свои отражения в других людях, чтобы постоянно быть уверенными в своей нормальности.
– Хватит быть фаталистом, дружище. Научись, наконец, отпускать и забывать, перестань пытаться думать обо всем сразу и решить все проблемы одновременно, не растрачивай силы попусту, ведь всего сразу тебе не удержать. И никому не удержать. Убей в себе любую веру, растопчи остатки надежды – и сразу станет легче, без дурацкого груза переживаний.
– В этом все дело, разве не видишь? Если принять бессмысленность за норму, если вовсе отрицать необходимость смысла, то любые твои действия теряют… Ну, понимаешь? Ты хочешь выбить из-под человека стул и ждешь, что он останется висеть в воздухе. Стул для него абсолютно реален, это не самообман и не плацебо. Ты или стоишь на стуле, или болтаешься в петле, третьего варианта нет.
– Мы нигде не висим, мы стоим на земле. Я говорю, что стул тебе только кажется, как несуществующая последняя ступенька лестницы, по которой спускаешься в темноте. И ты этого не поймешь, пока не сделаешь шаг. А вот петля – если продолжать твою глупую метафору – да, петля вполне реальна, и ты ее уже накинул себе на шею, и ничто не помешает тебе подпрыгнуть и поджать ноги, вообразив, будто из-под тебя выбили стул.
– Откуда тебе знать, что ты не висишь? Как можно в чем-то быть уверенным, живя в мире, где нет чудес, истины и откровений? Если их нет, то логично принять за чудо то, что кажется обыденным. А низводить все чудесное до уровня правил и законов, которые ты все равно не сможешь понять до конца, но будешь ревностно классифицировать и упорядочивать – это разве не другой вид фанатизма, в белом халате и перчатках, но такой же иррациональный? Разве в итоге мы не приходим к чему-то, что не можем раскладывать на части дальше, вынужденно принимая это за божественную частицу?
– Ну вот, ты это сделал. Привел непробиваемый аргумент. Только вот я не фанатик, так что тут ты промазал. Если познать мир принципиально невозможно, то стоит отвергнуть познание.
– Так ведь не выйдет. Люди мечутся в поисках истины не потому, что альтернативы нет, а потому, что не могут принять само понятие альтернативы своему мироощущению. Каждая моя мысль, всякое чувство, даже самое болезненное и мрачное, уже сами по себе приносят наслаждение, возможность упиваться сознанием, его многогранностью и глубиной. Парадокс человека в том, что он не способен принять высшую точку чего угодно за последнюю. Что, если смысл не в нахождении, а в поиске, и в страдании, и в ограниченности тоже? Я просыпаюсь каждый день и продолжаю жить даже не для того, чтобы однажды получить ответ, мне достаточно верить, что этот ответ может быть получен.
– Наконец ты отбросил заигрывания со словами. Почему было сразу не признаться, что ты мазохист и упиваешься своими муками? Вопрос снят.
– Это немного сложнее.
– Как все и всегда. Но если не брать в расчет эту шелуху лишних понятий, которую ты засыпал себе в голову, окажется, что на деле ты свободен.
– Свободен умереть? Свободен сойти с ума? Если это такой тонкий юмор, то я его не понимаю. Мне совсем не смешно.
– А у тебя вообще с юмором не очень. Ты свободен делать все, чего пожелаешь, не заморачиваясь избыточной рефлексией.
– И как же, позволь узнать?
– Понять, что никакая физиология мозга не заставляет тебя бесконечно задаваться надуманными абстрактными вопросами. Это или всеобщая заморочка, или твоя личная психическая аномалия.
– Хорошо, я готов принять, что это всеобщая заморочка. Ты, кстати – прямое тому доказательство. Раз ты меня в некоторой степени понимаешь, хоть и не соглашаешься с моей точкой зрения, то должны быть и те, кто и понимает, и соглашается.
– Откуда тебе знать, что наши личности вообще что-то разделяет? Может это две крайности одного дробящегося в свете рефлексии сознания?
– Я пока не готов к такому повороту.
– Пусть так. А что там со вторым вариантом? Если ты и правда единственный такой чудак? Это бы тебя здорово обрадовало – любые странности можно оправдать своей уникальностью. Но точно знать ты не можешь, вот и приходится осторожно прощупывать всех вокруг на предмет схожести симптомов. Как успехи?
– Если бы я кого-то нашел, этого разговора тут не было бы, а мы бы мирно пили чай. Я перестаю быть осторожным – потому что впадаю в отчаяние. Но я пока не готов пожертвовать остатками гордости и приличий, убирая из разговора тебя.
– А ну как ты ими уже пожертвовал? Вдруг над твоей нелепостью уже давно насмехаются те немногие, кто вообще расслышал твой писк и заметил паническую жестикуляцию? Ты всегда недооцениваешь других, причем так сильно, что даже примерно не представляешь, как многое из твоих пафосных и болезненно серьезных откровений совершенно очевидно для окружающих. А реакции нет потому, что для них этот бред не представляет ни малейшей ценности, вот и все.
– Для некоторых даже банальнейшие подробности этого бреда представлялись интересными. Однажды мне на полном серьезе предложили быть предметом исследования для дипломной работы по психологии.
– Ох, как же тебе это, должно быть, польстило! Такого запаса топлива хватит на долгие годы подпитки мегаломании. Ну и что же, ты согласился быть предметом?
– Нет. Я сразу же наглядно продемонстрировал, почему никому не стоит изучать мою психику.
– Знаешь, мы уже довольно долго балансируем между приемлемой формой исповеди и формой совершенно постыдной, и, прислушиваясь к тебе, я делаю вывод, что двойственность разговора не спасет от подозрений в реальном расстройстве. Прошу, не подумай, что это о шизофрении, я имею в виду максимум эмоциональный эксгибиционизм и паранойю.
– А что, если мне плевать? Почему я должен стыдиться этого? Кто сказал, что я должен молчать только потому, что стыдно может стать тем, кто меня услышит? Я ненавижу это табу на нытье. Я бы мог ныть всю жизнь, знаешь ли. Сутки напролет сидел бы где-то в углу и вслух размышлял о том, как же мне плохо и тяжело. Уверен, нашлись бы сумасшедшие, которым бы это понравилось – они бы рассаживались вокруг и с раскрытыми ртами впитывали поток сознания зацикленного на себе эгоманьяка-неудачника. Вслух все соглашаются, что надо быть искренним и открытым, но на самом деле они совсем не готовы к искренности, выходящей за пределы “какой чудесный день, как я всех вас люблю!” Как только доходит до радикальных, мрачных, извращенных, странных, непопулярных мыслей – никто не хочет слушать. Когда дело касается тонких граней личности другого человека, любой из нас скорее готов выслушать лекцию по высшей математике, чем это ужасное чужое “я”.
– Кто так нагадил тебе в мозг, что ты уверен, будто люди хотят быть друг для друга эмоциональными унитазами? Да, мы все эгоисты и помешаны на себе, но в этом нет нашей вины, ведь никто не может видеть и чувствовать за другого человека. Как кто-то должен проникнуться твоими переживаниями, когда они для него – ничто, пустой звук? Как и его переживания для тебя, между прочим. Разве ты когда-нибудь сочувствовал кому-то хоть вполовину так же сильно, как жалеешь себя?
– Да. Ты не поверишь, но я сочувствую всем и каждому, пусть даже и не вижу все с их стороны. Я потому и ненавижу всех нас вместе, что люблю каждого в отдельности, видя неудачи, страх, боль и одиночество, с которыми почти никто не в силах справиться сам по себе. Об одном человеке я думаю почти так же часто, как о себе, а переживаю – куда больше, чем за себя. Вот только я не чувствую, чтобы это делало меня лучше – то ли потому, что я совершенно не умею выражать чувства и мысли эмоциями и словами, то ли потому, что иногда сочувствие бессильно.
– Ого! Слушай, у меня только что родилась бизнес-идея: покупаем бутылки с водой, ты превращаешь ее в вино, и мы загоняем его людям по тройной цене. Потом запишем видео, в котором ты ходишь по воде, наведем шухера в приюте для слепых, на ТВ все быстро просекут и будут платить баснословные деньги за участие в душеспасительных ток-шоу. Нравы сейчас помягче, чем две тысячи лет назад, так что с такой программой мы станем богаче английской королевы. А когда люди поймут, что саранчи и трубящих ангелов не предвещается – вообще станем хозяевами мира!
– Насмехайся-насмехайся. Иисус-то знал, что впереди у него пирушки за отцовским столом и возня с котятами посреди райских кущ, так что я не понимаю, в чем его жертва. Любой закрывающий собой амбразуру солдат совершает более смелый и геройский поступок, ведь он делает шаг в неизвестность, меняя почти невозможное, но все же “вечно” тут на вероятное “ничто” нигде. Такое же вероятное, как и “вечно” “там”, но “там” он и так оказался бы, так что это шаг в полную неопределенность. И все равно даже им движут эгоистичные мотивы – если не билет в рай, то вечная память и благодарность спасенных, короткий миг упоения своей жертвой. А кто согласится пожертвовать всем ради ничего? Так, чтобы о поступке никто не узнал, и чтобы сам он не чувствовал себя святым. Никакой награды, даже самой эфемерной. Представь, что тебе предлагают такую сделку: ты умираешь с концами, перестаешь быть абсолютно и бесповоротно, а остальные умирают и попадают в рай, но никто не в курсе, что это твоя заслуга. Ты отдал все и ничего не получил, а они ничего не отдали и получили все. Ты согласишься? Заметь, если ты выбираешь остаться в живых, то у тебя остается точно такой же пятидесятипроцентный шанс на посмертие, как и у других. Выбираешь смерть – никаких шансов.
– Конечно, я бы не стал умирать! Такие условия настолько далеки от справедливости, что…
– Вот видишь. А ведь это ты говорил, что справедливости не существует. Выходит, мы даже не можем вообразить мир, где за добро не платят добром в самом-самом конце. А ведь это концепция самопожертвования в чистом виде.
– Ладно. Вернемся к твоим жалобам. Если не равнодушие тебя так шокирует, то что?
– Лицемерие. Как несчастные люди умудрились создать цивилизацию, построенную одновременно на вере в красоту мира и на призывах к честности? Как мы смогли так ограничить себя, что живем по взаимоисключающим законам?
– Ну, тут два варианта. Или мы просто не хотим, чтобы нам постоянно напоминали о нашей бессмысленности, а честность подразумеваем обычную, бытовую, или не все видят все в черном цвете. В любом случае, верить, что лицемерие нам не нужно – наивно, так что брось это.
– А я не против, не пойми неправильно. Я всего лишь хочу, чтобы никто не лицемерил, называя лицемерие пороком. Это ведь совершенно в твоем духе – отрешиться от возвышенных идеалов и признать низменное единственно верным.
– И ты не понимаешь, почему сложилось так, что одно из важнейших наших качеств де-юре оказалось вне этических рамок, а де-факто – все так же практикуется с молчаливого всеобщего согласия?
– Да. Представь, что ты наблюдаешь веганскую акцию, в ходе которой они идут по улице с транспарантами и выкрикивают лозунги о защите животных, а после акции заходят в ресторан и заказывают мясо. Ты подходишь к ним и спрашиваешь, почему они едят мясо, ведь это поощрение существующей системы эксплуатации животных. Говоришь, что они ведь только что в двадцати метрах отсюда призывали к прекращению поедания мяса, а теперь едят его сами. На что они тебе отвечают, что не едят мясо. Ты указываешь на содержимое их тарелок. Они говорят что там ничего нет, или что там овощное рагу. Это абсурд, это сюрреализм. Это парадокс.
– Тогда смирись – парадокс на то и парадокс, что искусственен и неразрешим.
– Что я говорил про смирение?
– Напомнишь как-нибудь в другой раз. Нам, кажется, пора выходить, потому что место кончается.
– Я так и не сумел придумать внятного завершения.
– А разве это завершение? Вся дорога еще впереди. Пойдем.
Скорый поезд прибыл на станцию “Синегорье” в пять часов двадцать пять минут пополудни. Из последнего вагона вышли двое, один – в сером двубортном пальто, другой – в черной кожаной куртке с причудливыми нашивками. Тот, что в пальто, встряхнул гривой рыжих волос и потянулся, громко хрустнув каждым суставом тела. Его лысый спутник с выражением брезгливости на лице нацепил солнцезащитные очки и закурил, задумчиво глядя на подножия лежащих далеко впереди гор. Вдруг, словно вспомнив о чем-то важном, он округлил глаза и, отвернувшись, торопливо закинул в рот круглую лиловую таблетку. И, знаете ли, сразу почувствовал себя лучше.
Круг второй. Значение лопастей