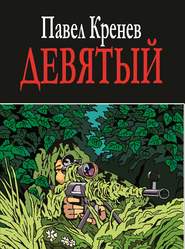По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Берег мой ласковый
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Берег мой ласковый
Павел Григорьевич Кренёв
Проза Русского Севера
В книгу известного современного прозаика включены произведения, повествующие о жизни на Русском Севере – о современных поморах, населяющих берега Белого моря. Это достоверный, правдивый рассказ о людях, живущих в суровых условиях, о их быте, истории, обычаях, об испытаниях, выпавших на их долю за последние сто лет.
Автор книги – сам коренной помор, носитель местных обычаев и языка.
Павел Кренёв
Берег мой ласковый
© Кренёв П., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
«И на земли мир…»
Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Лк. 18; 16
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.
Мф. 18; 10
Что-то зашабарчало на крыльце. Вроде бы кто-то пришел и начал подниматься по ступенькам, потом шаги стихли. Но сквозь ветер, ударяющий о стену и шелестящий в пазах, пробивались звуки, говорящие о том, что на крылечке кто-то примостился, сидел там и не уходил. Тяжело поскрипывали толстые доски, пошаркивали чьи-то каблуки.
Мать, глубоко верующая, а потому всегда спокойная и равнодушная ко всяким несуразным страхам, отчего-то вдруг заволновалась, напряглась на своем низеньком стульчике, вытянула шею, с тревогой в глазах запоглядывала на сына, сидящего за кухонным столом и корпящего над уроками.
– Чого оно тамо где? На крылечки-то. Али пришел ето хто? Глянь-ко, Егорушко.
Сынок оторвался от своей «арихметики», соскочил с конца лавки, сунул босые ноги в катаночьи обрезки, раскиданные в углу избы, и раздетый, без шапчонки, выскочил на крыльцо. Ему самому давно уж хотелось хоть ненадолго убежать от книжек и тетрадок, от обрыдлого занятия, да размять малость ноги.
На крылечке спиной к нему сидел-посиживал местный письмонос Артемко, сидел почему-то согбенный и смирный в эту минуту, совсем не похожий на себя. Обычно бывал он шумным, матершинистым и веселым. Когда шел по деревне, то в любую минуту из любого конца деревни можно было определить его место нахождения. Вокруг него всегда гуртовался народ, вседа рядом с ним крики, хохот и веселая ругань.
А тут разместился на крылечке и помалкивал, сидел, обняв одной рукой свой почтовый мешок из старой замызганной парусины.
Отчего-то не заходил в дом. На Егорку глянул мельком и отвернулся.
– Дак, заходи, давай, дядя Артем, заходи-тко в избу-то. Холодно ведь тутова, – сказал ему Егорко приветливо. Он уважал почтальона за доброту и за простоту. И тот всегда уж ласково трепал ему вихры, когда встречал на улице.
А Артем отчего-то медлил, только спросил вполголоса:
– Агафья-та дома, аль нет?
– Сидит мама, шерсть чипат, дома она.
Почтальон как-то нехотя, невозможно кряхтя, поднялся на ноги, покачал головой и пошел в дом. Егор за ним.
Агафья выбирала из кучки овечьей шерсти, лежащей на расстеленных на полу газетных листах, всклокоченные спутанные комочки, понемногу раздергивала их и укладывала на стальные крючки старенькой чипахи. Потом накрывала другой и шаркала чипахами в разные стороны. Через малое время поднимала верхнюю чипаху – и перед нею оказывался воздушно-мягкий, чистый и пушистый шерстяной пучок, готовый к укладке в прялку, к тому, чтобы скать из него ровное шерстяное прядено.
Переступив порог, Артем повернулся к образам, сотворил короткую молитву и перекрестился. Потом стал перед Агафией.
– Здрава будь-ко, большуха Агафья Онисимовна, – сказал он негромко и вдруг заторопился, запустил руку в сумку и достал из нее большой серый конверт. Скособоченно как-то подшагнул к хозяйке и положил конверт к ней на колени. Вынул из мешка еще одну бумагу, ткнул пальцем в какую-то клеточку на ней и велел в этой клеточке расписаться.
– Это мне под отчет надо, – сказал он хрипло.
Агафья расписываться не умела, она нарисовала в указанном месте крестик.
Почтальон ничего больше не сказал, сунул бумагу в мешок и выскочил за дверь. Его шаги грузно протарабанили по ступенькам. Все стихло.
В вечернем избяном полумраке серый квадрат письма тускло отсвечивал на коленях матери. От него почему-то исходила смутная опасность, нечто взволновавшее душу.
– Чево-то озарко мне, Егорушко, – в голосе матери зазвучала вдруг тревожная нота. Так меняется песня лесной птицы, распознавшей беду, возникшую перед ее птенцами.
– Ты почитал бы мне, Гоша, енти бумаги. Грамотной таперича… А у мня с глазами-то худо нонеча. Ты ведь знашь…
Егорко забрал у матери конверт и осторожно большими овечьими ножницами с боку отстриг тонкую полоску. Достал само письмо. Оно представляло собой лист твердой бумаги, почему-то пахнущий тюленьей ворванью.
– Читай давай, Егорко, читай, чево оне там пишут, еретики ети?
Мать чем-то была встревожена. Оторвалась от своего чипанья. Сидела выпрямленная, настороженная. Глядела на сына растерянно, будто что-то чувствовала. В глазах испуг и страх.
– На конверти-то чего? На конверти-то?
Читал Егорко медленно, спотыкаясь, путая рукописные буквы. Он еще не привык к людским почеркам. У него был всего лишь второй класс начальной школы.
– Му-мур-ман-ская. Это значеть мурманская, чего там дальше? За-го-тови-тель-ная. А, это выходит заготовительная… Мурманская заготовительная зверобойная контора, – с превеликим трудом разобрал он название организации.
– Ну, ну, дак и понятно. Чево в письме-то самом? Прочитай ты ради Христа, – торопила его Агафья.
Сын ее развернул перед собой письмо и начал громко, по слогам зачитывать текст. Читал он долго.
«Васильевской Агафии Анисимовне.
С прискорбием сообщаем Вам, что Ваш муж Васильевский Андрей Павлович скончался во время зверобойного промысла от переохлаждения в результате крупозного воспаления легких на ледокольном судне “Георгий Седов”. Тело его захоронено…»
– Стой-ко, стой-ко, погодитко-се, – не осознала мать сути написанного.
Она сидела с приоткрытым от ужаса ртом. До нее с трудом доходил весь трагический смысл этих роковых, леденящих сердце слов.
– Дак, они ошалели, али как? Чего тако оне пишут-то? Ты, сынок, не спутал там чево?
– Не, мама, тут тако написано.
Павел Григорьевич Кренёв
Проза Русского Севера
В книгу известного современного прозаика включены произведения, повествующие о жизни на Русском Севере – о современных поморах, населяющих берега Белого моря. Это достоверный, правдивый рассказ о людях, живущих в суровых условиях, о их быте, истории, обычаях, об испытаниях, выпавших на их долю за последние сто лет.
Автор книги – сам коренной помор, носитель местных обычаев и языка.
Павел Кренёв
Берег мой ласковый
© Кренёв П., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
«И на земли мир…»
Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Лк. 18; 16
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.
Мф. 18; 10
Что-то зашабарчало на крыльце. Вроде бы кто-то пришел и начал подниматься по ступенькам, потом шаги стихли. Но сквозь ветер, ударяющий о стену и шелестящий в пазах, пробивались звуки, говорящие о том, что на крылечке кто-то примостился, сидел там и не уходил. Тяжело поскрипывали толстые доски, пошаркивали чьи-то каблуки.
Мать, глубоко верующая, а потому всегда спокойная и равнодушная ко всяким несуразным страхам, отчего-то вдруг заволновалась, напряглась на своем низеньком стульчике, вытянула шею, с тревогой в глазах запоглядывала на сына, сидящего за кухонным столом и корпящего над уроками.
– Чого оно тамо где? На крылечки-то. Али пришел ето хто? Глянь-ко, Егорушко.
Сынок оторвался от своей «арихметики», соскочил с конца лавки, сунул босые ноги в катаночьи обрезки, раскиданные в углу избы, и раздетый, без шапчонки, выскочил на крыльцо. Ему самому давно уж хотелось хоть ненадолго убежать от книжек и тетрадок, от обрыдлого занятия, да размять малость ноги.
На крылечке спиной к нему сидел-посиживал местный письмонос Артемко, сидел почему-то согбенный и смирный в эту минуту, совсем не похожий на себя. Обычно бывал он шумным, матершинистым и веселым. Когда шел по деревне, то в любую минуту из любого конца деревни можно было определить его место нахождения. Вокруг него всегда гуртовался народ, вседа рядом с ним крики, хохот и веселая ругань.
А тут разместился на крылечке и помалкивал, сидел, обняв одной рукой свой почтовый мешок из старой замызганной парусины.
Отчего-то не заходил в дом. На Егорку глянул мельком и отвернулся.
– Дак, заходи, давай, дядя Артем, заходи-тко в избу-то. Холодно ведь тутова, – сказал ему Егорко приветливо. Он уважал почтальона за доброту и за простоту. И тот всегда уж ласково трепал ему вихры, когда встречал на улице.
А Артем отчего-то медлил, только спросил вполголоса:
– Агафья-та дома, аль нет?
– Сидит мама, шерсть чипат, дома она.
Почтальон как-то нехотя, невозможно кряхтя, поднялся на ноги, покачал головой и пошел в дом. Егор за ним.
Агафья выбирала из кучки овечьей шерсти, лежащей на расстеленных на полу газетных листах, всклокоченные спутанные комочки, понемногу раздергивала их и укладывала на стальные крючки старенькой чипахи. Потом накрывала другой и шаркала чипахами в разные стороны. Через малое время поднимала верхнюю чипаху – и перед нею оказывался воздушно-мягкий, чистый и пушистый шерстяной пучок, готовый к укладке в прялку, к тому, чтобы скать из него ровное шерстяное прядено.
Переступив порог, Артем повернулся к образам, сотворил короткую молитву и перекрестился. Потом стал перед Агафией.
– Здрава будь-ко, большуха Агафья Онисимовна, – сказал он негромко и вдруг заторопился, запустил руку в сумку и достал из нее большой серый конверт. Скособоченно как-то подшагнул к хозяйке и положил конверт к ней на колени. Вынул из мешка еще одну бумагу, ткнул пальцем в какую-то клеточку на ней и велел в этой клеточке расписаться.
– Это мне под отчет надо, – сказал он хрипло.
Агафья расписываться не умела, она нарисовала в указанном месте крестик.
Почтальон ничего больше не сказал, сунул бумагу в мешок и выскочил за дверь. Его шаги грузно протарабанили по ступенькам. Все стихло.
В вечернем избяном полумраке серый квадрат письма тускло отсвечивал на коленях матери. От него почему-то исходила смутная опасность, нечто взволновавшее душу.
– Чево-то озарко мне, Егорушко, – в голосе матери зазвучала вдруг тревожная нота. Так меняется песня лесной птицы, распознавшей беду, возникшую перед ее птенцами.
– Ты почитал бы мне, Гоша, енти бумаги. Грамотной таперича… А у мня с глазами-то худо нонеча. Ты ведь знашь…
Егорко забрал у матери конверт и осторожно большими овечьими ножницами с боку отстриг тонкую полоску. Достал само письмо. Оно представляло собой лист твердой бумаги, почему-то пахнущий тюленьей ворванью.
– Читай давай, Егорко, читай, чево оне там пишут, еретики ети?
Мать чем-то была встревожена. Оторвалась от своего чипанья. Сидела выпрямленная, настороженная. Глядела на сына растерянно, будто что-то чувствовала. В глазах испуг и страх.
– На конверти-то чего? На конверти-то?
Читал Егорко медленно, спотыкаясь, путая рукописные буквы. Он еще не привык к людским почеркам. У него был всего лишь второй класс начальной школы.
– Му-мур-ман-ская. Это значеть мурманская, чего там дальше? За-го-тови-тель-ная. А, это выходит заготовительная… Мурманская заготовительная зверобойная контора, – с превеликим трудом разобрал он название организации.
– Ну, ну, дак и понятно. Чево в письме-то самом? Прочитай ты ради Христа, – торопила его Агафья.
Сын ее развернул перед собой письмо и начал громко, по слогам зачитывать текст. Читал он долго.
«Васильевской Агафии Анисимовне.
С прискорбием сообщаем Вам, что Ваш муж Васильевский Андрей Павлович скончался во время зверобойного промысла от переохлаждения в результате крупозного воспаления легких на ледокольном судне “Георгий Седов”. Тело его захоронено…»
– Стой-ко, стой-ко, погодитко-се, – не осознала мать сути написанного.
Она сидела с приоткрытым от ужаса ртом. До нее с трудом доходил весь трагический смысл этих роковых, леденящих сердце слов.
– Дак, они ошалели, али как? Чего тако оне пишут-то? Ты, сынок, не спутал там чево?
– Не, мама, тут тако написано.