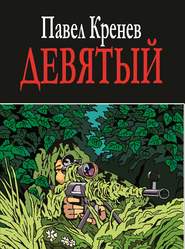По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Берег мой ласковый
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Егоркина мать Агафья ушла с ними тоже. Уложила в пестерек какой-никакой скарб: одежонку на пересменку, да хлебный каравай из самомолотого ячменя. Вышла из дома на зыбкой зорьке светоносного июльского дня, не разбудив сыночка, не перекусив толком, не глотнув горячего чая. Некогда ей было гонять чаи – у колхозного правления к пяти утра, согласно спущенному сверху указанию, уже собиралась сенокосная артель.
Стояла пара мужиков с вилами, с топорами и кучковались, уже подходили к ним все новые женочки. И рыскал промеж всеми вездесущий бригадир Иван Перелогов, неугомонный и неудержимый в колхозном своем рвении. Ему не стоялось спокойно. Тело его все дергалось куда-то вперед, вперед куда-то.
– Че тянитесь, едри бабку, че тянитесь? Итить надоть уж давно! Солнышко запалит – как пошаркаите? Скисните ить, скисните!
Обошел каждую.
– Ты, Дашутка, все взяла? Где брусок? Чем править косу будешь? А ты, Олена?
У каждой гребеи, кроме пестерька, грабли в тугой связке с косой, лезвия обмотаны мешковиной и перетянуты веревками. Путь долгий, тяжелый – двенадцать верст через лес да болота – не шутка. Ежели в дороге чего расхлябается, времени на перевязку не достанет, ждать никто не будет. Беги потом одна по лесу, догоняй народ.
Хоть и знал Егорко, что мать уйдет в лес с косарями, а все же нет никакой радости оставаться дома одному. Проснулся он и понял: нету мамы, он один в доме. И стало ему одиноко и тоскливо. Полежал он в нерадостном настроении. Солнышко уже висело над морем, било лучами по окнам и по нему, лежащему напротив восточной стороны. Ело глаза ярким светом, лежать дальше было невозможно.
Вставать не хотелось. По пустому дому гуляли какие-то звуки; Егорко всегда их побаивался и убегал к матери. Сегодня бежать было не к кому. Осознал он вдруг, что этот застаревший страх поглощается сейчас другим острым чувством. Что ему насущно не хватает гвалда братьев и сестер, которых неосознанно, невысказанно, без памяти любил, не достает дружбы с ними, детских драк, игр, таких привычных в совсем недавнее время. Не хватает той веселой обыденности, которая сопровождала его во все годы осмысленной жизни.
Нет больше отца, его широких, сильных плеч, которые Егорко так любил оседлать.
Ушла на сенокос мать, и бабы Феклисты тоже пока нет. Одному в доме страшно.
Егорку два года назад напугал домовой. Он явственно жил в их доме, все время чего-то воровал, прятал вещи, вечно стучал в стены, в дверь, скребся за печкой и на повети. Все домочадцы знали о его присутствии, чувствовали его, и все относились к нему, как к обыкновенной, даже обязательной принадлежности деревенского дома. И почти не боялись его, потому что он никого не обижал.
А тут напугал.
Егорушко спал в горнице на деревянной лавке около стены, напротив входной двери. В этой же комнате спали на широкой, самодельной лежанке мать с отцом. Вдруг сквозь сон, сквозь глубокое забытье услышал он, как открылась тихонько дверь, и послышались тяжелые шаги, от которых подгибались половицы. Шаги приближались к нему, и Егор почувствовал, что над ним склонился и тяжело дышит кто-то. Этот кто-то стоял над ним и стоял. И даже запах от него исходил, запах старого дома, и еще чего-то старинного и душного. Егорке было нестерпимо интересно: кто же это? Он выпрастал из-под одеяла руку и протянул к тому, жуткому и таинственному. И уткнулся рукой в грубую, длинную шерсть.
Тут же по руке его сильно ударили, и Егорко заорал от ужаса и боли. Подбежала испуганная мать, села рядом, прижала к себе… А он, мальчишка, еще долго не мог успокоиться и уснул лишь на родительской кровати, лежа между матерью и отцом.
А утром пришла к ним в дом баба Феклиста, зашла за печку и выругала домового в пух и прах:
– Ты чего творишь-то, проклятушшой! Ты пошто, змееватик, внучка мово пужашь? Штобы не было больше етого! Вишь, моду взял окаянной! Рыло свое выказал. Вот с иконой приду, да с ладаном, ак будёшь знать, погана твоя морда! Загунь, штоб я больше не слышала тебя! Парня нашего вон как перепугал! Живешь, дак и живи как следоват, а нет, дак и уматывай отсель!
Егорко прибрал постель – и отец и мать всегда требовали убираться за собой. Сполоснул лицо и руки, и на кухне съел то, что оставила для него мать – вареные в мундире две картошины с солью, соленую и тоже вареную сорожку, кусок хлеба и попил холодного морошечного чая.
Бабы Феклисты все не было, и Егорко сунул ноги в шаршаки – старые истоптанные бахильи обрезки – и пошел к морю. Вся деревня ходила к морю, когда выдавалась свободная минута – на морском берегу было всегда веселее. Сел там на полувсосанное в песок, подгнившее, а оттого мягкое бревно и стал глядеть на воду.
На море была «кроткая» вода – самый отлив. И каменистые кошки выпятили на свет Божий покатые, обглоданные штормами валуны, пучки коричневых водорослей.
Но вода уже «вздохнула», потихоньку начинался прилив, и струи приливного течения врывались из-за корги в прибрежное залудье.
Далеко-далеко, за ярко-синей полосой горизонта, как бы из воды поднимался дым. Егор знал уже, что это за дым – там, в самой дальней морской голомени, идет пароход. А дымит он оттого, что двигатель его работает на каменном угле. Ему это растолковала школьная учительница Таисья Павловна. Сейчас кочегары бросают в топку этот уголь, и он при сгорании сильно чадит. Идет пароход в горло Белого моря и везет из Архангельска лес за границу. Там лес продадут, государство на этом заработает деньги, и страна наша будет жить еще богаче. Даже богаче, чем сейчас.
Прямо перед ним за каменистой коргой жировала, гонялась за селедкой белуха Маня. Она показывала Егорке из воды свою белую, гладкую и мокрую спину, кажущуюся на густой синеве морской поверхности боком резвящегося в море белоснежного лебедя, шумно выстреливала из спинного отверстия струю влажного воздуха и опять уходила в глубину за новой добычей.
– Манька, Манька! – позвал ее Егорко.
Он дружил с белухой, и та была для него вроде ручной собачки, всегда откликалась на зов и приплывала за коргу, когда он выходил на берег. Егорко приподнялся на бревнышке и замахал белухе руками. Та, вынырнув, издала гортанный звук – поприветствовала приятеля, фыркнула опять воздухом и ушла под воду.
Егорко понимал красоту моря и хотел бы нарисовать ее, но рисование не давалось ему. А так он изобразил бы и море в шторма, и в штилевую погоду, и проплывающие на горизонте пароходы, и рыбаков в черных просмоленных карбасах, и невода, и чаек, и свою подружку белуху Маню.
Он нарисовал бы свое море.
Посидел он на бревнышке, посидел… Послушал гуляющую по сердцу и разливающуюся по телу тоску. На него вдруг тяжеленным, неподъемным бременем навалилось одиночество. Ушла в сюземки мать, оставив его одного, не меньше, чем на неделю. Вокруг пластался огромный мир с этим бесконечным морем, с полями и лесами, а он, Егорко, был в этом мире один-одинешенек.
Понял он, что не вынести ему одному целую неделю без матери. Что и взаправду помрет он от тоски.
Ему невыносимо захотелось к родной душе, бесконечно ласковой и любимой – к матери.
– Егорушко, вот ты где! Здрастуй-косе, мил человек!
Бабушка Феклиста наконец-то явилась. В выцветшем платочке, в старом блеклом сарафанчике. Видно, что старушка запыхалась спозаранку со своими ягушечками, да двумя баранами, да с домашними хлопотами.
Она кое-как согнула старые свои косточки, поскрипела ими и уселась рядышком с внучком.
– Вот ты валяесся, бедошник, а овечки-то твои по деревни-то и калабродют. Их матка твоя Агафьюшка выпустила из хлева, а им куды девачче? Стоят кол мово дому, да и блеют, срамники. Ну, да я их угостила кусочками, с моима вместе и упехались куды-то. Всяко знают друг дружку, родня, дак чево… Да приду-ут оне, куды деваючче.
Она посидела рядышком на бревнышке, поглядела на море, на морскую даль и спросила:
– Ак, ты-то, мужичок, чево делать удумал? Один ведь. Али ко мне пойдешь, к бабушки своей? Я тебе и рада буду, парнишечку. Да и матка твоя мне заказывала тебя приютить.
Егорко поглядел по сторонам, фыркнул пару раз, как деревенский мужик бы это сделал, потом сказал решительно:
– Не, баба, я к маме пойду. Не могу я без мамы, заскомнал я…
Феклиста вызняла кверху руки, шлепнула ладонями по коленям.
– Поглядит-косе на его, на шаляка! Куды удумал! В сюзёмок хошь! Один!
– Куды ишше? Мама-та ведь тамогде.
– А не пушшу я тебя, парень. Один-то по лесу как пойдешь? Зверье тамогде, ведмедя! Страшшают оне… Замнут, да и все…
– А и страшшают, дак чего? Пойду, да и пойду, дойду всяко! Всяко не замячкают меня…
– А дороги-то не знашь, окаянной! Уведет лешой куды-нинабудь. Загинёшь один-то!
– А я, баба, по следам косарьим пойду. Натопали всяко благошко, пятнадцать человек, заметно всяко…
Феклиста посидела, повсплескивала руками.
– Разумник нашелсе едакой! По следам… Оголодашь тамогде в дороги, замрешь с голоду под кустом…
– Ак, ты, бабушка, положи мне кусок какой… Да и я дома у мамы поишшу. Мама всяко уж оставила.
– Не знай, чо и делать с тобой? Удумал чего не надоть, бедошник… Ты топорик положи в пестерек, да ножик, как без их?
Феклиста с растерянным видом посидела опять, поразмышляла. Ей не удавалось предостеречь от неразумного поступка своего непослушного, самовольного внучка, идущего прямо в пасти лютого зверья. Она бормотала тревожную ругань и все всплескивала руками.
А Егорко твердо сказал:
Стояла пара мужиков с вилами, с топорами и кучковались, уже подходили к ним все новые женочки. И рыскал промеж всеми вездесущий бригадир Иван Перелогов, неугомонный и неудержимый в колхозном своем рвении. Ему не стоялось спокойно. Тело его все дергалось куда-то вперед, вперед куда-то.
– Че тянитесь, едри бабку, че тянитесь? Итить надоть уж давно! Солнышко запалит – как пошаркаите? Скисните ить, скисните!
Обошел каждую.
– Ты, Дашутка, все взяла? Где брусок? Чем править косу будешь? А ты, Олена?
У каждой гребеи, кроме пестерька, грабли в тугой связке с косой, лезвия обмотаны мешковиной и перетянуты веревками. Путь долгий, тяжелый – двенадцать верст через лес да болота – не шутка. Ежели в дороге чего расхлябается, времени на перевязку не достанет, ждать никто не будет. Беги потом одна по лесу, догоняй народ.
Хоть и знал Егорко, что мать уйдет в лес с косарями, а все же нет никакой радости оставаться дома одному. Проснулся он и понял: нету мамы, он один в доме. И стало ему одиноко и тоскливо. Полежал он в нерадостном настроении. Солнышко уже висело над морем, било лучами по окнам и по нему, лежащему напротив восточной стороны. Ело глаза ярким светом, лежать дальше было невозможно.
Вставать не хотелось. По пустому дому гуляли какие-то звуки; Егорко всегда их побаивался и убегал к матери. Сегодня бежать было не к кому. Осознал он вдруг, что этот застаревший страх поглощается сейчас другим острым чувством. Что ему насущно не хватает гвалда братьев и сестер, которых неосознанно, невысказанно, без памяти любил, не достает дружбы с ними, детских драк, игр, таких привычных в совсем недавнее время. Не хватает той веселой обыденности, которая сопровождала его во все годы осмысленной жизни.
Нет больше отца, его широких, сильных плеч, которые Егорко так любил оседлать.
Ушла на сенокос мать, и бабы Феклисты тоже пока нет. Одному в доме страшно.
Егорку два года назад напугал домовой. Он явственно жил в их доме, все время чего-то воровал, прятал вещи, вечно стучал в стены, в дверь, скребся за печкой и на повети. Все домочадцы знали о его присутствии, чувствовали его, и все относились к нему, как к обыкновенной, даже обязательной принадлежности деревенского дома. И почти не боялись его, потому что он никого не обижал.
А тут напугал.
Егорушко спал в горнице на деревянной лавке около стены, напротив входной двери. В этой же комнате спали на широкой, самодельной лежанке мать с отцом. Вдруг сквозь сон, сквозь глубокое забытье услышал он, как открылась тихонько дверь, и послышались тяжелые шаги, от которых подгибались половицы. Шаги приближались к нему, и Егор почувствовал, что над ним склонился и тяжело дышит кто-то. Этот кто-то стоял над ним и стоял. И даже запах от него исходил, запах старого дома, и еще чего-то старинного и душного. Егорке было нестерпимо интересно: кто же это? Он выпрастал из-под одеяла руку и протянул к тому, жуткому и таинственному. И уткнулся рукой в грубую, длинную шерсть.
Тут же по руке его сильно ударили, и Егорко заорал от ужаса и боли. Подбежала испуганная мать, села рядом, прижала к себе… А он, мальчишка, еще долго не мог успокоиться и уснул лишь на родительской кровати, лежа между матерью и отцом.
А утром пришла к ним в дом баба Феклиста, зашла за печку и выругала домового в пух и прах:
– Ты чего творишь-то, проклятушшой! Ты пошто, змееватик, внучка мово пужашь? Штобы не было больше етого! Вишь, моду взял окаянной! Рыло свое выказал. Вот с иконой приду, да с ладаном, ак будёшь знать, погана твоя морда! Загунь, штоб я больше не слышала тебя! Парня нашего вон как перепугал! Живешь, дак и живи как следоват, а нет, дак и уматывай отсель!
Егорко прибрал постель – и отец и мать всегда требовали убираться за собой. Сполоснул лицо и руки, и на кухне съел то, что оставила для него мать – вареные в мундире две картошины с солью, соленую и тоже вареную сорожку, кусок хлеба и попил холодного морошечного чая.
Бабы Феклисты все не было, и Егорко сунул ноги в шаршаки – старые истоптанные бахильи обрезки – и пошел к морю. Вся деревня ходила к морю, когда выдавалась свободная минута – на морском берегу было всегда веселее. Сел там на полувсосанное в песок, подгнившее, а оттого мягкое бревно и стал глядеть на воду.
На море была «кроткая» вода – самый отлив. И каменистые кошки выпятили на свет Божий покатые, обглоданные штормами валуны, пучки коричневых водорослей.
Но вода уже «вздохнула», потихоньку начинался прилив, и струи приливного течения врывались из-за корги в прибрежное залудье.
Далеко-далеко, за ярко-синей полосой горизонта, как бы из воды поднимался дым. Егор знал уже, что это за дым – там, в самой дальней морской голомени, идет пароход. А дымит он оттого, что двигатель его работает на каменном угле. Ему это растолковала школьная учительница Таисья Павловна. Сейчас кочегары бросают в топку этот уголь, и он при сгорании сильно чадит. Идет пароход в горло Белого моря и везет из Архангельска лес за границу. Там лес продадут, государство на этом заработает деньги, и страна наша будет жить еще богаче. Даже богаче, чем сейчас.
Прямо перед ним за каменистой коргой жировала, гонялась за селедкой белуха Маня. Она показывала Егорке из воды свою белую, гладкую и мокрую спину, кажущуюся на густой синеве морской поверхности боком резвящегося в море белоснежного лебедя, шумно выстреливала из спинного отверстия струю влажного воздуха и опять уходила в глубину за новой добычей.
– Манька, Манька! – позвал ее Егорко.
Он дружил с белухой, и та была для него вроде ручной собачки, всегда откликалась на зов и приплывала за коргу, когда он выходил на берег. Егорко приподнялся на бревнышке и замахал белухе руками. Та, вынырнув, издала гортанный звук – поприветствовала приятеля, фыркнула опять воздухом и ушла под воду.
Егорко понимал красоту моря и хотел бы нарисовать ее, но рисование не давалось ему. А так он изобразил бы и море в шторма, и в штилевую погоду, и проплывающие на горизонте пароходы, и рыбаков в черных просмоленных карбасах, и невода, и чаек, и свою подружку белуху Маню.
Он нарисовал бы свое море.
Посидел он на бревнышке, посидел… Послушал гуляющую по сердцу и разливающуюся по телу тоску. На него вдруг тяжеленным, неподъемным бременем навалилось одиночество. Ушла в сюземки мать, оставив его одного, не меньше, чем на неделю. Вокруг пластался огромный мир с этим бесконечным морем, с полями и лесами, а он, Егорко, был в этом мире один-одинешенек.
Понял он, что не вынести ему одному целую неделю без матери. Что и взаправду помрет он от тоски.
Ему невыносимо захотелось к родной душе, бесконечно ласковой и любимой – к матери.
– Егорушко, вот ты где! Здрастуй-косе, мил человек!
Бабушка Феклиста наконец-то явилась. В выцветшем платочке, в старом блеклом сарафанчике. Видно, что старушка запыхалась спозаранку со своими ягушечками, да двумя баранами, да с домашними хлопотами.
Она кое-как согнула старые свои косточки, поскрипела ими и уселась рядышком с внучком.
– Вот ты валяесся, бедошник, а овечки-то твои по деревни-то и калабродют. Их матка твоя Агафьюшка выпустила из хлева, а им куды девачче? Стоят кол мово дому, да и блеют, срамники. Ну, да я их угостила кусочками, с моима вместе и упехались куды-то. Всяко знают друг дружку, родня, дак чево… Да приду-ут оне, куды деваючче.
Она посидела рядышком на бревнышке, поглядела на море, на морскую даль и спросила:
– Ак, ты-то, мужичок, чево делать удумал? Один ведь. Али ко мне пойдешь, к бабушки своей? Я тебе и рада буду, парнишечку. Да и матка твоя мне заказывала тебя приютить.
Егорко поглядел по сторонам, фыркнул пару раз, как деревенский мужик бы это сделал, потом сказал решительно:
– Не, баба, я к маме пойду. Не могу я без мамы, заскомнал я…
Феклиста вызняла кверху руки, шлепнула ладонями по коленям.
– Поглядит-косе на его, на шаляка! Куды удумал! В сюзёмок хошь! Один!
– Куды ишше? Мама-та ведь тамогде.
– А не пушшу я тебя, парень. Один-то по лесу как пойдешь? Зверье тамогде, ведмедя! Страшшают оне… Замнут, да и все…
– А и страшшают, дак чего? Пойду, да и пойду, дойду всяко! Всяко не замячкают меня…
– А дороги-то не знашь, окаянной! Уведет лешой куды-нинабудь. Загинёшь один-то!
– А я, баба, по следам косарьим пойду. Натопали всяко благошко, пятнадцать человек, заметно всяко…
Феклиста посидела, повсплескивала руками.
– Разумник нашелсе едакой! По следам… Оголодашь тамогде в дороги, замрешь с голоду под кустом…
– Ак, ты, бабушка, положи мне кусок какой… Да и я дома у мамы поишшу. Мама всяко уж оставила.
– Не знай, чо и делать с тобой? Удумал чего не надоть, бедошник… Ты топорик положи в пестерек, да ножик, как без их?
Феклиста с растерянным видом посидела опять, поразмышляла. Ей не удавалось предостеречь от неразумного поступка своего непослушного, самовольного внучка, идущего прямо в пасти лютого зверья. Она бормотала тревожную ругань и все всплескивала руками.
А Егорко твердо сказал: