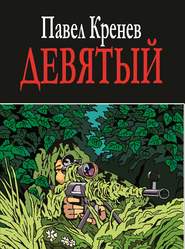По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Берег мой ласковый
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Котел висел над углями на перекладине, ждал едоков, от него исходил невероятно вкусный дурман, заполнивший все окружающее пространство. Егорко, голоднющий, похаживал вокруг, вдыхал этот аромат и вздыхал, и страдал. Ему очень уж хотелось, чтобы наконец пришли с пожень косари, чтобы вместе с ними сесть у костра…
Нагрянули наконец они, хмурые и голодные. Но на подходе запотягивали носами, заулыбались:
– Эт чево у тебя, повариха, за кушаньё за тако? Вкуснотишша-та кака! Чего, бажена, наварила-та?
А та и рада ответить:
– Не меня хвалите, а благодетеля нашего, Егорку Агафьиного. Он, батюшко, рыбы наловил, да начистил. Я-та чего, сварила, да и вся недолга…
Потом артель сидела на бережке и нахваливала Егорку и нахваливала. И мама его, Агафья, очень рада была за своего сыночка за то, что растет он тружеником, и за то, что народ им доволен.
И Татьяну тоже хвалили. Она посиживала около костра разрумянившаяся от добрых людских слов, довольнешенькая.
Егорко был на седьмом небе. Ему хотелось еще чего-нибудь сделать для артели полезное. Только не знал, чего.
И висел опять над избушкой, над людьми, над костром, над лесом и озером длинный, тихий, слегка пасмурный вечер, наполненный звонкими колокольчиками трелей лесных птах, трескотней кузнечиков, легким шелестом маленьких волн, засыпающих в прибрежной траве.
* * *
Познал Егорушко в сюземке всякий труд по заготовке сена. Косил он траву, научился косить не хуже других. Только силенок у него не хватало для широкого и могучего мужицкого замаха. Освоился, как сноровистее сгребать подсохшее сено, и вместе с гребеями-женочками широко и легко орудовал граблями. Особенно приноровился он участвовать в постановке зародов.
Мужики-метальщики нанизывали на вилы огромные охапки сена и с бодрыми покрикиваниями забрасывали их на возрастающий зарод. А Егорко с какой-нибудь легковесной сноровистой женочкой ждали охапку наверху. Подхватывали они сено, раскидывали по верхушке зарода и утанцовывали – уминали. Задача заключалась в том, чтобы уложить его ровно, не утяжелить или не ослабить какой-нибудь бок, не скособочить весь зарод. От уминальщика и зависит, простоит ли он всю зиму один в лесу, не рухнет ли от ветра или от гнета снега.
– Поберегись! – кричали мужики и с кряканьем, с уханьем наваливали на самую верхотуру громадную кучищу сена. И Егорушко с напарницей раскидывали ее по всей верхушке, и все повторялось сначала.
Когда вилы у мужиков переставали доставать до уложенного верха, Егорко выхаживал по зародовой «крыше» мерными шагами, из конца в конец. Высматривал, все ли стороны ровно уложены, уминал, выравнивал укладку. Потом кричал вниз:
– Имай роботника!
И спрыгивал с зарода. Его подхватывал кто-нибудь из мужиков. Он ловил, обхватывал его руками и обязательно падал вместе с Егоркой. Лежал с ним и выговаривал:
– Ну, Жорка, ну и велик ты стал! Равзе удёржишь эку тяжесь!
И мужики, стоя вокруг, дружно и весело смеялись.
Потом все обходили зарод вокруг, разглаживали его граблями, выравнивали…
И стояли теперь они, красивые, ухоженные эти зароды, по всему сюземку.
Зимой, когда в ледяной корке будут стоять реки и озера и толстый, утрамбованный ветрами снег уляжется на уснувшей, промерзлой земле, сюда придут из деревни пустые подводы, запряженные колхозными лошадками и крепкие, озябшие мужики вилами перебросают сено в дровни. Утопчут, умнут его, перемотают веревками пухлые возы. И лошадки под бойкие вскрикивания своих возниц уволокут сено в деревню. Там его уложат в копны и стога в ометах, что рядом со скотным двором, с конюшней. И будут кормить колхозную скотинку-животинку всю зиму и всю весну. И будет продолжаться деревенская жизнь.
* * *
За эти жаркие дни и душистые вечера сенокосной страды насмотрелся Егорко всяких разных цветных картинок крестьянского бытия, подивился сложности человеческих отношений и проник в такие сердечные глубины, которые были немыслимы для его понимания совсем недавно.
Деревенская жизнь казалась простой и понятной. И люди, его односельчане, тоже были обыкновенны, и тоже понятны и просты. А теперь, по прошествии всего нескольких дней и ночей пребывания в сюземке, обыкновенные деревенские люди оказались куда как заковыристее, с совсем необъяснимыми для него поступками, каждый со своими привычками, со своим норовом. Оказалось, что жизнь эта вовсе и не обыденна и не так уж размеренна, и что в ней множество загадок, разгадать которые ему пока что было не дано.
Понасмотрелся Егорушко, понаслышался всякого и разного, много чего в себя впитал. Открылись ему невиданные раньше картины человеческих отношений, сложные, противоречивые, раскрылись разные характеры. Впервые увидел он и воочию осознал, что и люди в деревне живут совсем не похожие друг на друга, чего он до этого просто не замечал.
И эти новые впечатления запомнились ему навсегда, и память о них он пронес через всю жизнь.
* * *
Плехает и плехает в сторонке о берег озерная волна. Над сиреневой от дальнего заката водой, над прозрачным покрывалом вечерней росы, распростертым над озером, висит-покачивается тонкий серебряный серпик луны. Отмеривает кому-то долгий век неугомонная кукушка. И кто-то, словно не устающий плотник, стучит деревянным молоточком о сухое дерево. Это черный дятел-желна долбит своим желтым клювом верхушку просохшей, давно умершей ивы.
На лежащем на траве толстом стволе упавшей березы сидят двое косарей, два уставших после тяжелого дня молодых парня. Слушают кукушку, глядят на озеро, разговаривают. Вечеряют.
– А и не жалко тебе его? Дядька ведь наш с тобой… Семейку егонную всю таперича угнали. А почто? Жалко ведь, загибнут тамогде оне в голоду, да холоду… Сывтыкар, бают, какой-то. Змерзнут оне…
– А чего ето змерзнут? Можа, тамо где теплынь кака стоит? Можа, радуичче он в том Сытывкари, али как там его…
– Да-а, теплынь… Тебе бы таку… Вон, Олександр-от Лукич помер уж тамогде. Написал кто-то… С тоски, да с холоду.
Помолчали они. Тот, который задавал вопросы, все переминался на бревнышке, не сиделось ему.
– Почто ты ето, Федька, письмо-то написал на мужика-та? Наврал ведь в ем, все наврал… Его и замантифонили куды-то. Жалко мне его, не виноват он не в чем, дядя-та наш… Помрет семья.
– А я ето смышляю, чего ты морду свою от меня воротишь, двоюродник? Откуль остуда промежду нами пошла? Из-за дядьки, значит…
– Оттуда и есь!
– Да-а, не виноват… А ты вспомни, Тимоня, как матка моя копейку у него просила на новы сани. Дал он ей? Вот, и не дал. Сестры своей! Надо-то было сколько-то рубликов… А ишше сказал: пускай, грит, мужиченко твой сам робит, а не на печки полеживат.
– Ну а ежели батько твой попиват, дак чего? Не соврал дядька-та. А ты сразу письма писать…
– А и чего? Мироед он и есь! Кулачья морда! Все ему больше всех надоть было. Три коня, да две коровы… Куды естолько?
– Дак он ведь сам и гробилсе над имя. Да на поли, да на сенокоси… Сам все. Не коналсе не у кого… У людев не канючил.
– Сам, да сам! Заталдычил… Нечего было гогольком хаживать по деревни, в хромовых сапогах. Погляньте на его, люди добры… Вот таперича пущай в Сутыкари своей походит. Там ему покажут хромовы сапожки…
Так сидели и мирно судачили они, колхозные парни на берегу засыпающего озера, под серпиком луны, среди шелеста травы и пения ночных птиц. Двоюродные братья.
* * *
Пелагея Маезерова, самолучшая гребея, колхозная звеньевая, крепкая женочка, вдруг занемогла. Рабочий день подходил к концу, и солнышко, спустившееся с зенита к самому закату, уже цеплялось за острые концы самых высоких елок, а она вдруг закричала раненой лебедушкой. Ничего не предвещало беды. Пелагея, особенно не торопясь, переваливала тыльником граблей к уже почти сметанному зароду тяжеленную кучу сена – и на тебе: встала на колени, обхватила двумя руками живот и повалилась на бок. Женочки сгруппировались вокруг, стояли и не знали, чем могут помочь?
– Дак чего оно с Пелагушкой-то тако? – спрашивали друг у друга.
– Ак, она цельной день сегодни приплакивала, чего-то у ей болело. Не знамо чего, робила, да робила, всяко с ног не падала…
Так рассуждали колхозницы. А Пелагея поднялась вдруг на нетвердые ноги, поглядела вокруг вытаращенными, видно, от боли глазами и с громкими стонами, держась за живот и качаясь из стороны в сторону, направилась в ближний лесок.
Она так шла, поднимая и резко опуская правую руку, несколько раз крикнула:
– Не ходите за мной не хто! Не ходите!
Но двое все же пошли – свекровка ее Наталья, да троюродница Алевтина. Та уж не могла не пойти, крепко она всю жизнь любила Пелагею.
Нагрянули наконец они, хмурые и голодные. Но на подходе запотягивали носами, заулыбались:
– Эт чево у тебя, повариха, за кушаньё за тако? Вкуснотишша-та кака! Чего, бажена, наварила-та?
А та и рада ответить:
– Не меня хвалите, а благодетеля нашего, Егорку Агафьиного. Он, батюшко, рыбы наловил, да начистил. Я-та чего, сварила, да и вся недолга…
Потом артель сидела на бережке и нахваливала Егорку и нахваливала. И мама его, Агафья, очень рада была за своего сыночка за то, что растет он тружеником, и за то, что народ им доволен.
И Татьяну тоже хвалили. Она посиживала около костра разрумянившаяся от добрых людских слов, довольнешенькая.
Егорко был на седьмом небе. Ему хотелось еще чего-нибудь сделать для артели полезное. Только не знал, чего.
И висел опять над избушкой, над людьми, над костром, над лесом и озером длинный, тихий, слегка пасмурный вечер, наполненный звонкими колокольчиками трелей лесных птах, трескотней кузнечиков, легким шелестом маленьких волн, засыпающих в прибрежной траве.
* * *
Познал Егорушко в сюземке всякий труд по заготовке сена. Косил он траву, научился косить не хуже других. Только силенок у него не хватало для широкого и могучего мужицкого замаха. Освоился, как сноровистее сгребать подсохшее сено, и вместе с гребеями-женочками широко и легко орудовал граблями. Особенно приноровился он участвовать в постановке зародов.
Мужики-метальщики нанизывали на вилы огромные охапки сена и с бодрыми покрикиваниями забрасывали их на возрастающий зарод. А Егорко с какой-нибудь легковесной сноровистой женочкой ждали охапку наверху. Подхватывали они сено, раскидывали по верхушке зарода и утанцовывали – уминали. Задача заключалась в том, чтобы уложить его ровно, не утяжелить или не ослабить какой-нибудь бок, не скособочить весь зарод. От уминальщика и зависит, простоит ли он всю зиму один в лесу, не рухнет ли от ветра или от гнета снега.
– Поберегись! – кричали мужики и с кряканьем, с уханьем наваливали на самую верхотуру громадную кучищу сена. И Егорушко с напарницей раскидывали ее по всей верхушке, и все повторялось сначала.
Когда вилы у мужиков переставали доставать до уложенного верха, Егорко выхаживал по зародовой «крыше» мерными шагами, из конца в конец. Высматривал, все ли стороны ровно уложены, уминал, выравнивал укладку. Потом кричал вниз:
– Имай роботника!
И спрыгивал с зарода. Его подхватывал кто-нибудь из мужиков. Он ловил, обхватывал его руками и обязательно падал вместе с Егоркой. Лежал с ним и выговаривал:
– Ну, Жорка, ну и велик ты стал! Равзе удёржишь эку тяжесь!
И мужики, стоя вокруг, дружно и весело смеялись.
Потом все обходили зарод вокруг, разглаживали его граблями, выравнивали…
И стояли теперь они, красивые, ухоженные эти зароды, по всему сюземку.
Зимой, когда в ледяной корке будут стоять реки и озера и толстый, утрамбованный ветрами снег уляжется на уснувшей, промерзлой земле, сюда придут из деревни пустые подводы, запряженные колхозными лошадками и крепкие, озябшие мужики вилами перебросают сено в дровни. Утопчут, умнут его, перемотают веревками пухлые возы. И лошадки под бойкие вскрикивания своих возниц уволокут сено в деревню. Там его уложат в копны и стога в ометах, что рядом со скотным двором, с конюшней. И будут кормить колхозную скотинку-животинку всю зиму и всю весну. И будет продолжаться деревенская жизнь.
* * *
За эти жаркие дни и душистые вечера сенокосной страды насмотрелся Егорко всяких разных цветных картинок крестьянского бытия, подивился сложности человеческих отношений и проник в такие сердечные глубины, которые были немыслимы для его понимания совсем недавно.
Деревенская жизнь казалась простой и понятной. И люди, его односельчане, тоже были обыкновенны, и тоже понятны и просты. А теперь, по прошествии всего нескольких дней и ночей пребывания в сюземке, обыкновенные деревенские люди оказались куда как заковыристее, с совсем необъяснимыми для него поступками, каждый со своими привычками, со своим норовом. Оказалось, что жизнь эта вовсе и не обыденна и не так уж размеренна, и что в ней множество загадок, разгадать которые ему пока что было не дано.
Понасмотрелся Егорушко, понаслышался всякого и разного, много чего в себя впитал. Открылись ему невиданные раньше картины человеческих отношений, сложные, противоречивые, раскрылись разные характеры. Впервые увидел он и воочию осознал, что и люди в деревне живут совсем не похожие друг на друга, чего он до этого просто не замечал.
И эти новые впечатления запомнились ему навсегда, и память о них он пронес через всю жизнь.
* * *
Плехает и плехает в сторонке о берег озерная волна. Над сиреневой от дальнего заката водой, над прозрачным покрывалом вечерней росы, распростертым над озером, висит-покачивается тонкий серебряный серпик луны. Отмеривает кому-то долгий век неугомонная кукушка. И кто-то, словно не устающий плотник, стучит деревянным молоточком о сухое дерево. Это черный дятел-желна долбит своим желтым клювом верхушку просохшей, давно умершей ивы.
На лежащем на траве толстом стволе упавшей березы сидят двое косарей, два уставших после тяжелого дня молодых парня. Слушают кукушку, глядят на озеро, разговаривают. Вечеряют.
– А и не жалко тебе его? Дядька ведь наш с тобой… Семейку егонную всю таперича угнали. А почто? Жалко ведь, загибнут тамогде оне в голоду, да холоду… Сывтыкар, бают, какой-то. Змерзнут оне…
– А чего ето змерзнут? Можа, тамо где теплынь кака стоит? Можа, радуичче он в том Сытывкари, али как там его…
– Да-а, теплынь… Тебе бы таку… Вон, Олександр-от Лукич помер уж тамогде. Написал кто-то… С тоски, да с холоду.
Помолчали они. Тот, который задавал вопросы, все переминался на бревнышке, не сиделось ему.
– Почто ты ето, Федька, письмо-то написал на мужика-та? Наврал ведь в ем, все наврал… Его и замантифонили куды-то. Жалко мне его, не виноват он не в чем, дядя-та наш… Помрет семья.
– А я ето смышляю, чего ты морду свою от меня воротишь, двоюродник? Откуль остуда промежду нами пошла? Из-за дядьки, значит…
– Оттуда и есь!
– Да-а, не виноват… А ты вспомни, Тимоня, как матка моя копейку у него просила на новы сани. Дал он ей? Вот, и не дал. Сестры своей! Надо-то было сколько-то рубликов… А ишше сказал: пускай, грит, мужиченко твой сам робит, а не на печки полеживат.
– Ну а ежели батько твой попиват, дак чего? Не соврал дядька-та. А ты сразу письма писать…
– А и чего? Мироед он и есь! Кулачья морда! Все ему больше всех надоть было. Три коня, да две коровы… Куды естолько?
– Дак он ведь сам и гробилсе над имя. Да на поли, да на сенокоси… Сам все. Не коналсе не у кого… У людев не канючил.
– Сам, да сам! Заталдычил… Нечего было гогольком хаживать по деревни, в хромовых сапогах. Погляньте на его, люди добры… Вот таперича пущай в Сутыкари своей походит. Там ему покажут хромовы сапожки…
Так сидели и мирно судачили они, колхозные парни на берегу засыпающего озера, под серпиком луны, среди шелеста травы и пения ночных птиц. Двоюродные братья.
* * *
Пелагея Маезерова, самолучшая гребея, колхозная звеньевая, крепкая женочка, вдруг занемогла. Рабочий день подходил к концу, и солнышко, спустившееся с зенита к самому закату, уже цеплялось за острые концы самых высоких елок, а она вдруг закричала раненой лебедушкой. Ничего не предвещало беды. Пелагея, особенно не торопясь, переваливала тыльником граблей к уже почти сметанному зароду тяжеленную кучу сена – и на тебе: встала на колени, обхватила двумя руками живот и повалилась на бок. Женочки сгруппировались вокруг, стояли и не знали, чем могут помочь?
– Дак чего оно с Пелагушкой-то тако? – спрашивали друг у друга.
– Ак, она цельной день сегодни приплакивала, чего-то у ей болело. Не знамо чего, робила, да робила, всяко с ног не падала…
Так рассуждали колхозницы. А Пелагея поднялась вдруг на нетвердые ноги, поглядела вокруг вытаращенными, видно, от боли глазами и с громкими стонами, держась за живот и качаясь из стороны в сторону, направилась в ближний лесок.
Она так шла, поднимая и резко опуская правую руку, несколько раз крикнула:
– Не ходите за мной не хто! Не ходите!
Но двое все же пошли – свекровка ее Наталья, да троюродница Алевтина. Та уж не могла не пойти, крепко она всю жизнь любила Пелагею.