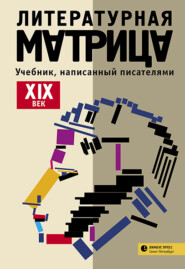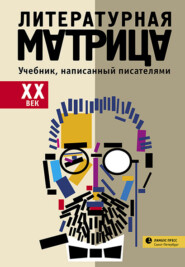По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Флаги осени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На берегу реки пускает блесну рыбак. Шлепок. И чёрной молнией, быстрой тенью из коряжника выскальзывает щука. Бросок хищника – для рыбака нет зрелища, острей и сладостней пронзающего ему сердце. Стремительный рывок, вскипает рассечённая вода. Щука взяла блесну. Подсечка – и рыбак выбирает катушкой слабину. Щука рванулась, села на тройник. И начинается борьба. Рыбак, насквозь опьянённый страстью, то работает удилищем, то крутит катушку внатяг – он вываживает, изматывает добычу. Руки его от вожделения дрожат. А щука не хочет. Она не согласна уступать. Она увидела берег, рыбака и всё поняла. Она противится, рвётся с поводка, старается уйти в коряги и запутать леску. Большая, сильная рыба не терпит власти над собой. Но рыбак знает дело – он брал форель, и судака, и хариуса, и тайменя. Щука ему не соперник. Рыба сопротивляется, но она уже глотнула воздуха и помалу слабеет, воля к жизни постепенно оставляет её. Ещё немного, и она сдастся. Леска смотана, добыча уже на расстоянии удилища. Осталось подсачить… И вдруг под самым берегом щука изворачивается, сверкает жёлтым брюхом, свечой выпрыгивает над водой и сходит с тройника. Рыбак застыл, не может слова вымолвить, лицо его пятнает прихлынувшая от ярости и обиды кровь. А щука с разорванной губой уходит в омут.
Набрис – щука, сорвавшаяся с моего крючка. И то чувство, которое она, сорвавшись, вызывает.
Когда человек не хочет верить, что переоценивать ценности и отступаться от вчерашней правды – это хорошо и только так он сможет стать борцом за радостное обновление, носителем завтрашних мод, проводником передовых поветрий, другом целесообразности и разумного переустройства, я огорчаюсь. Мне неприятен такой упёртый хмырь. Раз ты сумел родиться, ты – моя добыча, жертва моих сетей. Опарыши соблазнов и живцы обольщений на моих крючках – твоя пожива.
Когда человек отворачивается от надежды пополам с толчёным стеклом, которую я насыпаю в его кормушку, мне делается скверно. Невежа! Такова твоя благодарность! Ты не узнаешь наслаждения и не растаешь от истомы. Да, мой корм распорет твои кишки, но без того что? будет тебе о своей паршивой жизни вспомнить?
Когда человек отказывается быть зависимым от мнений окружающих и следом отказывается от собственного мнения, пленённый открывшейся ему единой истиной, я впадаю в ярость. Глупец! Твоя истина – леденец, петушок на палочке. Рассосёшь и с чем останешься? Всё, что у тебя есть – одежды мнений, и лишь они важны. Без них ты – голый.
Кто не стяжает богатства и славы, тот вызывает у меня изжогу. Тупица! Ты не испытал в жизни зависти, жара алчности и сладости обладания. Зачем же жил? Для чего заточил себя в келье аскезы, в лачуге скудости?
Кто отворачивается от искуса равенства и готов со смирением признать превосходство мудрого и сильного, тот будит во мне судорогу отвращения. Недоумок! Тебе милее быть булыжником в кладке здания, величие которого ты на себе несёшь, как горб, а не вольным червём в навозе мира и лёгкой перелётной мухой над его смердящей лужей. Во имя чего твоя жертва? Я всё равно разрушу единство кладки, сравняю с землёй храм твоего мужества, а руины заселю лебедой и мышами.
Кто долг ставит выше удовольствия, тот виновен в разлитии моей желчи. Болван! Ты служишь не во имя своего преуспеяния, а в угоду собственному упрямству. Ты со спокойным сердцем всякий раз, исполнив обязательства чести, остаёшься ни с чем. Что долг тебе, когда от него нет ни прибыли, ни потехи? Ты – посмешище для карасей, идущих на гулянку в мой весёлый невод.
Мир от начала был наполнен целыми вещами, которые вложил в него Творец, – теперь он завален осколками, как лавка горшечника, где порезвился лёгкий смерч. Это я, ветер перемен, истолок мир в пыль и кашу. Целого в нём почти не осталось, потому что целое не лезет в мою глотку. Другое дело – клочки, ошмётки, крошки, слизь. Осколки – улилям. Целое – набрис. Улилям – когда один человек, глядя на другого, видит не человека, а схему, устройство, скелет. Например – застрявшую в детстве личность, чьи запросы были удовлетворены раньше, чем оформились, и которую душевная боль не заставляет размышлять над собственным состоянием, потому что у застрявшей в детстве личности страданию не от чего отражаться, так что в результате она может вызвать сочувствие, но не способна пробудить симпатию. Тот, кто так видит – скользкий налим, прикормленный лягушками из моего садка. Его печень уже принадлежит мне. Набрис – когда человек смотрит на другого и сердце его замирает от любви. Такой не даёт мне пищи. Но рано или поздно все крепости падут пред силой моего голода.
Я – всюду. Я продуваю всё. Моё дыхание – во всём, везде. Почти во всём. Почти везде. Набрис – место, где меня пока нет.
Место, где меня нет – враг мне, потому что оно занято Другим. Тем, кто не принимает меня.
Враг мне тот, кто собирает, вместо того, чтобы расчленять.
Враг тот, кто обретает свой дар и хранит ему верность.
Враг тот, кто постоянен вопреки рассудку. Кто осмеливается не лгать, не судить и не смеяться, когда хохочет хор.
Враг тот, кто противится тому, чтобы его судьба зависела от тени, которую отбросил на него я.
Враг тот, чьи желания не принадлежат мне, и кто находит удовлетворение, хотя я всё сделал для того, чтобы никто не был удовлетворён. Жажда потребления соблазнов в моём мире не может быть утолена.
Но и там, где меня нет, я скоро обрету пристанище – ячеи в моих сетях всё мельче, приманка на крючках всё искусительнее, блёсны всё ярче и завлекательнее. Мир – мой. Он расплылся в тающий студень. Кто сотворит новый мир, где меня не будет?
Глава 7. Abeunt studia in mores
1
Под мостиком из двух еловых брёвен вытекавший из озера ручей смастерил неглубокую заводь, накрытую дырявой тенью склонённой ольхи, и там, в заводи, на дне, среди редких камней, припорошённых заиленным песком, ползали перловицы и на разный манер завитые улитки. У кромки воды на песчаной полоске, испещрённой мелкими птичьими следами и слюдяными крыльями расклёванных стрекоз, сидели крошечные лягушата, недавно сбросившие жабры. Две синие красотки порхали над заводью, ничуть не страшась предъявленной им стрекозиной судьбы.
С безотчётным любопытством Настя изучала эту заповедную делянку, любовно обустроенную местными карельскими духами, стараясь не пускать в мысли безрадостное, лабораторное и совершенно неуместное здесь, в этом светлом открытом мире, слово «биоценоз». С «биоценозом» сразу становилось хуже, всё вокруг словно бы тускнело и переставало дышать.
Как-то был случай – Настя увидела на улице вполне обычную и ничем, в отношении дизайна, не привлекательную кинетическую вывеску «Центр красоты и здоровья» с королевским венцом на крутящемся кругляше. Как правило, Настя не обращала внимания на подобные глупости, но тогда вдруг в сознании её что-то сдвинулось и ракурс сместился: она отстранилась от нивелирующего смысл контекста и представила, что это и вправду центр, что вся красота и всё здоровье мира действительно сосредоточены именно здесь, в стенах этого югендстильного дома, вот за этими дверями лакированного дуба, за этими окнами с трафаретным, имитирующим благородное травление узором на стёклах… Представила и рассмеялась нелепости заявленной в вывеске претензии. Почему так? Почему всё истинное непременно оказывается за пределами разговоров об истинном? Почему главное, самая суть каждый раз ускользают, оставаясь в стороне от русла проложенного к ним, казалось бы, напрямую мыслетока?
Но сейчас Настя не задавалась подобными вопросами, сейчас Насте было хорошо. Ей почудилось, что завеса приподнялась и перед ней открылся, дав наконец узреть себя, этот неуловимый, этот перелётный райский островок красоты и здоровья в унылом океане увядания, немощи и тщеты. Близкое дыхание чарующей благодати, таинственного источника вечной жизни пьянило Настю и делало её почти счастливой.
Постояв над заводью столько, сколько требовалось для того, чтобы хорошо запомнить вкус охватившего её дивного чувства, Настя развернулась и, довольная прогулкой, отправилась назад, к Катенькиной даче.
Впереди над самой тропинкой летела бабочка воловий глаз – так летела, словно спотыкалась о собственную тень. Под берегом озера на тихой воде, как сложный заводной механизм на пружинке, крутилась стайка вертячек. Возле кострища с двумя сгоревшими в уголь штакетинами, похожими на два куска чёрной крокодиловой кожи, Насте отчего-то вспомнился поэт, павший жертвой идеи нового театра – арены реальных страстей и реальной смерти. Большеротый пучеглазый юноша, очень похожий на гладкокожего налима, был забавный – самоутверждающийся и оттого на публике колючий, угловатый, дерзкий. Хотя по природе своей – Настя это хорошо чувствовала – он принадлежал породе тех кротких и деликатных людей, которые, прежде чем открыть холодильник, сперва вежливо стучат в дверцу. Настя попробовала вспомнить что-нибудь из его поэтических опытов, но ничего не вспомнила, кроме одного четверостишия:
Здравствуйте, собачки!
Добрый вечер, сучки!
После зимней спячки
Я пришёл для случки.
Прислушавшись к себе, к внутреннему отзвуку на эти строки, Настя ничего не услышала.
Казалось бы, после столь драматической премьеры (пусть подобная драма и входила в общий план затеи) судьба реального театра предрешена, и он будет похоронен с Бароном в одной могиле, однако до Насти доходили слухи, что мясные художники, уже отошедшие от первого впечатления, намерены самостоятельно, без Катеньки и Тарарама, продолжить опасную игру и даже набирают труппу. Что ж, камень брошен, круги пошли. Надолго ли эта рябь смутит гладь и глянец постылой картинки? Вот именно – круги те, волнышки, не каждый и заметит. Надо, чтобы камни летели постоянно, как страшный град, как раскалённая шрапнель, как тысяча булыжников из тысячи пращей Давида… И надо, чтобы у людей, швыряющих камни, был особый взгляд, не допускающий сомнений в праве на швыряние, – открытый, бесстрашный, испепеляющий, взгляд свободного человека, а не раба ситуации. Тогда морок уйдёт, ад отступит, скверный дух будет изгнан из логова, и светлые живые воды промоют смердящий котлован. В этих новых обстоятельствах, вероятно, придётся поменять кредо – ведь жизнь тогда перестанет быть злой историей, и са?мому отвратительному случаться в ней будет уже совсем необязательно. Впрочем, думать о подобных вещах сейчас было явно преждевременно.
В посёлке Настя вспомнила о бренном, свернула к магазину и купила к чаю кусок сыра в крупную дырку. Готовить что-то серьёзное не имело смысла, поскольку завтра, в пятницу, на даче должны были появиться Катенькины родители, и сегодня днём Катенька намеревалась очистить территорию.
Все оказались на месте – сидели по углам, бродили по лужайке и, кажется, слегка скучали.
Тарарам настороженно понюхал сыр – так, должно быть, бактриан в Казахском мелкосопочнике обнюхивал свежие шпалы Турксиба, – после чего безошибочно определил: «Швейцарский». Егор, проведя всё утро с книжкой про вампиров, сочинённой автором, прославившимся своими руководствами по просветлению, вид имел учёный и немного сонный. Катенька сразу бросилась ставить чайник.
– Что там, в мире? – спросил Настю Егор, предпочитавший утренним прогулкам книгу с колышущимися на тёплом ветерке строками. – Солнце взошло согласно указу?
– Светило послушно воле Сына Неба, – доложила Настя. – Зато в остальном – полный бардак. Ласточки-береговушки на карьере гоняют кошку, а бабочки, лягушки и стрекозы ведут себя так, будто по-прежнему живут в раю.
Катенька взяла с подоконника сосланную на дачу рогатку, состоящую на вооружении у заморских рейнджеров, и со значением потрясла ею в пространстве: мол, мы покажем вам небо в алмазах, мол, мы устроим вам рай в камышах. Настя смотрела на подругу с тихой улыбкой, поскольку догадывалась, что стрекозы и бабочки с раем внутри рождаются и с ним же умирают, а люди рождаются без него, и потому в руках у них рогатка.
– Что там вампиры? – спросил Егора Тарарам, считавший чтение модной художки занятием почти неприличным. – Кровососят?
– Вроде того, – сказал Егор. – У этой книги как минимум есть одно безусловное достоинство. Обычно авторы упускают из вида политэкономию придуманного мира, а здесь она предъявлена во всех неприглядных деталях. Понятное дело, политэкономия – скучная материя, даже если попытаться придать ей фантастический характер. Порядок стимуляций, правила, по которым следует вводить в обращение и изымать из него денежные агрегаты, их эквиваленты и прочие деривативы – ничуть не увлекательнее правил изъятия из обращения конечных продуктов человеческой жизнедеятельности. Я имею в виду кладбища и нужники. Поэтому в мировой литературе нужникам и политэкономии уделяется так мало места. Даниила Андреева, скажем, ничуть не волнуют экономические причины, заставляющие обитателей Скривнуса изо дня в день драить сковородки и метать уголёк в топку. А если задуматься – кто проверяет качество их труда, как он стимулируется? Урежут ли бедняге пайку, если он будет ленив и халатен, дадут ли увольнительную, если он проявит рвение? Точно так же невозможно понять движущие силы мира толкиновских орков, гномов и эльфов – политэкономия Среднеземья так и осталась ненаписанной. С учётом масштаба замысла это явное упущение. Зато с вампирами теперь всё в порядке. Где, когда, сколько, за что и почему – всё, вплоть до феноменологии этой нечисти, расписано здесь по мелочам. Взяться за такой неблагодарный труд хватит духа не у всякого.
Потом – «на дорожку» – пили чай. Рома густо мазал сыр мёдом, остальные просто клали дырявые ломтики на булку.
Перед отъездом Катенька организовала представление, отправив Настю к соседке за солью. В дачных закромах хватало соли, но у старушки Зои Терентьевны, возившейся в цветнике на соседнем дворе, был дурной глаз, так что ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы она видела, как Тарарам и Катенька уезжают на своих «японцах», и желала им доброго пути. Однажды она пожелала доброго пути Катенькиным родителям, и у отцовского «маверика» – небывалое дело – по дороге отвалился глушитель. Потом она пожелала доброго пути Катеньке, и у «мазды» ни с того ни с сего начал парить радиатор. А после того, как она напутствовала добрым словом Рому, у «самурая» на трассе вдруг открылся капот и со всей дури звезданул в лобовое стекло. Хорошо, что на раме откидного лобового стекла стояли резиновые отбойники, принявшие удар на себя. Словом, чудом обошлось без жертв. Зою Терентьевну необходимо было обезвредить – отвлечь и увести со двора. Настя справилась.
В итоге «японцам» удалось улизнуть незамеченными. Машины скрылись за поворотом и перед большаком остановились, чтобы дождаться Настю с фунтиком ненужной соли.
2
Всякое общество любит определённость социальных ролей. Поэтому актёра, пишущего маслом, и футболиста, сочиняющего в рифму, всё равно ценят лишь по основному ремеслу, а паразитарную страсть прощают или снисходительно отмечают, если те преуспели в главном деле. Ну а если не преуспели, то лучше бы им, бездарям косоногим, не писать, не сочинять и не рождаться вовсе. По отношению к тем, кто чувствует себя винтом, шестернёй или контргайкой социума, закон опредёленности неумолим.
Основным делом Катеньки на нынешней ступени её судьбы традиционно считалась учёба в Педагогическом университете. Однако сама Катенька Герцовнику придавала мало значения и никогда бы не стала судить ни о себе, ни о ком-то из сокурсниц по оценкам в зачётке, ибо главным – и в этом, пожалуй, заключалась её своеобразная асоциальность – в своей жизни считала любовь. Потому что женщина должна любить, к кому-то прислоняться душой – таково её первейшее призвание. Она даже немного позавидовала Насте, когда та на вопрос Тарарама заявила, что закон – это любовь. То есть о силе и праве Катенька сказала от сердца, но и про любовь могла бы сказать то же. Да и про спасение… Ей-богу, могла бы сказать и про спасение. Потому что любовь и вера – две исключительные вещи, посягающие на неприкосновенность души, а Катеньке хотелось, чтобы её душу трогали.
Однако в этих исключительных вещах в первую очередь она всё же видела эстетику. Что же до нравственного закона, то он неизменно шёл вторым номером. То есть он находился не за гранью окоёма, а в преддверии грани, на периферии сознания, отчего присутствие скрижалей постоянно ощущалось, но они не главенствовали и не давили. К примеру, Катенька могла бы подписаться под словами, что некрасивая вещь в принципе не может быть хорошей, но сказать такое о некрасивом человеке она была не готова. Хотя и ощущала внутренне, что в подобном заявлении есть немалая доля правды. Словом, жизнь для Катеньки по существу представляла собой сугубо эстетическое явление и в силу этого имела смысл. То есть именно эстетика и составляла означенный смысл, именно во имя неё и требовалось свершать деяния. Цель же деяний, наполняющих будни осмысленной жизни, – ладить эстетику из неэстетики, красивое из безобразного, конфетку из дерьма. Поэтому в голове Катеньки редко находилось место мыслям о том, что правильно или неправильно и каковы должны быть следствия её поступков, но было место представлениям о том, как должен выглядеть поступок и каким должен быть стиль жизни.
Высадив Настю на Офицерской, изуродованной стройкой второй сцены Мариинского театра и уже смастаченным на месте милого садика концертным залом с мощёным пустырём перед ним и зелёными, как у нежити, головами русских композиторов над карнизом, Катенька покатила домой на Петроградскую. Город был забит машинами, и ей приходилось ползти в этой давке, словно жуку в крупе. Рабочий день, лето… Что делают на улице все эти люди в железных капсулах? Почему они не в тюрьме, не в садоводстве, не в присутствии, не в Анталии? Чёрт знает что… Но Катенька держалась и проявляла чудеса самообладания.
Когда она парковала «мазду» на Кронверкском, внимание её привлекла молчаливая толпа, заполнившая площадь перед Балтийским домом. Непорядок – стоит на три дня оставить город, как на твоей территории без твоего ведома и согласия начинают самозарождаться происшествия. Катенька не утерпела – она обязана была узнать причину сборища и вынести на этот счёт своё суждение.
Толпа по кругу обступала импровизированную арену, на которой работали уличные лицедеи. Изловчившись пробраться в первые ряды, Катенька узнала двух мясных художников, матерного поэта (того, что уцелел) и Ромину подружку Дашу, тоже успевшую увязнуть коготком в первом проекте реального театра. К этой Даше поначалу Катенька Рому даже ревновала, но потом оставила: ну было дело, посидела краля Мнишек царицею в Кремле, так за то и хвостом шаркнула в узилище. Других знакомых лиц Катенька не приметила.
Что комедианты разыгрывали, догадаться было нетрудно. Представление началось не так давно, поскольку Даша ещё только тащила с базара новоприобретённый самовар. Она была наряжена в зелёные джинсы и жилет (гобеленовая ткань с золотым узором – спереди, чёрный шёлк – сзади), а две хитросплетённые косички на её голове изображали торчащие в стороны сяжки. Роль самовара исполнял поэт, который, кольцом уткнув руки в бока, косолапил на корточках рядом с Дашей, державшей его под мышку, и убедительно пыхтел, как бы преисполненный клокочущим в его утробе кипятком. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» – собственно, по этой Дашиной реплике Катенька и распознала действие.
Один из мясных художников принялся/продолжил декламировать авторский текст. Другой, таинственно кутаясь в длинную серую накидку («Должно быть, паучок», – решила Катенька), топтался среди зрителей. Тот, что декламировал, делал это на удивление нехорошо – с несвойственным внутреннему ритму стиха широким, неторопливым распевом, переигрывая в интонировании, растягивая финальные гласные в строке, как это заведено у глашатаев, объявляющих выход тушканчиков на боксёрский ринг. Впрочем, отчасти ужимки чтеца были оправданы той полупостановочной-полуимпровизированной, сляпанной из сплошного гротеска битвой, которую тараканы, бабочки, букашки, блошки и прочие козявочки устроили вокруг самовара и тут же появившегося вполне натурального угощения – сушек, лимонада, домашнего варенья и сгущёнки. Все эти твари набежали из зрительских рядов, до этого момента незаметно пребывая там в растворённом виде. Физиономии и руки лицедеев вмиг оказались перемазаны, одежды растрёпаны, некоторые артисты даже повалялись с показным удовольствием на серой (гранит? диабаз?) брусчатке.