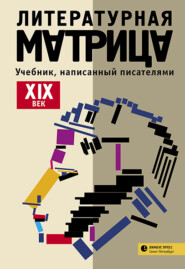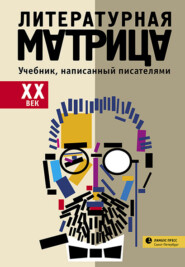По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Флаги осени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Даша в этой сцене вела себя чрезвычайно легкомысленно (как, впрочем, и другие самочки, но куда более аффектированно) – то висела на шее у одной инсекты
, то пускалась в пляс с другой, то строила глазки третьей. Подошло время выхода паучка, но мясной художник в накидке по-прежнему стоял поодаль и даже рассеянно отвернулся от зрелища разнузданных именин в сторону набитого звёздными призраками планетария.
В конце концов Катенька поняла, что паучок – это вовсе не тот, на кого она подумала, а неизвестный ей сутулый парень в лёгком хлопковом свитере из числа набежавших на именины гостей, к которому Даша, посреди всеобщего разгула, как раз в этот момент совершенно непристойно липла. Определённо в режиссуре представления прослеживалась концептуальная мужская трактовка – муха сама соблазнила паучка, сама его, простофилю, в уголок… В целом, зрелище было бы даже забавным – перчик заключался в несоответствии авторского текста, декламируемого с нарастающим недоумением, и сценического действия, выстраивающегося в явном противоречии с хрестоматийным сюжетом, – не наследуй оно совсем другому замыслу. Куда более высокому и дерзкому. Замыслу реального театра.
Паучок был из робких – поначалу отбивался и вообще изображал отсутствие всяческого интереса к назойливой мухе, но Дашу это только заводило. Наконец, обостряя атаку, она расстегнула златотканую жилетку и предъявила паучку средних размеров грудь (Катенька удовлетворённо отметила, что та была не налитой и упругой, а водянистой и мягкой, как абрикос из компота). Зрители оживились. Увидев тело, паучок точно очумел – бросился на Дашу, повалил и впился зубами в её левый абрикос так, будто и впрямь намеревался высосать хоботком из сердца именинницы всю кровь.
И тут наконец пробил час мясного художника в серой накидке. По существу, это был даже не комарик, а чистый Отелло, внезапно вернувшийся из командировки. Гости, изведавшие уже, видимо, на собственном хитине градус кипевшей в ревнивце дури, бросились врассыпную и вновь смешались с толпой, самовар в ужасе вылупил глаза и затаил дыхание, Даша изобразила оскорблённую невинность, а бедолага паучок, понятное дело, как, оправдываясь, ни кривлялся – вышел крайним. Вместо сабли орудием расправы с паучком комарику послужили поочередно: 1) скрытая под накидкой бейсбольная бита и 2) завалявшаяся в кармане с дедовских времён опасная бритва. Битой он сердягу отдубасил, а бритвой в несколько поставленных движений охолостил. При этом в руку комарику из недр рукава скользнула длинная белая редиска дайкон, которой он потряс над головой, как рыбак добытой из пучины рыбой.
Даша запечатлела на морде победителя дюжину алых (помада) поцелуев, из толпы, как из кучи древесной трухи, вновь повылезли на свет козявочки, и разнузданная гульба с песнями и плясками покатилась дальше.
Катеньке всё было ясно. Благородная, опасная и уже в силу того только неординарная идея реального театра выродилась в фарс. Что здесь происходит? Полная ботва – площадной балаган дель арте пополам с режиссёрским театром Някрошюса. Всё дело сводится к трактовке пьесы самовластным постановщиком, к дешёвой или глубокомысленной (один пёс) клоунаде, жуликоватому передёргиванию авторского замысла. В стотысячный раз явлена древняя пошлость – самовыражение бездарности, неуважай-корыта за счёт ревизии Софокла, Гоголя, Островского, Шекспира, Гёте… Того же, будь неладен он, Чуковского. Словом, вот она, очередная победа зрелища над откровением. Словом, автор – говно, режиссёр – всё. Словом, вот оно, неунывающее: граждане, послушайте меня…
Катенькин диагноз был неумолим: чушь, вздор, мусор… И тем не менее её трясло от негодования. Измена идее, предательство вчерашних соратников были очевидны и требовали незамедлительной кары. Незамедлительной. Катенька с лицом, отлитым из чистого гнева, вышла из зрительских рядов и, секунду выждав удобной позиции, с размаха засадила комарику, отплясывающему спиной к ней какую-то ламбаду, туфлей-лодочкой по копчику.
– Иди на хуй, козёл пиздопроёбистый! – сказала она подскочившему было к ней поэту-самовару и, подумав, добавила: – Извини, что не в рифму.
После этого удовлетворённая Катенька невозмутимо развернулась и, в облаке повисшего над площадью молчания, отправилась домой.
Abeunt studia in mores, сказал бы рассудительный схоласт. Действие переходит в привычку.
3
Невские бани, мимо которых два месяца назад шли голые люди на Семёновский плац, отгородили от улицы сплошным забором из гофрированной жести, и строители, работая покуда в режиме разрушения, понемногу уже крошили стены. Крошили необычно осторожно, бережно – так дети потрошат мину. Недавно в СМИ гремел скандал – на Литейном рабочие так нерадиво били сваи, что по соседству раскололся дом Мурузи.
Не то чтобы Тарарам сокрушался по поводу сноса Невских бань – нет, они были серыми, невидными и определённо не вписывались в каменную симфонию местности. Однако благодаря той же серости и невидности бани не подавляли эту симфонию и не слишком её уродовали. То есть уродовали, но скорее как брешь, как дырочка в красоте, а не как безобразный злокачественный нарост на ней. Рому удручала перспектива – то, что здесь возведут, наверняка и даже обязательно будет наглее, выше, глянцевее притёршихся за полтора-два столетия друг к другу зданий. Будет подавлять и уродовать, будет злокачественно нарастать.
За последние годы так уже случалось не раз. Не удовольствовавшись периферией, метастазы поразили Невский, Литейный, набережные Фонтанки, Большой и Малой Невки… То есть всё, что можно, и почти всё, что нельзя. Удивительно, как до сих пор не застроили Марсово поле и Летний сад – такие земли в самой сердцевине даром пропадают. Всякий раз Рому удивляла мотивировка разносчиков заразы: дескать, сносимые дома и застраиваемые скверы не имеют культурных заслуг и не являются историческим достоянием. Можно подумать, что возводимые на их местах деловые центры, элитные кондоминиумы и торговые стекляшки будут их иметь и ими являться. Можно подумать, что память людей, проживших здесь жизнь, встречавших здесь любовь и пивших здесь портвейн, ровным счётом ничего не значит… Но что больше всего допекало Рому в этой истребительно-строительной истории – в ней не было никакого пафоса борьбы, никакого величественного злого умысла, противостояние которому почёл бы он за честь. Всё глупейшим образом сводилось к мелкому болезненному желанию обогащения, которое постоянно теребит в человеке демон корысти – пошлейший из демонов. Не было никакого заговора против красоты – одно равнодушие и вздорная страстишка срубить по-быстрому бабла. А стало быть, в противостоянии нет смысла, потому что нет самого противостояния – есть всё те же разложение и тлен, охватившие уже всю ойкумену. Такой же тлен точил Петрополь Вагинова. Отличие одно: нынешнее разложение покрыто, точно камуфляжной сеткой, завесой приторного лоска – потребительского бума, мнимого благополучия, пустопорожней деловой активности, махрового веселья. «Нам ли не знать, – вздохнув, подумал Тарарам, – что такие декорации всегда утаивают под собой какую-нибудь гадость».
После полутора часов, проведённых за рулём, Рома был не прочь выпить. Егор тоже не возражал и даже, имея тяготение к анализу и синтезу, заметил, что у людей серьёзных профессий, связанных, как правило, с перемещением в пространстве (шофёры-дальнобойщики, гусары, моряки), в свободное от профильных занятий время бросаются в глаза две характерные наклонности – готовность к выпивке и скоротечным интрижкам. Видимо, предположил Егор, первобытная стихия пути определённым образом формирует личность, оттачивая в ней страсть к похождениям и авантюрам. Странствие из Токсово в центр СПб, конечно, не весть что… И всё же. Словом, дав время друг другу на то, чтобы принять душ и переодеться, Тарарам с Егором договорились встретиться в рюмочной на Пушкинской, и к назначенному часу Рома уже немного опаздывал.
В рюмочной, известной в городе собранием неимоверного количества настенных, по большей части неисправных часов и подаваемыми на закуску вкрутую сваренными яйцами, было людно, но вместе с тем хватало и свободных мест. Егор уже сидел на скамье за деревянным столом и то, что располагалось перед ним – графин водки, две стопки, два стакана с томатным соком и пара яиц, – свидетельствовало о предстоянии собутыльника.
– Мы завязли, ещё не сдвинувшись с места, – без предисловий сказал Тарарам. Он устроился за столом напротив Егора. – Я именно это имел в виду, когда говорил в машине, что в России механизм всякой энергичной, жизнепереустраивающей идеи в относительно устоявшиеся времена тяготит проклятие холостого хода. Впечатление такое, будто все мы подавлены инерцией тяжёлого русского бездействия. Или неподъёмным русским покоем. Кому как нравится.
– У меня похожее ощущение, – признался Егор, подвигая к Роме стопку с колыхнувшейся в ней водкой и стакан с густым и оттого неподвижным соком. – Мы размахиваем руками, а сами по пояс увязли в болоте. Что твой парад голых, что реальный театр – всё это похоже на жесты отчаяния, посылаемые в пространство узниками трясины. Жесты эти имели бы смысл, если бы мы уже были свободными и умели ходить по топи бублимира легко и беспечно, как водомерки по воде. А мы не умеем. Потому что не знаем – зачем? Сначала должно сложиться ядро, ясно осознающее, чего оно хочет, и не обременённое кандалами вещественной зависимости. Этакая шаровая молния, гуляющая сама по себе. Осмысленные действия – после.
– Верно. Особенно про кандалы и молнию. – Рома бросил в стакан щепоть соли – не найдя чем размешать, достал из чехла на поясе «опинель», раскрыл и разболтал сок лезвием. – Однако и разговоры наши тоже как будто бы идут по кругу. Тебе не кажется, дружок? – Тарарам посмотрел на Егора, но тот, должно быть, счёл вопрос риторическим. – Всё верно, сперва, конечно, нужно стать свободными, однако перед тем чётко осознав мотив – во имя чего.
– А мы не осознаём, ведь так?
– Мы знаем только то, что хотим жить иначе. Не идейно, не экономически, не конфессионально – цивилизационно иначе. Иначе во всём. Хотим жить в единстве с миром и заключённой в нём бездной. Но не по банальной модели экологов, поскольку те отводят человеку на земле место гостя. А мы – не гости. Мы – первые в сообществе равных. Поэтому, подходя к лесу, мы говорим: «Здравствуй, лес-батюшка», а завидев муравейник, кричим: «Здорово, мужики!» И когда убиваем змею, мы стараемся, чтобы кровь её не попала на хлеб, потому что если змеиная кровь попадает на хлеб, хлеб стонет. И в этом иначе деньгам мы отводим совсем другое место. Потому что деньги – это стыдно, это неприлично, этого не должно быть… – Словно бы оспаривая Ромины слова, игральный автомат в углу зазвенел, изрыгая чей-то выигрыш. – Короче говоря, мы хотим жить в русском мире, осенённом покровом традиции. Но путь традиции пресёкся. Ведь традиция, как ты понимаешь, это не сохранение пепла, а поддержание огня. Вокруг же теперь один пепел. Мир век от века перерождался – как нам, перерожденцам, чудом сохранившим память об эдемском саде, выродиться обратно?
Тарарам в церемонном приветствии приподнял стопку и разом выпил.
– Вокруг пепел, – согласился Егор, по примеру Ромы разделавшийся с содержимым своей стопки, – а между тем ты говоришь об этом бодро. Как тот оптимист из анекдота.
– Какого анекдота?
– Ну помнишь – оптимист пишет в своём дневнике: «Сегодня был на кладбище. Видел много плюсов».
Усмехнувшись, Тарарам стукнул яйцо о стол и принялся колупать скорлупу ногтем.
– Нет, дружок, я не оптимист из анекдота. Я – реалист, стремящийся к невозможному.
Промокнув салфеткой красные от сока губы, Егор взялся за графин – самохарактеристика Ромы как-то по-особенному в нём отозвалась, что-то своё, уже однажды думанное, напомнила…
– Переустраивать мир сейчас, – заметил он, – позволительно – если это ещё позволительно в принципе – только через власть. Почему ты не идёшь сам и не ведёшь нас туда – в рощи заповедных властилищ?
– По той же причине, – вздохнул Тарарам и пояснил: – Путь традиции пресёкся. Но ещё прежде рассыпалась вертикаль общества традиции, выстроенная от человека к Божеству. Смысл и функции власти теперь не те, они уже совсем, совсем иные… Общество традиции устроено так: небо – местопребывание сил, направляющих рождение, смерть и судьбу всего сущего, а власть – лишь медиатор, звено в передаче тайны, посредник между сакральной силой и подданными. Первоначально власть была природно умна и сильна проводимой через неё небесной справедливостью. И, уж конечно, совсем не похожа на нынешние капища власти. Память о власти, как о звонкой трубе, в которую дует Бог, сидит у людей в подкорке. Именно потому наши нынешние властилища столь ненавистны и презренны. – Тарарам потрогал свою вышитую бисером шапочку – на месте ли? – и закурил. – Нужно кончать с разговорами. Нужно сбросить оковы, которых на нас не так уж и много, и налегке заняться делом. Нужно выстраивать внутри разлагающегося трупа бытия свой хрустальный мир – цельный, структурно организованный мир-паразит, крепко стоящий на забытых принципах. Ну а после, выстроив, мы невольно противопоставим его – небольшой, колючий, твёрдый – враждебному, студенистому, вопящему и негодующему всем своим необъятным телом миру смерти. – Рома подался вперёд, к Егору, и, понизив голос, почти зашептал: – А ведь если противопоставить крупицу осмысленной структуры бессмысленному раствору, то через какое-то время всё лучшее, цельное, здоровое притянется сюда, к нам, и на крупице нарастёт огромный блистающий кристалл, который, в частности, дарует смысл поглотившему универсум студню разложения, затопившему нашу жизнь раствору чепухи. Бывают времена, когда ничто не оказывается столь уместным и своевременным, как уже безвозвратно похороненная, казалось бы, в тёмных волнах лет архаика. Вперёд – к руинам эдемского сада!
Презрев хороший тон общественных едален, Тарарам макнул яйцо в солонку и вновь приподнял стопку.
Егор с удивлением заметил, что стрелки некоторых часов на стенах рюмочной вздрагивают и совершают шаг. «А оков у нас и впрямь немного, – подумал он. – Как в лёгкой, мечтами надутой юности и положено. Фатер-муттер, родительский кров, универ, планы на будущее – вот и все цепи. А любовь – права Настя – не кандалы. Любовь – ураган, срывающий людишек с якоря. Вперёд. Пока не поздно. Пока не заякорился намертво. Пока киль мидиями не оброс». Егор вспомнил прошлое лето – свою первую самостоятельную поездку в Крым с парой университетских приятелей. Вспомнил довольных житухой воробьёв, которые, излучая в пространство щебет, расклёвывали на деревьях поспевшие вишни и абрикосы. Вспомнил обугленного солнцем татарина с новосветского рынка, дававшего своим дыням пятилетнюю гарантию («Такая дыня – пять лет помнить будешь!»). Вспомнил жука-оленя, сидящего – и как тут очутился? – на камне у Сквозного грота, – его едва не захлёстывала солёная волна, а он задирал голову и грозно разводил чудовищные жвалы, извещая стихию о готовности к битве. Вспомнил медуз… Не тех что как грибы и парашюты, а тех, что похожи на прозрачные бутоны тюльпанов, по жилкам которых бежит, переливаясь и посверкивая, зеленоватый, сиреневый и фиолетовый свет. Такого чувства свободы, как тогда, в Крыму, Егор прежде не испытывал. В груди его сделалось небольшое приятное волнение. Уж так устроена память: тронул – и струна запела.
– Ты отворачиваешься от власти, а стало быть, и от политики как таковой. – Выпив, Егор с удовольствием поморщился и тоже принялся ковырять скорлупу. – И, безусловно, поступаешь верно. Но чем наш хрустальный мир-паразит, вернее, его ядро, будет отличаться от какой-нибудь своеобразно радикальной партии, желающей построить царство берендеев на земле? Только тем, что мы не станем лезть с патологоанатомическими бреднями в дела гниющего социального тела? Но тогда чем мы будем отличаться от сектантов, проклявших белый свет и замуровавшихся в пещере где-нибудь под пензенской Погановкой? И потом, переродилась ведь не только власть, но и подданные. А что, – Егор указал пальцем в потолок, – если и там беда? Что, если переродились и силы неба?
– Хороший вопрос. – Тарарам прикинул мысленно, хватит ли в его кармане денег, чтобы заказать ещё один графин водки. Денег хватало. – Теперь – по порядку. Большевики и нацисты начали строить свои невероятные цивилизации через политику и в результате, вместо того, чтобы расчистить площадку, только добавили во вселенскую выгребную яму помоев. Самоудаление, добровольный вычет себя из переписи мира – тоже не выход. Потому что этот путь ничего не меняет за пределами того, кто вычелся. Хотя сам он, вычтенный, вполне возможно, и выясняет личные отношения с бездной. В ней самой, – повторив жест Егора, Тарарам ткнул пальцем в потолок, – в бездне, вряд ли что-то меняется. Я бледно говорю, путано – я это понимаю… Подобраться к заповедной тайне – значит принять бездну. Её невозможно постичь, измерить, вздрючить – а выродившемуся обезбоженному человеку хочется именно этого. Особенно вздрючить. Выродившийся человек считает себя философом и учёным. Учёным жизнью. Неспособный постичь, измерить, вздрючить, такой человек верит, что наука жить – это умение обходить бездну. И он совершенствуется в методах, в подделках под жизнь – обрастает делами, вещами, мелочными привязанностями, чтобы не жить, а как-то так, что ли, обходиться. А нужно другое. Нужно принять бездну, впустить её в себя, жить с ней, потому что суть жизни – бездна. Всё остальное – её обрамление. Существо бытия – небытие. Понимающий это и есть человек традиции. Просто человек, без рода занятий и социального ангажемента. Но дальше ему надо кем-то становиться… Понимаешь? Тут и возможен рост чудесного кристалла. Словом, радикально картину мира способны изменить не политика и не отважный эскапизм, а преображение. Примерно алхимического свойства. Феникс традиции сгорел, огонь погас, остался пепел. Но Фениксу для возрождения довольно и пепла!
– Что-то я не очень… – Егор рукой описал в пространстве фигуру, которая могла бы означать непонимание, душевный подъём, замысловатое приветствие и вообще всё что хочешь.
– Человеческий мир, дружок, как и несовершенная материя, способен к трансмутации. Алхимия даёт нам здесь прекрасную метафору. Возможно, именно в состоянии разложения, своего рода расплава, разжижения, мир в наибольшей степени готов к тому, чтобы чудесно перевоплотиться. Социальное тело, составленное из человеческих атомов, подспудно жаждет преображения – нужен лишь мастер, бригада отменных мастеров Великого Делания, готовых вложить в это тело тинктуру и запустить процесс. И тогда человек-свинец – чем чёрт не шутит – вновь выродится в человека-золото.
– Шикарно! – вознёс наполненную стопку Егор. – А где наша тинктура?
– Общий долг, – сурово сказал Тарарам. – Общий долг – вот наша тинктура. И мы – его носители. Мы – агенты грядущего царства традиции, его империи, лёгкие и свободные радикалы преображения, ничем, кроме общего долга, не обременённые. И душ Ставрогина поможет нам в нелёгком деле осознания себя, в подвиге обретения общего долга.
Егор уже не мог сдержать восторг:
– За общий долг!
– За яркое преображение!
Не сговариваясь, выпили красиво – расправили плечи, чокнулись, поднесли стопки к губам, опрокинули – всё сделали чётко, обоюдосогласно, как мастерицы синхронного всплеска. Между тем стрелки часов действительно вздрагивали – некоторые шли своим ходом, показывая разнообразное и удивительное время, некоторые просто топтались на месте, будто караул разминал затёкшие ноги.
– Я хайку сочинил, – прожевав яйцо, сказал Егор. – Хочешь послушать?
Тарарам хотел.
– Слушай. – И Егор тёплым голосом, мягко, по-домашнему продекламировал:
Вот и опять Рома с Егором
Мира судьбу решают.
Тихое «дзынь»…
4
Всё с Катенькой вышло так, как Тарарам и предполагал. Очередь идти под душ Ставрогина осталась за Настей. Катенька, впрочем, изъявила категорическое желание на этом омовении присутствовать. Возражать никто не стал – сговор состоялся.
, то пускалась в пляс с другой, то строила глазки третьей. Подошло время выхода паучка, но мясной художник в накидке по-прежнему стоял поодаль и даже рассеянно отвернулся от зрелища разнузданных именин в сторону набитого звёздными призраками планетария.
В конце концов Катенька поняла, что паучок – это вовсе не тот, на кого она подумала, а неизвестный ей сутулый парень в лёгком хлопковом свитере из числа набежавших на именины гостей, к которому Даша, посреди всеобщего разгула, как раз в этот момент совершенно непристойно липла. Определённо в режиссуре представления прослеживалась концептуальная мужская трактовка – муха сама соблазнила паучка, сама его, простофилю, в уголок… В целом, зрелище было бы даже забавным – перчик заключался в несоответствии авторского текста, декламируемого с нарастающим недоумением, и сценического действия, выстраивающегося в явном противоречии с хрестоматийным сюжетом, – не наследуй оно совсем другому замыслу. Куда более высокому и дерзкому. Замыслу реального театра.
Паучок был из робких – поначалу отбивался и вообще изображал отсутствие всяческого интереса к назойливой мухе, но Дашу это только заводило. Наконец, обостряя атаку, она расстегнула златотканую жилетку и предъявила паучку средних размеров грудь (Катенька удовлетворённо отметила, что та была не налитой и упругой, а водянистой и мягкой, как абрикос из компота). Зрители оживились. Увидев тело, паучок точно очумел – бросился на Дашу, повалил и впился зубами в её левый абрикос так, будто и впрямь намеревался высосать хоботком из сердца именинницы всю кровь.
И тут наконец пробил час мясного художника в серой накидке. По существу, это был даже не комарик, а чистый Отелло, внезапно вернувшийся из командировки. Гости, изведавшие уже, видимо, на собственном хитине градус кипевшей в ревнивце дури, бросились врассыпную и вновь смешались с толпой, самовар в ужасе вылупил глаза и затаил дыхание, Даша изобразила оскорблённую невинность, а бедолага паучок, понятное дело, как, оправдываясь, ни кривлялся – вышел крайним. Вместо сабли орудием расправы с паучком комарику послужили поочередно: 1) скрытая под накидкой бейсбольная бита и 2) завалявшаяся в кармане с дедовских времён опасная бритва. Битой он сердягу отдубасил, а бритвой в несколько поставленных движений охолостил. При этом в руку комарику из недр рукава скользнула длинная белая редиска дайкон, которой он потряс над головой, как рыбак добытой из пучины рыбой.
Даша запечатлела на морде победителя дюжину алых (помада) поцелуев, из толпы, как из кучи древесной трухи, вновь повылезли на свет козявочки, и разнузданная гульба с песнями и плясками покатилась дальше.
Катеньке всё было ясно. Благородная, опасная и уже в силу того только неординарная идея реального театра выродилась в фарс. Что здесь происходит? Полная ботва – площадной балаган дель арте пополам с режиссёрским театром Някрошюса. Всё дело сводится к трактовке пьесы самовластным постановщиком, к дешёвой или глубокомысленной (один пёс) клоунаде, жуликоватому передёргиванию авторского замысла. В стотысячный раз явлена древняя пошлость – самовыражение бездарности, неуважай-корыта за счёт ревизии Софокла, Гоголя, Островского, Шекспира, Гёте… Того же, будь неладен он, Чуковского. Словом, вот она, очередная победа зрелища над откровением. Словом, автор – говно, режиссёр – всё. Словом, вот оно, неунывающее: граждане, послушайте меня…
Катенькин диагноз был неумолим: чушь, вздор, мусор… И тем не менее её трясло от негодования. Измена идее, предательство вчерашних соратников были очевидны и требовали незамедлительной кары. Незамедлительной. Катенька с лицом, отлитым из чистого гнева, вышла из зрительских рядов и, секунду выждав удобной позиции, с размаха засадила комарику, отплясывающему спиной к ней какую-то ламбаду, туфлей-лодочкой по копчику.
– Иди на хуй, козёл пиздопроёбистый! – сказала она подскочившему было к ней поэту-самовару и, подумав, добавила: – Извини, что не в рифму.
После этого удовлетворённая Катенька невозмутимо развернулась и, в облаке повисшего над площадью молчания, отправилась домой.
Abeunt studia in mores, сказал бы рассудительный схоласт. Действие переходит в привычку.
3
Невские бани, мимо которых два месяца назад шли голые люди на Семёновский плац, отгородили от улицы сплошным забором из гофрированной жести, и строители, работая покуда в режиме разрушения, понемногу уже крошили стены. Крошили необычно осторожно, бережно – так дети потрошат мину. Недавно в СМИ гремел скандал – на Литейном рабочие так нерадиво били сваи, что по соседству раскололся дом Мурузи.
Не то чтобы Тарарам сокрушался по поводу сноса Невских бань – нет, они были серыми, невидными и определённо не вписывались в каменную симфонию местности. Однако благодаря той же серости и невидности бани не подавляли эту симфонию и не слишком её уродовали. То есть уродовали, но скорее как брешь, как дырочка в красоте, а не как безобразный злокачественный нарост на ней. Рому удручала перспектива – то, что здесь возведут, наверняка и даже обязательно будет наглее, выше, глянцевее притёршихся за полтора-два столетия друг к другу зданий. Будет подавлять и уродовать, будет злокачественно нарастать.
За последние годы так уже случалось не раз. Не удовольствовавшись периферией, метастазы поразили Невский, Литейный, набережные Фонтанки, Большой и Малой Невки… То есть всё, что можно, и почти всё, что нельзя. Удивительно, как до сих пор не застроили Марсово поле и Летний сад – такие земли в самой сердцевине даром пропадают. Всякий раз Рому удивляла мотивировка разносчиков заразы: дескать, сносимые дома и застраиваемые скверы не имеют культурных заслуг и не являются историческим достоянием. Можно подумать, что возводимые на их местах деловые центры, элитные кондоминиумы и торговые стекляшки будут их иметь и ими являться. Можно подумать, что память людей, проживших здесь жизнь, встречавших здесь любовь и пивших здесь портвейн, ровным счётом ничего не значит… Но что больше всего допекало Рому в этой истребительно-строительной истории – в ней не было никакого пафоса борьбы, никакого величественного злого умысла, противостояние которому почёл бы он за честь. Всё глупейшим образом сводилось к мелкому болезненному желанию обогащения, которое постоянно теребит в человеке демон корысти – пошлейший из демонов. Не было никакого заговора против красоты – одно равнодушие и вздорная страстишка срубить по-быстрому бабла. А стало быть, в противостоянии нет смысла, потому что нет самого противостояния – есть всё те же разложение и тлен, охватившие уже всю ойкумену. Такой же тлен точил Петрополь Вагинова. Отличие одно: нынешнее разложение покрыто, точно камуфляжной сеткой, завесой приторного лоска – потребительского бума, мнимого благополучия, пустопорожней деловой активности, махрового веселья. «Нам ли не знать, – вздохнув, подумал Тарарам, – что такие декорации всегда утаивают под собой какую-нибудь гадость».
После полутора часов, проведённых за рулём, Рома был не прочь выпить. Егор тоже не возражал и даже, имея тяготение к анализу и синтезу, заметил, что у людей серьёзных профессий, связанных, как правило, с перемещением в пространстве (шофёры-дальнобойщики, гусары, моряки), в свободное от профильных занятий время бросаются в глаза две характерные наклонности – готовность к выпивке и скоротечным интрижкам. Видимо, предположил Егор, первобытная стихия пути определённым образом формирует личность, оттачивая в ней страсть к похождениям и авантюрам. Странствие из Токсово в центр СПб, конечно, не весть что… И всё же. Словом, дав время друг другу на то, чтобы принять душ и переодеться, Тарарам с Егором договорились встретиться в рюмочной на Пушкинской, и к назначенному часу Рома уже немного опаздывал.
В рюмочной, известной в городе собранием неимоверного количества настенных, по большей части неисправных часов и подаваемыми на закуску вкрутую сваренными яйцами, было людно, но вместе с тем хватало и свободных мест. Егор уже сидел на скамье за деревянным столом и то, что располагалось перед ним – графин водки, две стопки, два стакана с томатным соком и пара яиц, – свидетельствовало о предстоянии собутыльника.
– Мы завязли, ещё не сдвинувшись с места, – без предисловий сказал Тарарам. Он устроился за столом напротив Егора. – Я именно это имел в виду, когда говорил в машине, что в России механизм всякой энергичной, жизнепереустраивающей идеи в относительно устоявшиеся времена тяготит проклятие холостого хода. Впечатление такое, будто все мы подавлены инерцией тяжёлого русского бездействия. Или неподъёмным русским покоем. Кому как нравится.
– У меня похожее ощущение, – признался Егор, подвигая к Роме стопку с колыхнувшейся в ней водкой и стакан с густым и оттого неподвижным соком. – Мы размахиваем руками, а сами по пояс увязли в болоте. Что твой парад голых, что реальный театр – всё это похоже на жесты отчаяния, посылаемые в пространство узниками трясины. Жесты эти имели бы смысл, если бы мы уже были свободными и умели ходить по топи бублимира легко и беспечно, как водомерки по воде. А мы не умеем. Потому что не знаем – зачем? Сначала должно сложиться ядро, ясно осознающее, чего оно хочет, и не обременённое кандалами вещественной зависимости. Этакая шаровая молния, гуляющая сама по себе. Осмысленные действия – после.
– Верно. Особенно про кандалы и молнию. – Рома бросил в стакан щепоть соли – не найдя чем размешать, достал из чехла на поясе «опинель», раскрыл и разболтал сок лезвием. – Однако и разговоры наши тоже как будто бы идут по кругу. Тебе не кажется, дружок? – Тарарам посмотрел на Егора, но тот, должно быть, счёл вопрос риторическим. – Всё верно, сперва, конечно, нужно стать свободными, однако перед тем чётко осознав мотив – во имя чего.
– А мы не осознаём, ведь так?
– Мы знаем только то, что хотим жить иначе. Не идейно, не экономически, не конфессионально – цивилизационно иначе. Иначе во всём. Хотим жить в единстве с миром и заключённой в нём бездной. Но не по банальной модели экологов, поскольку те отводят человеку на земле место гостя. А мы – не гости. Мы – первые в сообществе равных. Поэтому, подходя к лесу, мы говорим: «Здравствуй, лес-батюшка», а завидев муравейник, кричим: «Здорово, мужики!» И когда убиваем змею, мы стараемся, чтобы кровь её не попала на хлеб, потому что если змеиная кровь попадает на хлеб, хлеб стонет. И в этом иначе деньгам мы отводим совсем другое место. Потому что деньги – это стыдно, это неприлично, этого не должно быть… – Словно бы оспаривая Ромины слова, игральный автомат в углу зазвенел, изрыгая чей-то выигрыш. – Короче говоря, мы хотим жить в русском мире, осенённом покровом традиции. Но путь традиции пресёкся. Ведь традиция, как ты понимаешь, это не сохранение пепла, а поддержание огня. Вокруг же теперь один пепел. Мир век от века перерождался – как нам, перерожденцам, чудом сохранившим память об эдемском саде, выродиться обратно?
Тарарам в церемонном приветствии приподнял стопку и разом выпил.
– Вокруг пепел, – согласился Егор, по примеру Ромы разделавшийся с содержимым своей стопки, – а между тем ты говоришь об этом бодро. Как тот оптимист из анекдота.
– Какого анекдота?
– Ну помнишь – оптимист пишет в своём дневнике: «Сегодня был на кладбище. Видел много плюсов».
Усмехнувшись, Тарарам стукнул яйцо о стол и принялся колупать скорлупу ногтем.
– Нет, дружок, я не оптимист из анекдота. Я – реалист, стремящийся к невозможному.
Промокнув салфеткой красные от сока губы, Егор взялся за графин – самохарактеристика Ромы как-то по-особенному в нём отозвалась, что-то своё, уже однажды думанное, напомнила…
– Переустраивать мир сейчас, – заметил он, – позволительно – если это ещё позволительно в принципе – только через власть. Почему ты не идёшь сам и не ведёшь нас туда – в рощи заповедных властилищ?
– По той же причине, – вздохнул Тарарам и пояснил: – Путь традиции пресёкся. Но ещё прежде рассыпалась вертикаль общества традиции, выстроенная от человека к Божеству. Смысл и функции власти теперь не те, они уже совсем, совсем иные… Общество традиции устроено так: небо – местопребывание сил, направляющих рождение, смерть и судьбу всего сущего, а власть – лишь медиатор, звено в передаче тайны, посредник между сакральной силой и подданными. Первоначально власть была природно умна и сильна проводимой через неё небесной справедливостью. И, уж конечно, совсем не похожа на нынешние капища власти. Память о власти, как о звонкой трубе, в которую дует Бог, сидит у людей в подкорке. Именно потому наши нынешние властилища столь ненавистны и презренны. – Тарарам потрогал свою вышитую бисером шапочку – на месте ли? – и закурил. – Нужно кончать с разговорами. Нужно сбросить оковы, которых на нас не так уж и много, и налегке заняться делом. Нужно выстраивать внутри разлагающегося трупа бытия свой хрустальный мир – цельный, структурно организованный мир-паразит, крепко стоящий на забытых принципах. Ну а после, выстроив, мы невольно противопоставим его – небольшой, колючий, твёрдый – враждебному, студенистому, вопящему и негодующему всем своим необъятным телом миру смерти. – Рома подался вперёд, к Егору, и, понизив голос, почти зашептал: – А ведь если противопоставить крупицу осмысленной структуры бессмысленному раствору, то через какое-то время всё лучшее, цельное, здоровое притянется сюда, к нам, и на крупице нарастёт огромный блистающий кристалл, который, в частности, дарует смысл поглотившему универсум студню разложения, затопившему нашу жизнь раствору чепухи. Бывают времена, когда ничто не оказывается столь уместным и своевременным, как уже безвозвратно похороненная, казалось бы, в тёмных волнах лет архаика. Вперёд – к руинам эдемского сада!
Презрев хороший тон общественных едален, Тарарам макнул яйцо в солонку и вновь приподнял стопку.
Егор с удивлением заметил, что стрелки некоторых часов на стенах рюмочной вздрагивают и совершают шаг. «А оков у нас и впрямь немного, – подумал он. – Как в лёгкой, мечтами надутой юности и положено. Фатер-муттер, родительский кров, универ, планы на будущее – вот и все цепи. А любовь – права Настя – не кандалы. Любовь – ураган, срывающий людишек с якоря. Вперёд. Пока не поздно. Пока не заякорился намертво. Пока киль мидиями не оброс». Егор вспомнил прошлое лето – свою первую самостоятельную поездку в Крым с парой университетских приятелей. Вспомнил довольных житухой воробьёв, которые, излучая в пространство щебет, расклёвывали на деревьях поспевшие вишни и абрикосы. Вспомнил обугленного солнцем татарина с новосветского рынка, дававшего своим дыням пятилетнюю гарантию («Такая дыня – пять лет помнить будешь!»). Вспомнил жука-оленя, сидящего – и как тут очутился? – на камне у Сквозного грота, – его едва не захлёстывала солёная волна, а он задирал голову и грозно разводил чудовищные жвалы, извещая стихию о готовности к битве. Вспомнил медуз… Не тех что как грибы и парашюты, а тех, что похожи на прозрачные бутоны тюльпанов, по жилкам которых бежит, переливаясь и посверкивая, зеленоватый, сиреневый и фиолетовый свет. Такого чувства свободы, как тогда, в Крыму, Егор прежде не испытывал. В груди его сделалось небольшое приятное волнение. Уж так устроена память: тронул – и струна запела.
– Ты отворачиваешься от власти, а стало быть, и от политики как таковой. – Выпив, Егор с удовольствием поморщился и тоже принялся ковырять скорлупу. – И, безусловно, поступаешь верно. Но чем наш хрустальный мир-паразит, вернее, его ядро, будет отличаться от какой-нибудь своеобразно радикальной партии, желающей построить царство берендеев на земле? Только тем, что мы не станем лезть с патологоанатомическими бреднями в дела гниющего социального тела? Но тогда чем мы будем отличаться от сектантов, проклявших белый свет и замуровавшихся в пещере где-нибудь под пензенской Погановкой? И потом, переродилась ведь не только власть, но и подданные. А что, – Егор указал пальцем в потолок, – если и там беда? Что, если переродились и силы неба?
– Хороший вопрос. – Тарарам прикинул мысленно, хватит ли в его кармане денег, чтобы заказать ещё один графин водки. Денег хватало. – Теперь – по порядку. Большевики и нацисты начали строить свои невероятные цивилизации через политику и в результате, вместо того, чтобы расчистить площадку, только добавили во вселенскую выгребную яму помоев. Самоудаление, добровольный вычет себя из переписи мира – тоже не выход. Потому что этот путь ничего не меняет за пределами того, кто вычелся. Хотя сам он, вычтенный, вполне возможно, и выясняет личные отношения с бездной. В ней самой, – повторив жест Егора, Тарарам ткнул пальцем в потолок, – в бездне, вряд ли что-то меняется. Я бледно говорю, путано – я это понимаю… Подобраться к заповедной тайне – значит принять бездну. Её невозможно постичь, измерить, вздрючить – а выродившемуся обезбоженному человеку хочется именно этого. Особенно вздрючить. Выродившийся человек считает себя философом и учёным. Учёным жизнью. Неспособный постичь, измерить, вздрючить, такой человек верит, что наука жить – это умение обходить бездну. И он совершенствуется в методах, в подделках под жизнь – обрастает делами, вещами, мелочными привязанностями, чтобы не жить, а как-то так, что ли, обходиться. А нужно другое. Нужно принять бездну, впустить её в себя, жить с ней, потому что суть жизни – бездна. Всё остальное – её обрамление. Существо бытия – небытие. Понимающий это и есть человек традиции. Просто человек, без рода занятий и социального ангажемента. Но дальше ему надо кем-то становиться… Понимаешь? Тут и возможен рост чудесного кристалла. Словом, радикально картину мира способны изменить не политика и не отважный эскапизм, а преображение. Примерно алхимического свойства. Феникс традиции сгорел, огонь погас, остался пепел. Но Фениксу для возрождения довольно и пепла!
– Что-то я не очень… – Егор рукой описал в пространстве фигуру, которая могла бы означать непонимание, душевный подъём, замысловатое приветствие и вообще всё что хочешь.
– Человеческий мир, дружок, как и несовершенная материя, способен к трансмутации. Алхимия даёт нам здесь прекрасную метафору. Возможно, именно в состоянии разложения, своего рода расплава, разжижения, мир в наибольшей степени готов к тому, чтобы чудесно перевоплотиться. Социальное тело, составленное из человеческих атомов, подспудно жаждет преображения – нужен лишь мастер, бригада отменных мастеров Великого Делания, готовых вложить в это тело тинктуру и запустить процесс. И тогда человек-свинец – чем чёрт не шутит – вновь выродится в человека-золото.
– Шикарно! – вознёс наполненную стопку Егор. – А где наша тинктура?
– Общий долг, – сурово сказал Тарарам. – Общий долг – вот наша тинктура. И мы – его носители. Мы – агенты грядущего царства традиции, его империи, лёгкие и свободные радикалы преображения, ничем, кроме общего долга, не обременённые. И душ Ставрогина поможет нам в нелёгком деле осознания себя, в подвиге обретения общего долга.
Егор уже не мог сдержать восторг:
– За общий долг!
– За яркое преображение!
Не сговариваясь, выпили красиво – расправили плечи, чокнулись, поднесли стопки к губам, опрокинули – всё сделали чётко, обоюдосогласно, как мастерицы синхронного всплеска. Между тем стрелки часов действительно вздрагивали – некоторые шли своим ходом, показывая разнообразное и удивительное время, некоторые просто топтались на месте, будто караул разминал затёкшие ноги.
– Я хайку сочинил, – прожевав яйцо, сказал Егор. – Хочешь послушать?
Тарарам хотел.
– Слушай. – И Егор тёплым голосом, мягко, по-домашнему продекламировал:
Вот и опять Рома с Егором
Мира судьбу решают.
Тихое «дзынь»…
4
Всё с Катенькой вышло так, как Тарарам и предполагал. Очередь идти под душ Ставрогина осталась за Настей. Катенька, впрочем, изъявила категорическое желание на этом омовении присутствовать. Возражать никто не стал – сговор состоялся.