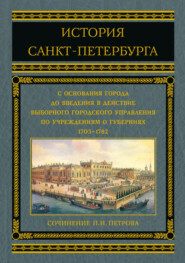По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые и черные
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, кое-что надумали-таки, – изволь прислушать.
– Ты мне скажи только главное, куда все по ряду пересказывать! Спешить, знаешь, нам надо, кончить да разойтись, пока не воротились с луга.
– Изволь, в коротких словах перескажу. Согласились, первое – давать ход Сапеге с его планом, второе – наблюдать за Алешкой Макаровым, чтобы не подлез к Сапеге, третье – самого зубастого пса на привязи держать. А Самой его всякие штуки изображать с толкованьем, что он ее в грош не ставит, от себя все выдумывая и своим все позволяя, а четвертое – голштинцам ходу не давать, вместе с прочими иными… под благовидными предлогами.
– И только?
– Да, забыл еще, – хотим, пооттянуть отъезд молодых в Ревель и подбить Саму на посылку ворога крепости осматривать да полки…
– Не много же вы, друзья, придумали! Стоило ли из-за этого собираться! Я ожидал чего ни есть посущественнее да поближе к делу… прицепившись к заявлению о поддержке зятя…
– Да что же ты придумал? Говори, братец… Ум хорошо, два лучше, а три еще лучше… А твой умок…
– Без насмешек, мой дорогой граф Петр Андреич. Дело не в словах, а в захвате прямо того, чего держаться. Куй железо, пока горячо! С пыла, значит, и берись.
– Да говори прямо, коли просят тебя! – с нетерпением отозвался Шафиров.
– Извольте. Первое дело, я думаю, Самой теперь же представить, что для постановки дела о Голштинии нужно немедленно учредить совет… и на него возложить измышление мер, не терпящих отлагательства. А в совет нам друг друга и выбрать да зятюшку к рукам прибрать всем вместе и каждому поодиночке, приманкой голштинского дела… Сашка будет тут один, и ему придется исполнять не свою волю, а нашу. Граф Гаврило Иваныч, как канцлер, первое кресло займет; я буду его настраивать… понимаете: как и что…
– То есть как же это его настраивать? – возразил Толстой.
– Заставлять нас по вашей дудке, что ли, плясать? Как не понимать! – резко, с нескрываемым неудовольствием возразил, перерывая Толстого, Шафиров. – Вот оно в чем главное-то!
– Ты, Петр Павлыч, не спеши еще ехидничать да перекоряться. Можешь уличить, когда будет что похожее на дело, а ради своей старой вражды с моим тестем не след еще тебе враждебно относиться к образованию совета. Он только и в состоянии связать по рукам Сашку.
– Да! То есть вам передать на расправу, что ль, и самим шею протянуть?! Молоденек еще, Павел Иваныч, коли думаешь, что плутня твоя не в примету и что на такую уду нашего брата, старого угря, выловишь…
– Ошибаешься и обижаешь. Я и не думал тебя ловить… а говорю прямо: кто не разделяет взгляда моего на важность совета – пусть не садится в него… и даже – пусть против идет… Сила разума даст надлежащую цену моему предложению в глазах непредубежденных. А кто предубежден, с тем ничего не поделаешь. И начинать нечего…
– Да ты, друг, Павел Иваныч, и сам не ершись так. Петр Павлыч дельно говорит, что коли совет, то Гаврилу Иваныча старшим посадить – нам немного будет прибытка. Первое дело – он крепко упорен, да и упорен, заметь, при недогадливости. А это, братец, сам знаешь, в борьбе с хитрецом Сашкой значит то же, что лучше и зуб не оскаливать, – высказался Толстой.
– А я-то на что?! Я ведь говорю, что я его настраивать буду, как и что нам надобно провести… а тесть только будет орудием нашим, не больше.
– Да нашим ли, полно? А может, твоим? Ведь ты говоришь за себя одного, коли ты его настраивать берешься? И мы в этом нисколько не сумневаемся… тебя ведь мы хорошо знаем, что ты за птица!.. – не отставал оскорбленный Шафиров.
– Я с тобой и говорить, коли так, не хочу и дела иметь не желаю! – вспылил, выйдя не к месту из терпения, Ягужинский. – Можно и без тебя совет составить… коли так.
– А-а! И без него? А, смею спросить, что из этого выйдет-то, голубчик? – возразил Толстой гневному генерал-прокурору. – Вот, перво-наперво, Петра Павлыча побоку, потому что не то говорит, что тебе хотелось бы… Там – меня, скорее всего, потому, что и я грешен в том тоже, да и ни за что не подлажусь. Затем – графа Андрея Артамоныча. Он и подавно не уступит, коли что увидит не так. И останетесь в мнимом совете вы, вероятно, двое с тестюшкой своим, еще Голштинский да Сапега?! Это ли тебе кажется хорошим и нужным, Павел Иваныч, для обузданья зубастой щуки?
– Коли будут все несогласные выгоняться, так какой же прок и какой барыш будет в совете вашем? – поддержал Дивиер.
– Ну… коли так, пошли! Один другого лучше…
– Я вовсе не то говорю и не думал ни об исключении чьем бы ни было, ни о преобладании тестевом и моем в совете, а только – о благовидном прикрытии персоною канцлера нас, истинных воротил дел в совете. А коли Петр Павлыч не хочет и слышать о канцлере, которого сама государыня непременно и без нашего спроса посадит, коли решит совет, тогда – я говорил – Петру Павловичу не место будет там. Дела идти при такой слепой ненависти его к графу, разумеется, не могут… Вот что я хотел сказать.
– Отчего же, смею спросить, идти дела-то не могут у целого совета из-за противоположности воззрений одного члена? – спросил Ягужинского умный и сдержанный Матвеев.
– Могут, не спорю, когда один, а не все будут противоречить… – вздумал увернуться Павел Иванович.
– Не дело говоришь, друг Павел Иваныч, – поддержал Толстой. – Я думаю, что чем больше разных мнений, тем вернее и ближе к цели решения.
– Да какое же решение, когда все врознь… кто в лес, кто по дрова? Единенья никакого тут не будет, а стало быть, и не дойдет ни до какого решения… – возражал Ягужинский.
– Не спорю, – как бы согласился Толстой, – и так когда-нибудь… могло бы случиться… Но раз, не больше. Совет, напротив, для того и устраивается, чтобы не давать дурачить себя делопроизводителю, а дела вершить разумно, с разных сторон обсуждая полезность и вред, выгоду и невыгоду. И это все высказывается каждым, думающим по-своему, разумно и основательно поняв суть дела и цель предлагаемой меры. Что за беда, что один-другой и не будут разделять видов докладчика? Хорошее останется хорошим. Большинство станет за дело. А несогласные, возражая, укажут разве с своей стороны, что им кажется не совсем годным! Может, иное и вправду будет полезно, освобождая от возможного подвоха или промаха.
– То-то и есть, что под предлогом ожидания подвоха чаще всего норовят разбить подлинно хорошее предложение! – ухватился, как за соломинку утопающий, еще раз Павел Иванович.
– А ты укажи, голубчик, на примерах такую якобы нашу страсть портить дело ради самолюбия или паче по недостатку рассуждения… прежде чем взводить обвинение, – холодно возразил граф Матвеев.
Ягужинскому при этом вызове блеснула мысль уколоть, как он думал, ловко самого Матвеева напоминанием дела, повлекшего осуждение Шафирова за ссору в Сенате. Недолго думая, Павел Иванович и брякнул:
– Хорошо! Предложение о даче жалованья за труды по службе, кажется, неоспоримо правдиво, но что раз вышло, например, когда, по ходатайству брата переводчик Михайло Шафиров попросил дачи жалованья себе у господ Сената?
– Эк ты куда хватил, Павел Иванович! Большой же ты ловчак! – отозвался Шафиров. – Я буду должен сам тебе на это отповедь дать. Брату следовало жалованье, бесспорно, но Скорняков под сукно запрятал указ, тобою не исполненный, приняв временное прокурорство, норовя нашему общему ворогу. А чтобы я его не уличал, потребовал моего удаления: якобы я тут был причастен к делу, по родству. Я возразил при этом нахальстве, резко, каюсь… Подхватил мою резкость Сашка, такой же мастер концы ловить, как и ты, Павел Иваныч, не обидься за подходящее сравненье… Вот и вышло между мною и им безобразие… Не оправдываю свою запальчивость… Но могу одно сказать, что самый случай подобного греха со всяким горячим человеком может случиться, когда докладчик – вор и турусу подводит, держа в одну руку с председателем… Ради такой легкости распрей и следует в совете, о котором теперь мы рассуждаем, не быть председателю постоянному, а выбирать председателя на одно присутствие. И то в самом заседании, прежде чем садиться, шарами разумеется. Докладчиком же быть секретарю, а никак не одному из равноправных членов. Равенство свободных голосов тогда и принесет всю пользу, от него ожидаемую.
Павел Иванович Ягужинский совсем растерялся при таком полном крушении своих надежд, ради которых он и подбил на совещание. Он опустил голову, и на лице его выступило недовольство в соединении с враждебностью к выбранным было им в союзники. Так что в эту минуту он готов был переменить мысль о том, что тесть его – на поддержке которого основывалось многое – никогда не может сойтись с Меншиковым, враждуя с ним единственно ради первенства, которого тот, естественно, не уступал и не уступит. В ушах генерал-прокурора еще болезненно отдавались последние слова Шафирова, когда Толстой нанес еще более отважный и неотвратимый удар его самолюбию, резюмируя все выслушанное на совещании.
– Из этого видно, господа товарищи, – молвил Толстой, – что нам Павла Иваныча нельзя даже прочить и в члены совета, при высказанной им неуверенности в пользе свободных голосов. По его мнению, нельзя даже в совете прийти к решению иначе как с нажимом председателя! А такого обращения с нашими мнениями мы меньше всего желаем. Один граф Гаврило Иваныч будет равный с ним, не перемогая, как единица, ничьего единичного же мнения. А если допустить поддержку его еще в члене равноправном, два голоса – уже видный перевес! Поэтому двоим разом – зятю и тестю – сидеть в совете мы допустить не можем, без очевидного подрыва права каждого из нас и всех вообще. Пусть своим Сенатом и заправляет Павел Иваныч, а нас не касается.
Ягужинский уже больше и слушать не хотел. Повернулся и стремительно вышел, заставив всех только молча поглядеть вслед уходящему.
Когда Ягужинский скрылся за оборотом стены в коридорчике, граф Матвеев сказал:
– Последними словами своими ты, граф Петр Андреич, положил в долгий ящик будущий совет. Павел Иваныч примет, понятно, все меры, чтобы его не было.
– А он будет все-таки… и откроется без него!.. – решительно сказал старый граф, вставая с места. За ним пошли в разные стороны все участники совещания.
Неприятный случай с любопытным дипломатом дал Павлу Ивановичу благовидный предлог немедля переговорить с тестем и показать ему, что оба они должны держаться в стороне от союзников.
– Посмотрим, – расставаясь с Ягужинским, молвил тесть, – как-то они без нас успеют? А мы без них и против них можем устроить много такого, что не только помешает им пользоваться плодами грядущих успехов, а, чего доброго, не удастся еще, может быть, ничего и выполнить из задумываемого. Рано в откровенности пустились!
– Я еще успею и к князю подойти да…
– Предупредить его небось? Не надо… Нам не во вред с тобой будет начало их вражды к неприступному. Успеем и тогда на сделку пойти, когда он, ища союзников, сам станет с нами заигрывать.
– Да он ведь и то давал понять, что вам не без выгоды будет с ним заодно стоять.
– Тем лучше… Пусть подождет да померекает: чем ни на есть нас привлечь. И еще меньше, при таком расположении, следует допускать спешку! Да, сказать правду, я еще на него тем паче теперь зол, что он, бездельник, не в свою голову загнул сегодня загадку с непутной Голштинией… Как еще разобраться придется с этой похвальбой?! Теперь мне следует ухо держать востро, да и к Самой не подсовываться, а давать понять, что втянул ее дружок в такую кашу, что, чего доброго, не вдруг расхлебаешь и натощак, а не только сытому и пьяному соваться, вылупя бельмы да ничего не соображая…
– Ну, вы как хотите… а я на всякий случай от светлейшего удаляться не должен из одного самосохранения… – решительно высказался зять.
Головкин холодно вырвал у него руку и сквозь зубы процедил:
– Как знаете… Свой царь в голове…
Вскипев не вовремя и поворотясь спиною к зятю, канцлер заметил толпу возвращавшихся с луга и поспешил сойти с большой дорожки на узенькую. Там он присел уединенно в шпалерник, желая не показываться никому на глаза. В десяти шагах от него, по другой тропинке, прошли, теперь к птичнику, обнявшись, Дивиер с Шафировым. Они не заметили старого канцлера на его наблюдательном посту.
Когда они скрылись, показался Меншиков, о чем-то тихо перешептываясь с Бутурлиным.
– Ты мне скажи только главное, куда все по ряду пересказывать! Спешить, знаешь, нам надо, кончить да разойтись, пока не воротились с луга.
– Изволь, в коротких словах перескажу. Согласились, первое – давать ход Сапеге с его планом, второе – наблюдать за Алешкой Макаровым, чтобы не подлез к Сапеге, третье – самого зубастого пса на привязи держать. А Самой его всякие штуки изображать с толкованьем, что он ее в грош не ставит, от себя все выдумывая и своим все позволяя, а четвертое – голштинцам ходу не давать, вместе с прочими иными… под благовидными предлогами.
– И только?
– Да, забыл еще, – хотим, пооттянуть отъезд молодых в Ревель и подбить Саму на посылку ворога крепости осматривать да полки…
– Не много же вы, друзья, придумали! Стоило ли из-за этого собираться! Я ожидал чего ни есть посущественнее да поближе к делу… прицепившись к заявлению о поддержке зятя…
– Да что же ты придумал? Говори, братец… Ум хорошо, два лучше, а три еще лучше… А твой умок…
– Без насмешек, мой дорогой граф Петр Андреич. Дело не в словах, а в захвате прямо того, чего держаться. Куй железо, пока горячо! С пыла, значит, и берись.
– Да говори прямо, коли просят тебя! – с нетерпением отозвался Шафиров.
– Извольте. Первое дело, я думаю, Самой теперь же представить, что для постановки дела о Голштинии нужно немедленно учредить совет… и на него возложить измышление мер, не терпящих отлагательства. А в совет нам друг друга и выбрать да зятюшку к рукам прибрать всем вместе и каждому поодиночке, приманкой голштинского дела… Сашка будет тут один, и ему придется исполнять не свою волю, а нашу. Граф Гаврило Иваныч, как канцлер, первое кресло займет; я буду его настраивать… понимаете: как и что…
– То есть как же это его настраивать? – возразил Толстой.
– Заставлять нас по вашей дудке, что ли, плясать? Как не понимать! – резко, с нескрываемым неудовольствием возразил, перерывая Толстого, Шафиров. – Вот оно в чем главное-то!
– Ты, Петр Павлыч, не спеши еще ехидничать да перекоряться. Можешь уличить, когда будет что похожее на дело, а ради своей старой вражды с моим тестем не след еще тебе враждебно относиться к образованию совета. Он только и в состоянии связать по рукам Сашку.
– Да! То есть вам передать на расправу, что ль, и самим шею протянуть?! Молоденек еще, Павел Иваныч, коли думаешь, что плутня твоя не в примету и что на такую уду нашего брата, старого угря, выловишь…
– Ошибаешься и обижаешь. Я и не думал тебя ловить… а говорю прямо: кто не разделяет взгляда моего на важность совета – пусть не садится в него… и даже – пусть против идет… Сила разума даст надлежащую цену моему предложению в глазах непредубежденных. А кто предубежден, с тем ничего не поделаешь. И начинать нечего…
– Да ты, друг, Павел Иваныч, и сам не ершись так. Петр Павлыч дельно говорит, что коли совет, то Гаврилу Иваныча старшим посадить – нам немного будет прибытка. Первое дело – он крепко упорен, да и упорен, заметь, при недогадливости. А это, братец, сам знаешь, в борьбе с хитрецом Сашкой значит то же, что лучше и зуб не оскаливать, – высказался Толстой.
– А я-то на что?! Я ведь говорю, что я его настраивать буду, как и что нам надобно провести… а тесть только будет орудием нашим, не больше.
– Да нашим ли, полно? А может, твоим? Ведь ты говоришь за себя одного, коли ты его настраивать берешься? И мы в этом нисколько не сумневаемся… тебя ведь мы хорошо знаем, что ты за птица!.. – не отставал оскорбленный Шафиров.
– Я с тобой и говорить, коли так, не хочу и дела иметь не желаю! – вспылил, выйдя не к месту из терпения, Ягужинский. – Можно и без тебя совет составить… коли так.
– А-а! И без него? А, смею спросить, что из этого выйдет-то, голубчик? – возразил Толстой гневному генерал-прокурору. – Вот, перво-наперво, Петра Павлыча побоку, потому что не то говорит, что тебе хотелось бы… Там – меня, скорее всего, потому, что и я грешен в том тоже, да и ни за что не подлажусь. Затем – графа Андрея Артамоныча. Он и подавно не уступит, коли что увидит не так. И останетесь в мнимом совете вы, вероятно, двое с тестюшкой своим, еще Голштинский да Сапега?! Это ли тебе кажется хорошим и нужным, Павел Иваныч, для обузданья зубастой щуки?
– Коли будут все несогласные выгоняться, так какой же прок и какой барыш будет в совете вашем? – поддержал Дивиер.
– Ну… коли так, пошли! Один другого лучше…
– Я вовсе не то говорю и не думал ни об исключении чьем бы ни было, ни о преобладании тестевом и моем в совете, а только – о благовидном прикрытии персоною канцлера нас, истинных воротил дел в совете. А коли Петр Павлыч не хочет и слышать о канцлере, которого сама государыня непременно и без нашего спроса посадит, коли решит совет, тогда – я говорил – Петру Павловичу не место будет там. Дела идти при такой слепой ненависти его к графу, разумеется, не могут… Вот что я хотел сказать.
– Отчего же, смею спросить, идти дела-то не могут у целого совета из-за противоположности воззрений одного члена? – спросил Ягужинского умный и сдержанный Матвеев.
– Могут, не спорю, когда один, а не все будут противоречить… – вздумал увернуться Павел Иванович.
– Не дело говоришь, друг Павел Иваныч, – поддержал Толстой. – Я думаю, что чем больше разных мнений, тем вернее и ближе к цели решения.
– Да какое же решение, когда все врознь… кто в лес, кто по дрова? Единенья никакого тут не будет, а стало быть, и не дойдет ни до какого решения… – возражал Ягужинский.
– Не спорю, – как бы согласился Толстой, – и так когда-нибудь… могло бы случиться… Но раз, не больше. Совет, напротив, для того и устраивается, чтобы не давать дурачить себя делопроизводителю, а дела вершить разумно, с разных сторон обсуждая полезность и вред, выгоду и невыгоду. И это все высказывается каждым, думающим по-своему, разумно и основательно поняв суть дела и цель предлагаемой меры. Что за беда, что один-другой и не будут разделять видов докладчика? Хорошее останется хорошим. Большинство станет за дело. А несогласные, возражая, укажут разве с своей стороны, что им кажется не совсем годным! Может, иное и вправду будет полезно, освобождая от возможного подвоха или промаха.
– То-то и есть, что под предлогом ожидания подвоха чаще всего норовят разбить подлинно хорошее предложение! – ухватился, как за соломинку утопающий, еще раз Павел Иванович.
– А ты укажи, голубчик, на примерах такую якобы нашу страсть портить дело ради самолюбия или паче по недостатку рассуждения… прежде чем взводить обвинение, – холодно возразил граф Матвеев.
Ягужинскому при этом вызове блеснула мысль уколоть, как он думал, ловко самого Матвеева напоминанием дела, повлекшего осуждение Шафирова за ссору в Сенате. Недолго думая, Павел Иванович и брякнул:
– Хорошо! Предложение о даче жалованья за труды по службе, кажется, неоспоримо правдиво, но что раз вышло, например, когда, по ходатайству брата переводчик Михайло Шафиров попросил дачи жалованья себе у господ Сената?
– Эк ты куда хватил, Павел Иванович! Большой же ты ловчак! – отозвался Шафиров. – Я буду должен сам тебе на это отповедь дать. Брату следовало жалованье, бесспорно, но Скорняков под сукно запрятал указ, тобою не исполненный, приняв временное прокурорство, норовя нашему общему ворогу. А чтобы я его не уличал, потребовал моего удаления: якобы я тут был причастен к делу, по родству. Я возразил при этом нахальстве, резко, каюсь… Подхватил мою резкость Сашка, такой же мастер концы ловить, как и ты, Павел Иваныч, не обидься за подходящее сравненье… Вот и вышло между мною и им безобразие… Не оправдываю свою запальчивость… Но могу одно сказать, что самый случай подобного греха со всяким горячим человеком может случиться, когда докладчик – вор и турусу подводит, держа в одну руку с председателем… Ради такой легкости распрей и следует в совете, о котором теперь мы рассуждаем, не быть председателю постоянному, а выбирать председателя на одно присутствие. И то в самом заседании, прежде чем садиться, шарами разумеется. Докладчиком же быть секретарю, а никак не одному из равноправных членов. Равенство свободных голосов тогда и принесет всю пользу, от него ожидаемую.
Павел Иванович Ягужинский совсем растерялся при таком полном крушении своих надежд, ради которых он и подбил на совещание. Он опустил голову, и на лице его выступило недовольство в соединении с враждебностью к выбранным было им в союзники. Так что в эту минуту он готов был переменить мысль о том, что тесть его – на поддержке которого основывалось многое – никогда не может сойтись с Меншиковым, враждуя с ним единственно ради первенства, которого тот, естественно, не уступал и не уступит. В ушах генерал-прокурора еще болезненно отдавались последние слова Шафирова, когда Толстой нанес еще более отважный и неотвратимый удар его самолюбию, резюмируя все выслушанное на совещании.
– Из этого видно, господа товарищи, – молвил Толстой, – что нам Павла Иваныча нельзя даже прочить и в члены совета, при высказанной им неуверенности в пользе свободных голосов. По его мнению, нельзя даже в совете прийти к решению иначе как с нажимом председателя! А такого обращения с нашими мнениями мы меньше всего желаем. Один граф Гаврило Иваныч будет равный с ним, не перемогая, как единица, ничьего единичного же мнения. А если допустить поддержку его еще в члене равноправном, два голоса – уже видный перевес! Поэтому двоим разом – зятю и тестю – сидеть в совете мы допустить не можем, без очевидного подрыва права каждого из нас и всех вообще. Пусть своим Сенатом и заправляет Павел Иваныч, а нас не касается.
Ягужинский уже больше и слушать не хотел. Повернулся и стремительно вышел, заставив всех только молча поглядеть вслед уходящему.
Когда Ягужинский скрылся за оборотом стены в коридорчике, граф Матвеев сказал:
– Последними словами своими ты, граф Петр Андреич, положил в долгий ящик будущий совет. Павел Иваныч примет, понятно, все меры, чтобы его не было.
– А он будет все-таки… и откроется без него!.. – решительно сказал старый граф, вставая с места. За ним пошли в разные стороны все участники совещания.
Неприятный случай с любопытным дипломатом дал Павлу Ивановичу благовидный предлог немедля переговорить с тестем и показать ему, что оба они должны держаться в стороне от союзников.
– Посмотрим, – расставаясь с Ягужинским, молвил тесть, – как-то они без нас успеют? А мы без них и против них можем устроить много такого, что не только помешает им пользоваться плодами грядущих успехов, а, чего доброго, не удастся еще, может быть, ничего и выполнить из задумываемого. Рано в откровенности пустились!
– Я еще успею и к князю подойти да…
– Предупредить его небось? Не надо… Нам не во вред с тобой будет начало их вражды к неприступному. Успеем и тогда на сделку пойти, когда он, ища союзников, сам станет с нами заигрывать.
– Да он ведь и то давал понять, что вам не без выгоды будет с ним заодно стоять.
– Тем лучше… Пусть подождет да померекает: чем ни на есть нас привлечь. И еще меньше, при таком расположении, следует допускать спешку! Да, сказать правду, я еще на него тем паче теперь зол, что он, бездельник, не в свою голову загнул сегодня загадку с непутной Голштинией… Как еще разобраться придется с этой похвальбой?! Теперь мне следует ухо держать востро, да и к Самой не подсовываться, а давать понять, что втянул ее дружок в такую кашу, что, чего доброго, не вдруг расхлебаешь и натощак, а не только сытому и пьяному соваться, вылупя бельмы да ничего не соображая…
– Ну, вы как хотите… а я на всякий случай от светлейшего удаляться не должен из одного самосохранения… – решительно высказался зять.
Головкин холодно вырвал у него руку и сквозь зубы процедил:
– Как знаете… Свой царь в голове…
Вскипев не вовремя и поворотясь спиною к зятю, канцлер заметил толпу возвращавшихся с луга и поспешил сойти с большой дорожки на узенькую. Там он присел уединенно в шпалерник, желая не показываться никому на глаза. В десяти шагах от него, по другой тропинке, прошли, теперь к птичнику, обнявшись, Дивиер с Шафировым. Они не заметили старого канцлера на его наблюдательном посту.
Когда они скрылись, показался Меншиков, о чем-то тихо перешептываясь с Бутурлиным.