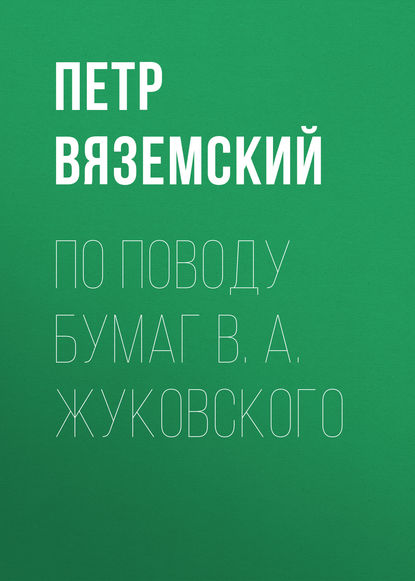По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По поводу бумаг В. А. Жуковского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По поводу бумаг В. А. Жуковского
Петр Андреевич Вяземский
«Вы просите меня, любезнейший Петр Иванович, дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в вашем Русском Архиве. Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем, будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла-бы быть иллюстрирована его биография, эта переписка близко ознакомит и нас современников, и потомство, с внутреннею, нравственною, жизнью его…»
Петр Вяземский
По поводу бумаг В. А. Жуковского
Два письма к издателю Русского архива
I
Вы просите меня, любезнейший Петр Иванович, дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в вашем Русском Архиве[2 - См. Р. Архив 1875, III (кн. XI), стр. 317-375.]. Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем, будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла-бы быть иллюстрирована его биография, эта переписка близко ознакомит и нас современников, и потомство, с внутреннею, нравственною, жизнью его. Эта внутренняя жизнь, как очаг, разливалась теплым и тихим сиянием на все окружающее. В самых письмах этих есть уже действие: есть в них несомненные, живые признаки душевного благорастворения, душевной деятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что печатные творения выразили далеко не все стороны этой удивительно-богатой души. Совершенно так. Но едва-ли не тоже самое бывает и со всеми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни один из великих писателей и вместе с тем одаренных, как вы говорите, общечеловеческим достоинством не мог выказаться и высказаться вполне в сочинениях своих. Натура все-таки выше художества. В творении, назначенном для печати, человек, вольно или невольно, принаряживается сочинителем. Сочинитель в печати чуть-ли не актер на сцене. В сочинении все-таки невольно выглядывает сочинитель. В письмах же сам человек более на лицо. Художник, разумеется, не убивает человека; но так сказать, умаляет, стесняет его. Все это говорится о писателях, которые отличаются и великим художеством, и великими внутренними качествами. С писателями средней руки бывает часто напротив. Они, по дарованию своему, когда оно есть, могут высказываться более и выказывать более, чем натура их выносит. Дарование их, то есть талант, то есть врожденная уловка, есть прикраса, а не красота: это часто блестящее шитье по основе неплотной, быть может и дырявой.
Из бумаг, сообщенных вами, каждая имеет цену и достоинство свое. Но на меня живее всего подействовали письма Батюшкова. Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый, дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса. В этом унисоне, в этом стройном единогласии, сдается мне, что слышу я и свой голос, еще свежий, не притупленный годами. При этом возрождении минувшего, припоминаю себе ближних и себя. Это частное и временное воскресение из мертвых. Да и кто-же и здесь на земле, хотя отчасти, не живет уже загробною жизнью? В жизни каждого таится уже несколько заколоченных гробов.
Где прежний я, цветущий, жизнью полный?
сказал, кажется, Жуковский. Где они? Где оно, это время, которое оставило по себе одни развалины, пепел и могилы? Для людей нового поколения эти развалины, эти могилы и остаются развалинами и могилами. Разве какой-нибудь археолог обратит на них мимоходом одно буквальное внимание: холодно и сухо исследует их, и пойдет далее искать других могил. Но если, на долгом пути своем, странник, попутчик товарищей, от которых отстал, которых давно потерял из виду, наткнется в степи на могилу одного из них, эта могила, пепел в ней хранящийся, мгновенно преобразуются в глазах его в дух и плоть. Эта могила ему родственная: тут часть и его самого погребена. Могила уже не могила, а вечно живущая, вечно нетленная святыня. В виду подобных памятников, запоздалый странник умиляется и с каким-то сладостно-грустным благоговением переживает с отжившими для света, но для него еще живыми, года уже давно минувшие.
И тут не нужны воспоминания ярко определившиеся, не нужны следы глубоко впечатлевшиеся в почву. Довольно безделицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать из неё полный образ, всего человека, все минувшее. Любовнику достаточно взглянуть на один засохший цветок, залежавшийся в бумажнике его, чтобы воссоздать мгновенно пред собою всю повесть, всю поэму молодой любви своей. Дружба такой-же могучий и волшебный медиум.
Старость имеет одно преимущество (надобно-же ей иметь что-нибудь отрадное): она может многое помнить; много и печального, спора нет; но ведь и в действительности, и в насущности, нет света без тени и, как говорили в старину, нет розы без шипов. Нынешним летом имел я случай напомнить о себе лорду Стратфорду Редклифу. Под именем Стратфорда Каннинга был он мне знаком по Константинополю. В то время слыл он большим недоброжелателем России; может и был он таковым; но во всяком случае, был он более противником политики России на Востоке или, что к одному приходит, был слишком ревнивым, мнительным и раздражительным блюстителем политических Английских интересов на Востоке. Как бы то ни было, но в частных сношениях с Русскою колониею в Константинополе был он самого любезного и дружеского расположения. Никогда не забуду свидетельств внимания и приязни, которые он мне оказывал. Вот что, по поводу привета моего, пишет он мне из Лондона и что навело меня на имя его, в речи, до которой, казалось, нет ему никакого дела. Nous nous rappelons bien, lady Stratford et moi, le temps, aujourd'hui aussi еloignе, de votre visite aux rives du Bosphore. Il vaut bien la реипе de vivre longtemps pour pouvoir encore jouir d'ип souvenir tellement agrеable[3 - Мы с женою хорошо помним время, ныне столь отдаленное, когда вы навестили нас на берегу Босфора. Жить долго стоит труда, дабы иметь еще возможность наслаждаться столь приятным воспоминанием.].
Разумеется, это вежливые, любезные слова; но много теплоты и чувства в мысли выраженной старцем, что отрадно, что стоит так долго прожить, чтобы наслаждаться еще приятными воспоминаниями. В этой мысли лучшая похвала, лучшее оправдание и утешение старости.
В письмах Батюшкова находятся звездочки (на стран. 350 и 361). Эти звездочки в печати тоже что маски лицам, которым предоставляется сохранять инкогнито. Оно иногда нужно из приличия. Вообще периодическая и хроническая печать мало придерживается этого обычая: она любит демаскировать лица, она мало уважает охранительные звездочки и ведет большой расход собственным именам. Между тем не следует забывать, что собственное имя есть вместе с тем и личная собственность, собственность родовая, семейная. С таким имуществом посторонним людям должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, как например литтературная, авторская, не поступит, за истечением нескольких десятилетних давностей, в область общего достояния. А до законного срока – эта законность не может быть определена цыфрами, но чувством приличия и нравственным тактом. Такая собственность должна оставаться неприкосновенною, не только при жизни собственника, смотря с которой стороны подходишь к этой собственности, но должна быть признаваема во втором и третьем поколении. Печать унижает себя, когда печатает то, что человек не осмелился бы сказать гласно и прямо в лицо другому человеку; или когда говорит на листках своих то, что подсказывающий ей никогда не решился бы сказать в порядочном доме и пред порядочными людьми. Печатное слово должно быть брезгливо, целомудренно и совестливо. Вот оттенки, которые мало, – извините меня, милостивый государь, Петр Иванович, – и не всегда соблюдаются господами журналистами. Впрочем, говорю здесь не об одной нашей журналистике: иностранная также не без греха. Но особенность нашей журналистики заключается в том, что даже самая животрепещущая, самая горячая часть её живет как-то вне общества, на которое хочет она действовать. Говоря языком её, она часто игнорируеть семейные предания, связи тех лиц, которые выводит на свежую, и еще чаще, на мутную воду. Все это нередко делает она невинно, бессознательно. В таких случаях журналистика выходит бедовое дитя гласности (enfant terrible). Но как бы то ни было, соблазн, скандал все-таки заносится на печатные листы.
Разумеется, здесь речь идет не о письменной жизни писателя: такая сторона деятельности его есть прямая принадлежность публики. Сочинение, отданное в печать, есть тот же товар, выносимый на рынок: каждый прохожий имеет право судить его, толковать о нем, хвалить его или хаять, как угодно.
Возвратимся к вашим звездочкам. В принципе я совершенно их одобряю; но здесь, кажется, были они излишняя осторожность. Сначала они, особенно первые, меня немножко интриговали. Но скоро мог я сказать: je te reconnais, или je me reconnais, beau masque [4 - Я узнаю тебя (себя), прекрасная маска.]. Если-бы вы снеслись со мною заблаговременно, я уполномочил бы вас выдать меня публике живьем и en toutes lettres. В первом инкогнито я догадываюсь, что это я. Но вовсе не помню, к чему относится жалоба и укоризна Батюшкова. Вероятно, недовольный Жуковским за медлительное распоряжение рукописями Михаила Никитича Муравьева, обратил он гнев и на меня, по тому же поводу. Досада его понятна и приносит честь ему. Он дорожил именем и памятью Муравьева. Муравьев был родственник ему, пекся о воспитании его; как человек, как государственный деятель, он был чистая, возвышенная личность; как писатель, оставил он по себе труды, если не блестящие, то приятные и добросовестные, пропитанные любовью к России, к науке и чувствами высокой нравственности. Сочувствия и благодарность связывали Батюшкова с Муравьевым. Очень понятно, что он признавал себя в праве сердиться на друзей своих, когда относились они небрежно к памяти ему дорогой и милой.
Под звездочками (стр. 361) уже несомненно узнаю себя и должен в том сознаться, не смотря на похвалы, означенные под ними. Похвалы, мед в сторону; но строгий приговор, но горькая истина всплывает, и я не могу отречься от них. Тем более не могу, что нередко слыхал я от самого Батюшкова почти тоже, что говорит он обо мне в письме к Жуковскому. Не жалуюсь и не аппелирую. Но, если уже пришлось к слову, то вот что скажу я от себя. Пора жизни моей, на которую указывает мой ценсор, была точно ознаменована, а по мнению его, обессилена большим рассеянием, светскою и всякою житейскою суетностью. Но, может быть, все это происходило между прочим и от смиренного убеждения, что я вовсе не могу считать себя, по дарованию своему, призванным занять трудовое и видное место в литтературе нашей. Я был, так сказать, подавлен дарованиями и успехами двух друзей моих; мало того, я не смел сравнивать себя и с второстепенными дарованиями, которые в то время, более или менее, пользовались сочувствиями и одобрением публики. Эти слова не унижение паче гордости, а добросовестное и убежденное сознание. Батюшков пеняет мне, что я не вполне посвящаю себя обязанностям и трудам писателя. Но я никогда и не думал сделаться писателем: я писал, потому что писалось, потому что во мне искрилось нечто такое, что требовало улетучивания, просилось на волю и наружу. Это напоминает мне мой же сатирический куплет, давным давно на кого-то написанный:
Один шепнул, другой сказал,
И что он в умники попал,
Нечаянно случилось.
Впрочем, не хочу оправдывать и прикрывать себя одним смирением. Смирение смирением, но, вероятно, числилась на совести моей в то время и порядочная доля легкомыслия, беззаботности и падкости к житейским увлечениям и соблазнам.
Карамзин, около той же поры и еще с большим авторитетом, чем Батюшков, также журил меня, с укоризною и скорбью в голосе, за то, что я живу слишком легко (собственные слова его). И эти укоризны не относились к литтературе, а ко всему складу жизни. И в самом деле, как припоминаю себе то время, не могу не сказать, что я тогда не признавал жизни за труд, за обязанность, за нравственный подвиг. Как писал я, потому что писалось: так и жил я, потому что жилось. О служении кавому-нибудь высшему идеалу, о стремлении в цели общеполезной я и не заботился и не думал. Мне как-то казалось что у меня на это не хватит и достаточно сил. Довольствовался я тем, что мог уважать в других эти высокие побуждения, эту святую веру в свой подвиг, эту силу и постоянство, с которыми были они верны цели своей; но в себе не находил я ни натуры, ни призвания подвижничества. Спасибо и за то, что их умел оценивать я в других. Благодарность и Провидению, которое по пути моему свело и сблизило меня с подобными избранными подвижниками.
Разумеется, впоследствии времени жизнь берет свое. Как ни обращайся с нею легко и непочтительно, но уроки её, испытания, досадные щелчки, а иногда и удары обухом по голове, или по сердцу, царапины, раны, более или менее глубокия, заставляют человека опамятоваться и призадуматься. Тогда он узнает, он убеждается, и часто слишком поздно, что с жизнью шутить нельзя, что она не игра, не увеселительный каток, по которому скользишь и на досуге росписываешь фантастические узоры и вензеля.
Восстановление имени моего на место загадочных звездочек нужно и для истории литтературы нашей. Оно хорошо объяснит и выставит на показ, какие были в то время литтературные и литтераторские отношения, а особенно в нашем кружке. Мы любили и уважали друг друга (потому, что без уважения не может быть настоящей, истинной дружбы), но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литтературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной, независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были Арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамаское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания, все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и Арзамасцы пришлые и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу.
Напечатанное на странице 358-й письмо неизвестного лица к неизвестному лицу есть письмо Батюшкова ко мне. Стихи, разбираемые в нем, мои. «Не помяни грехов юности моея». Я этих стихов и не помянул, т.-е. не напечатал; они со многими другими стихотворениями моими лежат в бумагах моих и не торопясь ожидают движения печати.
Стихи, упоминаемые в примечании на той же 358 странице, взяты из куплетов, сочиненных Д. В. Дашковым. После первого представления Липецких Вод было устроено в честь Шаховского торжественное празднество, помнится мне в семействе Бакуниных. Автора увенчали лавровым венком и читали ему похвальные речи. По этому случаю и написаны куплеты Дашкова. Иные из них очень забавны. Когда-нибудь можно бы их напечатать, потому что все относящееся до комедии Липецкия Воды и до общества Арзамас принадлежит, более или менее, истории Русской литтературы. Тут отыщутся некоторые черты и выражения физиономии её в известное время. Напечатанное в Сыне Отечества и упоминаемое на страницах 356 и 357 Письмо к новейшему Аристофану, то-есть в князю Шаховскому, есть тоже произведение Арзамасца Чу, то-есть Д. В. Дашкова.
Теперь от чисто литтературной стороны повернем в политической, также по поводу бумаг Жуковского и поговорим о братьях Тургеневых. Но оставим это до следующего письма.
II
На странице 318 (Русский Архие, 1875, вн. Ш), сказано: «Три последние брата (Тургеневы) после 14-го декабря 1825 года, принадлежали в числу опальных людей и проч.». Это не совсем так. Опалы тут не было. Николай Иванович был не в опале, а под приговором верховного уголовного суда. Не явясь к суду, после вызова, он должен был, как добровольно не явившийся (comtumace), нести на себе всю тяжесть обвинений, которые приписывались ему сочленами его по тайному обществу и, между прочими, если не ошибаюсь – Пестелем и Рылеевым. Братья Александр и Сергей не принадлежали к Обществу. После несчастия брата, они сами и добровольно отказались от дальнейшей своей служебной деятельности. Сергей Тургенев вскоре потом умер. Александр сохранил потом придворное звание свое. Во время приездов своих в Россию, он, как камергер, состоял даже иногда дежурным при императрице Александре Феодоровне и (прибавим здесь откровенно и без малейшего нарекания) назначался на эту службу вовсе не против воли своей. В продолжении того же времени, по ходатайству князя Александра Николаевича Голицына, получил он орден св. Станислава первой степени, за исторические и дипломатические изыскания и труды свои в Римских архивах. Знавшие и видевшие его, вероятно, помнят еще, как он носил две звезды на фраке своем. Все это доказывает, что ни его не считали, и что он сам не считал себя в опале. Он мог быть в числе недовольных, но не был в числе опальных.
Император Николай не препятствовал и Жуковскому, человеку приближенному ко Двору и к самому царскому семейству, быть в сношениях с другом своим Николаем Тургеневым и упорно и смело ходатайствовать за него устно и письменно. Тем более не мог он негодовать на двух братьев Тургеневых за то, что они по связям родства и любви, не отрекались от несчастного брата своего. В то время рассказывали даже следующее. Вскоре по учреждении следственной коммиссии по делам политических обществ, Жуковский спрашивал Государя: нужно-ли Николаю Тургеневу, находящемуся заграницею, возвратиться в Россию? Государь отвечал: «Если спрашиваешь меня, как Императора, скажу: нужно. Если спрашиваешь меня как частного человека, то скажу: лучше ему не возвращаться». – Не помню в точности, слышал-ли я этот рассказ от самого Жуковского, или от кого другого; а потому и не ручаюсь в достоверности этих слов. Но, по убеждению моему, они не лишены правдоподобия. – А вот другое обстоятельство, которое живо запечатлелось в памяти моей. Жуковский рассказывал мне следующее и читал мне письма, относящиеся к этому делу. Спустя уже несколько времени, Тургенев, по собственному желанию своему, изъявил готовность приехать в Россию и предать себя суду. Он писал о том Жуковскому, который поспешил доложить Государю. Император изъявил на то согласие свое. Дело пошло в ход, но по силе вещей, по силе действительности, не могло быть доведено до конца. Не состоялось оно, между прочим, и потому, что не только трудно было, но положительно несбыточно, по прошествии нескольких лет, возобновить бывшее следствие и бывший суд. Обвинения, павшие на Тургенева, были неисключительно частные и личные. Это был не уголовный, обыкновенный процесс, за отдельный проступок; дело было государственное и в связи со многими другими; а из этих других, иных не было уже на свете; прочие сосланы были в отдаленные места Сибири. Голословное суждение о виновности Тургенева не повело бы ни к какому юридическому заключению. Поднять на ноги все минувшее и весь злополучный процесс было дело невозможное. Так оно и кончилось. Честный приятель Тургеневых и вовсе в понятиях и стремлениях своих не ретроградный Дашков, говорил мне в то время, что попытка Тургенева оправдать себя на возобновленном суде не имеет для себя никакой юридической почвы и пользы принести не может. Александр Тургенев, раздраженный обстоятельствами и глубоко уявзленный в любви своей брату, поссорился при этом случае с Дашковым, как он прежде поссорился с Блудовым. Он полагал, что Дашков, изъяснением мнения своего, затормозил и окончательно прекратил все дальнейшие попытки брата и его самого.
Взвешивая беспристрастно все обстоятельства этого дела и вероятные последствия его, можно, кажется, придти к тому заключению, что нечего сожалеть о неудаче начатых переговоров. Конечно, изгнание для Тургенева было тяжкое испытание, особенно в начале. Но все же не было оно ссылкою в Сибирь и на каторжные работы. Верю вполне, что виновность Тургенева не доходила до преступления; но за то на деле и не разделял он нужд и страданий бывших сочленов своих, чтобы не сказать сообщников: он пользовался свободою и, благодаря самоотвержению брата своего Александра, пользовался всеми удобствами и угодьями жизни.
На той же странице сказано, что Жуковский имел отраду убедить предержащие власти в политической честности своего друга. Кажется, и это не совсем так. Если под словом честности разуметь в этом случае совершенную невинность, политическую невинность, то нет сомнения, что после убеждения предержащих. властей, свободное возвращение в Россию Тургенева было бы разрешено; но этого не было и быть не могло. Сам Жуковский в одной докладной записке своей Государю пишет: «Прошу на коленях Ваше Императорское Величество оказать мне милость. Смею надеяться, что не прогневаю вас сею моею просьбою. Не могу не принести её Вам, ибо не буду иметь покоя душевного, пока не исполню того, что почитаю священнейшею должностию, Государь, снова прошу о Тургеневе; но уже не о его оправдании: если чтение бумаг его не произвело над Вашим Величеством убеждения в пользу его невиновности, то уже он ничем оправдан быть не может». Далее, Жуковский просит, по расстроенному здоровью Николая Тургенева, разрешения ему выехать из Англии, климат коей вреден ему, и обеспечить его от опасения преследования. «По воле Вашей, продолжает Жуковсвий, сего преследования быть не может; но наши иностранные миссии сочтут обязанностью не позволять ему иметь свободное пребывание в землях, от влияния их зависящих». Докладная записка, или всеподданнейшее письмо, заключается следующими словами: «Государь, не откажите мне в сей милости. С восхитительным чувством благодарности к Вам, она прольет и ясность, и спокойствие на всю мою жизнь, столь совершенно Вам преданную». Голос дружбы не напрасно ходатайствовал пред Государем: с той поры Николай Тургенев мог безопасно жить в Швейцарии, во Франции и везде, где хотел заграницею. Мы привели выписку из прошения Жуковского, чтобы доказать, что если он был убежден в политической невиновности Тургенева, то предержащие власти не разделяли этого убеждения.
Не знаю о каких оправдательных бумагах Тургенева говорит Жуковский в письме своем к Государю; но помню одну оправдательную записку, присланную изгнанником из Англии. В бытности моей в Петербурге, был я однажды приглашен князем А. Н. Голицыным, вместе с Жуковским, и вероятно по указанию Жуковского, на чтение вышепомянутой записки. Перед чтением, князь сказал нам улыбаясь: «Мы поступаем немного беззаконно, составляя из себя комитет, не разрешенный правительством; но так и быть, приступим к делу». По окончании чтения, сказал он: «cette justification est trop ? l'eau de rose» [5 - В этом оправдании слишком много розовой воды.]. Князь Голицын был человек отменно благоволительный; он вообще любил и поддерживал подчиненных своих. Александра Тургенева уважал он и отличал особенно. Нет сомнения, что он обрадовался-бы первой возможности придраться к случаю быть защитником любимого брата любимого им Александра Тургенева; однако же записка не убедила его. По миновании стольких лет, разумеется, не могу помнить по. тный состав её; но по оставшемуся во мне впечатлению, нашел и я, что не была она вполне убедительна. Это была скорее адвокатская речь, более или менее искусно составленная на известную задачу; но многое оставалось в ней неясным и как будто недосказанным.
Прибавим еще несколько слов по этому поводу. Полемика о виновности или невинности Николая Тургенева была уже не однажды, хотя и поверхностно, возбуждена в печати. Выразим о том и свои соображения. но мнению нашему, учреждение тайного общества и участие в нем, с целью более или менее политическою, с целью заменить существующий государственный порядок новым порядком, есть преступление: оно заключает в себе виновность не только против правительства, но, можно сказать, еще более против гражданского общества, против народной гражданской семьи, к которой принадлежит. Горсть людей из этой семьи, какие ни были-бы побуждения и цели их, никогда не в праве, по собственному почину своему, распоряжаться судьбами Отечества и судьбами тысячи и миллионов ближних своих. восставая против злоупотреблении настоящего и против произвола лиц власть имеющих, эти господа сами покушаются на величайший произвол: они присвоивают себе власть, которая ни в каком случае им законно не принадлежит. Они, в кружке своем, мимо всего общества сограждан своих, тайно, притворно, двулично, замышляют дело, которого не могут они предвидеть ни значение, ни исход. Можно сказать почти утвердительно, что никакое тайное политическое общество не достигало цели своей: оно никогда и нигде никого и ничего не спасало, но часто проливало много неповинной крови и губило много жертв.
Малое-ли время и мало-ли было тайных политических обществ в Италии в последнее пятидесятилетие? Вся Италия, с своими Карбонарами и другими им подобными, была обширная и неугасимая кузница, в которой ковались всевозможные заговоры. Что-же сделали эти общества? Ровно ничего. Кавур один освободил Италию при содействии и под прикрытием штыков и пушек Наполеона III. Из истории, может быть, видим еще примеры некоторых нужных и полезных переворотов, подготовленных как будто самим историческим промыслом. В подобных переворотах возникают великия личности, обреченные Промыслом на такой-то день, на такой-то подвиг. Но в тайном обществе есть всегда с одной стороны непомерное высокомерие или злой умысел, а с другой робкое малодушие и легкомыслие. Эта необходимость облекаться всегда доспехами лжи, лукавить, промышлять предательствами, должна окончательно иметь пагубное влияние на понятия и самые чувства. Все это, так сказать, съеживает внутреннее достоинство человека, ограничивает горизонт его и заражает его исключительными предубеждениями касты, в самой себе замкнутой.
По стечению каких обстоятельств, неизвестно, но Николай Тургенев был в Петербурге членом тайного политического общества. Если и не был он одним из деятельнейших членов, одним из двигателей его, то сила вещей так сложилась, что должен он был быть одним, если не единственным, то главным лнцом в этом обществе. Серьезный склад ума его, самая наружность его, серьезная и несколько строгая, образованность его, сведения по науке финансов и по другим государственным наукам, высота его над умственным уровнем окружавших его, независимость и благородство характера, все это должно было обращать внимание на него. Серьезных политических людей в обществе было мало, очень мало. Молодежь, смутно тревожимая стремлениями, еще неясно и неположительно определившимися, должна была сочувственно и с надеждою смотреть на Тургенева, как на наставника, как на будущего руководителя и вождя. Может быть, ум Тургенева не мог быть причислен в разряду умов очень обширных и производительных. Кажется, в уме его было мало гибкости и движения: он не отсвечивался оттенками; ум его был одноцветен. Но за то, он был человек нескольких твердых и честных убеждений, это свойство встречается реже, чем другие более блестящие. Эти убеждения с ним срослись; они врезались в нем неизгладино, и неистребимо, как на заветных каменных досках. Вступая в тайное общество он, вероятно, хотел и надеялся провести эти убеждения в среде сочленов своих, с тем чтобы позднее могли они разлиться далее и проникнуть в самое гражданское общество. Одно из таковых убеждений была человеческая и государственная необходимость освобождения крестьян в России от крепостного состояния. Это желание, эта заветная дума были присущи и другим в то время. Между прочими, Батюшков, мало занимавшийся политическими вопросами, написал в 1814-м году прекрасное четверостишие, в котором, обращаясь в императору Александру, говорил, что после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он Провидением довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением Русского народа. К сожалению, утратились эти стихи и в бумагах моих, и из памяти моей. Но в Тургеневе эта мысль была не летучим вдохновением, а так сказать idеe fixe, символом политической религии его. Он ее всюду и всегда проповедывал. Он был ревностным апостолом её. Здесь стоял он на твердой почве, и на почве совершенно родной, совершенно Русской. Но, кажется, сочлены его худо следовали за ним по этой почве. Большинство из них увлекалось более условными, космополитическими соображениями: оно хотело, во что бы ни стало, переворота и не удовольствовалось коренными улучшениями. Мы уже заметили выше, что серьезных политических деятелей в обществе почти не оказывалось. Тургенев, может быть, и сам был не чужд некоторых умозрительных начал западной конституционной идеологии; но в нем, хотя он и мало жил в России и мало знал ее практически, билась живая народная струя. Он страстно любил Россию и страстно ненавидел крепостное состояние. Равнодушие или, по крайней мере, не довольно горячее участие членов общества в оживотворении этого вопроса, вероятно, открыло глаза Тургеневу; а открывши их, мог он убедиться, что и это общество, и все его замыслы и разглагольствия ни к чему хорошему и путному повести не могут.
Вот что, между прочим, по этому поводу, говорил Жуковский в одной из защитительных своих докладных записок на Высочайшее имя, в пользу Тургенева (ибо он был точно адвокатом его пред судом Государя).
«По его мнению (т.-е. Тургенева), которое и мне было давно известно, освобождение крестьян в России может быть с успехом произведено только верховною властью самодержца. Он имел мысли свободные, но в то же время имел ум образованный. Он любил конституцию в Англии и в Америке и знал её невозможность в России. Республику-же везде почитал химерою. Вступив в него (в общество), он не надеялся никакой обширной пользы, ибо знал, из каких членов было оно составлено; но счел должностью вступить в него, надеясь хотя несколько быть полезным, особенно в отношении к цели своей, то-есть к освобождению крестьян. Но скоро увидел он, что общество не имело никакого дела, и что члены, согласившись с ним в главном его мнении, то есть в необходимости отпустить крепостных людей на волю, не исполняли сего на самом деле. Это совершенно его к обществу охладило. И во всю бытность свою членом, он находился не более пяти раз на так-называемых совещаниях, в коих говорено было не о чем ином, как только о том, как бы придумать для общества какое-нибудь дело. Сии разговоры из частных, то-есть относительных к обществу, обыкновенно обращались в общие, то-есть в разговоры о том, что в то время делалось в России, и тому подобное».
Далее Жуковский говорит в той же записке:
«Если он был признаваем одним из главных, по всеобщему в нему уважению, то еще не значит, чтобы он был главным действователем общества. На это нет доказательств».
Все это не подкрепляет-ли правду слов наших, что честному и благоразумному человеку не следует вступать ни в какое тайное общество? С честнейшими, лучшими преднамерениями можно попасть в просак, или в ловушку: делаешься не только участником, но, по общинному началу, и ответственным лицем за речи, за деяния, от коих внутри совести отрекаешься. Вступая в общество, может быть знаешь головы его, но не знаешь хвоста; а в подобных сходбищах хвост часто перетягивает голову и тащит ее за собою.
Жуковский гораздо короче моего знал Николая Тургенева. Все защитительные соображения, приводимые им в записках своих, вероятно, сообщены были ему самим Тургеневым. Принимать-ли все сказанное на веру, или подвергать беспристрастному и строгому исследованию и анализу, не входит в нашу настоящую задачу. Могу только от себя прибавить, что, по моему убеждению, Тургенев был в полном смысле честный и правдивый человек; но все-же был он пред судом виновен: виновен и пред нравственным судом. Как-бы то ни было, можно положительно сказать, что он не был-бы на Сенатской площади 14-го Декабря. Сослуживец и приятель государственного Прусского мужа Штейна, он мог-бы с ним участвовать в упованиях и тайных стремлениях какого-нибудь Tugenbund'a, но всегда был бы противен понятиям его, чувствам и правилам всякой уличный бунт. С другой стороны убежден я и в том, что Тургенев, сознавший всю несостоятельность общества для правильного действия в пределах, которые он себе, по совести, предназначал, и убоясь увлечений этого общества по дороге, на которой он остановить его был-бы не в силах, пришел к заключению, что необходимо ему окончательно удалиться из общества и прекратить с ним все сношения. Это он и исполнил, отправившись за границу. Таковы мои личные догадки, почти убеждения. Разумеется, могу и ошибаться.
Совокупляя и проверяя все эти соображения, невольно приходишь к одному грустному заключению: жаль, что Тургенев был увлечен политическим водоворотом. Честное и почетное место ожидало его в рядах государственных Русских деятелей. Изо всех несчастных жертв, которых разгромила и похитила гроза 14-го декабря, он да может быть еще человека два-три, не более, носили в себе залоги чего-то, которое могло созреть в будущем и принести плод. Часто повторяют, что гроза 14-го Декабря погубила прекрасную жатву дарований и гражданских надежд, которым не дано было возможности развернуться и осуществиться. Все это, не сомневаюсь, сострадательные и добросовестные сетования, но не выдерживающие беспристрастной и строгой поверки. В государственном и политическом значении и говорить нечего: дела прискорбно и громко говорят сами за себя. Сама затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозванных преобразователей. Были между ними благодушные, скажу, чистые личности, у которых ум зашел за разум, которые много зачитались и мало надумались. Их соблазняла слава гражданского подвига. Они мечтали, что стоит только захотеть, стоит только заключить союз благоденствия или какой другой, обязать себя клятвою, и дело народного спасения и перерождения возникнет, как будто само собою. Это были утописты, романтические политики. Много знавал я таковых. Прочие, большинство, были политические диллетанты, любители политических зрелищ и действий. Многие из них вступали в тайное общество, как приписывались к Масонам, к членам благотворительных и литтературных обществ, даже к членам Английского клуба: приписывались с тем, чтобы в собственных глазах своих быть и казаться чем-нибудь. Приманка тайны была всесильным соблазном для них. Она делалась для них освящением. Сами на себя смотрели они с каким-то благоговением. Все это история почти всех тайных обществ, особенно нашего. Много мало и падает жертв, по закону виновных, по нравственному и физиологическому суждению невинных или непорочных, в которых недуг был не самородный, а привитой. О несчастных можно, и даже должно, сожалеть, будь они увлекатели, или увлеченные; но все-же из того не следует, что каждое несчастие должно возводить на амвон и преклонять пред ним колена, как пред святынею.
Обратимся теперь к мнимым нашим литтературным утратам. В поэтическом даровании Рылеева не было ничего такого, что могло-бы в будущем обещать великия поэтические создания; что было в нем поэтического, он все высказал. Стало быть, не в литтературном отношении можно сожалеть о преждевременной погибели его. Можно в нем оплакивать только человека увлеченного при жизни фанатизмом политическим, возросшим до крайней степени и вероятно бескорыстным. Известный стих его:
Меня судьба уж обрекла
был искренний стих, глубоко им прочувствованный и для него самого пророческий. В предсмертные дни, судя по письмам его, он смиренно и с покорностью сознавал заблуждения свои. Александр Бестужев, и после тяжкой участи, постигшей его, имел все время выдать и осуществить весь запас дарования своего. Тоже можно сказать и о Кюхельбекере. Стало быть, буря 14-го декабря не губительно опустошила ниву литтературы нашей. И здесь можно сожалеть о людях, по чувству человеческому, а не о погибших надеждах, которые обещали нам богатую литтературную жатву.
Но Тургенев имел в себе способности, которые готовили в нем хорошего и замечательного деятеля. Нельзя не сожалеть, что участие его, или пожалуй злополучное присутствие его в тайном обществе лишило его возможности быть гласно полезным Отечеству. Он любил деятельную службу. К ней призывали его горячее желание благотворного труда, непреклонная правота его, но знания в деле государственного управления. Познания эти с каждым годом совершенствовались и росли; опытность увенчала-бы их полным успехом. В праздном изгнании своем скучал он бездействием, тосковал по деятельным занятиям своим в канцелярии Государственного Совета. Если был-бы он и совершенно чужд всяких честолюбивых замыслов, все-же мог он в изгнании своем упрекать себя, что не пошел далее и выше по законной дороге, которая открыта была пред ним. Нет сомнения, что он достиг-бы на ней значения и положения, которые раскрыли-бы пред ним широкое поприще государственной деятельности. Еще одно замечание. Если главною и заветною думою его, было – и нет повода здесь к сомнению – освобождение крестьян, то как не пожалеть, что он, отсутствием из России, лишил себя законного участия в совершении подвига, который считал он необходимым и святым? Правда, дожидался-бы он долго, но все-же дождался-бы этого радостного и обетованного для него дня. Как-бы то ни было, все-же мог он сказать: «ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром».
Вероятно, никто более его не возрадовался событием 19-го Февраля. С этим событием жизнь его, соскочившая когда-то с законной колеи, могла снова стать на прямую дорогу свою. Было-ли ему, между тем, грустно, что дело сделалось и без него, сказать трудно; но во всяком случае должен был он сам на себя посетовать, что погубил около тридцати годов своей жизни, без участия в делах и судьбе Отечества, которое любил он пламенно и которому мог-бы служить усердно и полезно.
Я здесь несколько распространился в общих и частных соображениях, во первых потому, что такая за мною водится привычка и слабость; а во вторых потому, что мне казалось нужным сказать, при случае, мнение мое в спорном и несколько загадочном деле.
К событиям и лицам, более или менее историческим, нужно, по мнению моему, приступать и с историческою правдивостью и точностью. Сохрани Боже легкомысленно клепать и добровольно наводить тени на них; но не хорошо и раскрашивать историю и лица её идеализировать; тем более, что возвышая иных не в меру, можно тем самым понижать других несправедливо. История должна быть беспристрастною и строгою возмездницею за дела и слова каждого, а не присяжным обвинителем и не присяжным защитником.
notes
Петр Андреевич Вяземский
«Вы просите меня, любезнейший Петр Иванович, дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в вашем Русском Архиве. Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем, будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла-бы быть иллюстрирована его биография, эта переписка близко ознакомит и нас современников, и потомство, с внутреннею, нравственною, жизнью его…»
Петр Вяземский
По поводу бумаг В. А. Жуковского
Два письма к издателю Русского архива
I
Вы просите меня, любезнейший Петр Иванович, дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в вашем Русском Архиве[2 - См. Р. Архив 1875, III (кн. XI), стр. 317-375.]. Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем, будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла-бы быть иллюстрирована его биография, эта переписка близко ознакомит и нас современников, и потомство, с внутреннею, нравственною, жизнью его. Эта внутренняя жизнь, как очаг, разливалась теплым и тихим сиянием на все окружающее. В самых письмах этих есть уже действие: есть в них несомненные, живые признаки душевного благорастворения, душевной деятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что печатные творения выразили далеко не все стороны этой удивительно-богатой души. Совершенно так. Но едва-ли не тоже самое бывает и со всеми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни один из великих писателей и вместе с тем одаренных, как вы говорите, общечеловеческим достоинством не мог выказаться и высказаться вполне в сочинениях своих. Натура все-таки выше художества. В творении, назначенном для печати, человек, вольно или невольно, принаряживается сочинителем. Сочинитель в печати чуть-ли не актер на сцене. В сочинении все-таки невольно выглядывает сочинитель. В письмах же сам человек более на лицо. Художник, разумеется, не убивает человека; но так сказать, умаляет, стесняет его. Все это говорится о писателях, которые отличаются и великим художеством, и великими внутренними качествами. С писателями средней руки бывает часто напротив. Они, по дарованию своему, когда оно есть, могут высказываться более и выказывать более, чем натура их выносит. Дарование их, то есть талант, то есть врожденная уловка, есть прикраса, а не красота: это часто блестящее шитье по основе неплотной, быть может и дырявой.
Из бумаг, сообщенных вами, каждая имеет цену и достоинство свое. Но на меня живее всего подействовали письма Батюшкова. Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый, дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса. В этом унисоне, в этом стройном единогласии, сдается мне, что слышу я и свой голос, еще свежий, не притупленный годами. При этом возрождении минувшего, припоминаю себе ближних и себя. Это частное и временное воскресение из мертвых. Да и кто-же и здесь на земле, хотя отчасти, не живет уже загробною жизнью? В жизни каждого таится уже несколько заколоченных гробов.
Где прежний я, цветущий, жизнью полный?
сказал, кажется, Жуковский. Где они? Где оно, это время, которое оставило по себе одни развалины, пепел и могилы? Для людей нового поколения эти развалины, эти могилы и остаются развалинами и могилами. Разве какой-нибудь археолог обратит на них мимоходом одно буквальное внимание: холодно и сухо исследует их, и пойдет далее искать других могил. Но если, на долгом пути своем, странник, попутчик товарищей, от которых отстал, которых давно потерял из виду, наткнется в степи на могилу одного из них, эта могила, пепел в ней хранящийся, мгновенно преобразуются в глазах его в дух и плоть. Эта могила ему родственная: тут часть и его самого погребена. Могила уже не могила, а вечно живущая, вечно нетленная святыня. В виду подобных памятников, запоздалый странник умиляется и с каким-то сладостно-грустным благоговением переживает с отжившими для света, но для него еще живыми, года уже давно минувшие.
И тут не нужны воспоминания ярко определившиеся, не нужны следы глубоко впечатлевшиеся в почву. Довольно безделицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать из неё полный образ, всего человека, все минувшее. Любовнику достаточно взглянуть на один засохший цветок, залежавшийся в бумажнике его, чтобы воссоздать мгновенно пред собою всю повесть, всю поэму молодой любви своей. Дружба такой-же могучий и волшебный медиум.
Старость имеет одно преимущество (надобно-же ей иметь что-нибудь отрадное): она может многое помнить; много и печального, спора нет; но ведь и в действительности, и в насущности, нет света без тени и, как говорили в старину, нет розы без шипов. Нынешним летом имел я случай напомнить о себе лорду Стратфорду Редклифу. Под именем Стратфорда Каннинга был он мне знаком по Константинополю. В то время слыл он большим недоброжелателем России; может и был он таковым; но во всяком случае, был он более противником политики России на Востоке или, что к одному приходит, был слишком ревнивым, мнительным и раздражительным блюстителем политических Английских интересов на Востоке. Как бы то ни было, но в частных сношениях с Русскою колониею в Константинополе был он самого любезного и дружеского расположения. Никогда не забуду свидетельств внимания и приязни, которые он мне оказывал. Вот что, по поводу привета моего, пишет он мне из Лондона и что навело меня на имя его, в речи, до которой, казалось, нет ему никакого дела. Nous nous rappelons bien, lady Stratford et moi, le temps, aujourd'hui aussi еloignе, de votre visite aux rives du Bosphore. Il vaut bien la реипе de vivre longtemps pour pouvoir encore jouir d'ип souvenir tellement agrеable[3 - Мы с женою хорошо помним время, ныне столь отдаленное, когда вы навестили нас на берегу Босфора. Жить долго стоит труда, дабы иметь еще возможность наслаждаться столь приятным воспоминанием.].
Разумеется, это вежливые, любезные слова; но много теплоты и чувства в мысли выраженной старцем, что отрадно, что стоит так долго прожить, чтобы наслаждаться еще приятными воспоминаниями. В этой мысли лучшая похвала, лучшее оправдание и утешение старости.
В письмах Батюшкова находятся звездочки (на стран. 350 и 361). Эти звездочки в печати тоже что маски лицам, которым предоставляется сохранять инкогнито. Оно иногда нужно из приличия. Вообще периодическая и хроническая печать мало придерживается этого обычая: она любит демаскировать лица, она мало уважает охранительные звездочки и ведет большой расход собственным именам. Между тем не следует забывать, что собственное имя есть вместе с тем и личная собственность, собственность родовая, семейная. С таким имуществом посторонним людям должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, как например литтературная, авторская, не поступит, за истечением нескольких десятилетних давностей, в область общего достояния. А до законного срока – эта законность не может быть определена цыфрами, но чувством приличия и нравственным тактом. Такая собственность должна оставаться неприкосновенною, не только при жизни собственника, смотря с которой стороны подходишь к этой собственности, но должна быть признаваема во втором и третьем поколении. Печать унижает себя, когда печатает то, что человек не осмелился бы сказать гласно и прямо в лицо другому человеку; или когда говорит на листках своих то, что подсказывающий ей никогда не решился бы сказать в порядочном доме и пред порядочными людьми. Печатное слово должно быть брезгливо, целомудренно и совестливо. Вот оттенки, которые мало, – извините меня, милостивый государь, Петр Иванович, – и не всегда соблюдаются господами журналистами. Впрочем, говорю здесь не об одной нашей журналистике: иностранная также не без греха. Но особенность нашей журналистики заключается в том, что даже самая животрепещущая, самая горячая часть её живет как-то вне общества, на которое хочет она действовать. Говоря языком её, она часто игнорируеть семейные предания, связи тех лиц, которые выводит на свежую, и еще чаще, на мутную воду. Все это нередко делает она невинно, бессознательно. В таких случаях журналистика выходит бедовое дитя гласности (enfant terrible). Но как бы то ни было, соблазн, скандал все-таки заносится на печатные листы.
Разумеется, здесь речь идет не о письменной жизни писателя: такая сторона деятельности его есть прямая принадлежность публики. Сочинение, отданное в печать, есть тот же товар, выносимый на рынок: каждый прохожий имеет право судить его, толковать о нем, хвалить его или хаять, как угодно.
Возвратимся к вашим звездочкам. В принципе я совершенно их одобряю; но здесь, кажется, были они излишняя осторожность. Сначала они, особенно первые, меня немножко интриговали. Но скоро мог я сказать: je te reconnais, или je me reconnais, beau masque [4 - Я узнаю тебя (себя), прекрасная маска.]. Если-бы вы снеслись со мною заблаговременно, я уполномочил бы вас выдать меня публике живьем и en toutes lettres. В первом инкогнито я догадываюсь, что это я. Но вовсе не помню, к чему относится жалоба и укоризна Батюшкова. Вероятно, недовольный Жуковским за медлительное распоряжение рукописями Михаила Никитича Муравьева, обратил он гнев и на меня, по тому же поводу. Досада его понятна и приносит честь ему. Он дорожил именем и памятью Муравьева. Муравьев был родственник ему, пекся о воспитании его; как человек, как государственный деятель, он был чистая, возвышенная личность; как писатель, оставил он по себе труды, если не блестящие, то приятные и добросовестные, пропитанные любовью к России, к науке и чувствами высокой нравственности. Сочувствия и благодарность связывали Батюшкова с Муравьевым. Очень понятно, что он признавал себя в праве сердиться на друзей своих, когда относились они небрежно к памяти ему дорогой и милой.
Под звездочками (стр. 361) уже несомненно узнаю себя и должен в том сознаться, не смотря на похвалы, означенные под ними. Похвалы, мед в сторону; но строгий приговор, но горькая истина всплывает, и я не могу отречься от них. Тем более не могу, что нередко слыхал я от самого Батюшкова почти тоже, что говорит он обо мне в письме к Жуковскому. Не жалуюсь и не аппелирую. Но, если уже пришлось к слову, то вот что скажу я от себя. Пора жизни моей, на которую указывает мой ценсор, была точно ознаменована, а по мнению его, обессилена большим рассеянием, светскою и всякою житейскою суетностью. Но, может быть, все это происходило между прочим и от смиренного убеждения, что я вовсе не могу считать себя, по дарованию своему, призванным занять трудовое и видное место в литтературе нашей. Я был, так сказать, подавлен дарованиями и успехами двух друзей моих; мало того, я не смел сравнивать себя и с второстепенными дарованиями, которые в то время, более или менее, пользовались сочувствиями и одобрением публики. Эти слова не унижение паче гордости, а добросовестное и убежденное сознание. Батюшков пеняет мне, что я не вполне посвящаю себя обязанностям и трудам писателя. Но я никогда и не думал сделаться писателем: я писал, потому что писалось, потому что во мне искрилось нечто такое, что требовало улетучивания, просилось на волю и наружу. Это напоминает мне мой же сатирический куплет, давным давно на кого-то написанный:
Один шепнул, другой сказал,
И что он в умники попал,
Нечаянно случилось.
Впрочем, не хочу оправдывать и прикрывать себя одним смирением. Смирение смирением, но, вероятно, числилась на совести моей в то время и порядочная доля легкомыслия, беззаботности и падкости к житейским увлечениям и соблазнам.
Карамзин, около той же поры и еще с большим авторитетом, чем Батюшков, также журил меня, с укоризною и скорбью в голосе, за то, что я живу слишком легко (собственные слова его). И эти укоризны не относились к литтературе, а ко всему складу жизни. И в самом деле, как припоминаю себе то время, не могу не сказать, что я тогда не признавал жизни за труд, за обязанность, за нравственный подвиг. Как писал я, потому что писалось: так и жил я, потому что жилось. О служении кавому-нибудь высшему идеалу, о стремлении в цели общеполезной я и не заботился и не думал. Мне как-то казалось что у меня на это не хватит и достаточно сил. Довольствовался я тем, что мог уважать в других эти высокие побуждения, эту святую веру в свой подвиг, эту силу и постоянство, с которыми были они верны цели своей; но в себе не находил я ни натуры, ни призвания подвижничества. Спасибо и за то, что их умел оценивать я в других. Благодарность и Провидению, которое по пути моему свело и сблизило меня с подобными избранными подвижниками.
Разумеется, впоследствии времени жизнь берет свое. Как ни обращайся с нею легко и непочтительно, но уроки её, испытания, досадные щелчки, а иногда и удары обухом по голове, или по сердцу, царапины, раны, более или менее глубокия, заставляют человека опамятоваться и призадуматься. Тогда он узнает, он убеждается, и часто слишком поздно, что с жизнью шутить нельзя, что она не игра, не увеселительный каток, по которому скользишь и на досуге росписываешь фантастические узоры и вензеля.
Восстановление имени моего на место загадочных звездочек нужно и для истории литтературы нашей. Оно хорошо объяснит и выставит на показ, какие были в то время литтературные и литтераторские отношения, а особенно в нашем кружке. Мы любили и уважали друг друга (потому, что без уважения не может быть настоящей, истинной дружбы), но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литтературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной, независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были Арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамаское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания, все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и Арзамасцы пришлые и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу.
Напечатанное на странице 358-й письмо неизвестного лица к неизвестному лицу есть письмо Батюшкова ко мне. Стихи, разбираемые в нем, мои. «Не помяни грехов юности моея». Я этих стихов и не помянул, т.-е. не напечатал; они со многими другими стихотворениями моими лежат в бумагах моих и не торопясь ожидают движения печати.
Стихи, упоминаемые в примечании на той же 358 странице, взяты из куплетов, сочиненных Д. В. Дашковым. После первого представления Липецких Вод было устроено в честь Шаховского торжественное празднество, помнится мне в семействе Бакуниных. Автора увенчали лавровым венком и читали ему похвальные речи. По этому случаю и написаны куплеты Дашкова. Иные из них очень забавны. Когда-нибудь можно бы их напечатать, потому что все относящееся до комедии Липецкия Воды и до общества Арзамас принадлежит, более или менее, истории Русской литтературы. Тут отыщутся некоторые черты и выражения физиономии её в известное время. Напечатанное в Сыне Отечества и упоминаемое на страницах 356 и 357 Письмо к новейшему Аристофану, то-есть в князю Шаховскому, есть тоже произведение Арзамасца Чу, то-есть Д. В. Дашкова.
Теперь от чисто литтературной стороны повернем в политической, также по поводу бумаг Жуковского и поговорим о братьях Тургеневых. Но оставим это до следующего письма.
II
На странице 318 (Русский Архие, 1875, вн. Ш), сказано: «Три последние брата (Тургеневы) после 14-го декабря 1825 года, принадлежали в числу опальных людей и проч.». Это не совсем так. Опалы тут не было. Николай Иванович был не в опале, а под приговором верховного уголовного суда. Не явясь к суду, после вызова, он должен был, как добровольно не явившийся (comtumace), нести на себе всю тяжесть обвинений, которые приписывались ему сочленами его по тайному обществу и, между прочими, если не ошибаюсь – Пестелем и Рылеевым. Братья Александр и Сергей не принадлежали к Обществу. После несчастия брата, они сами и добровольно отказались от дальнейшей своей служебной деятельности. Сергей Тургенев вскоре потом умер. Александр сохранил потом придворное звание свое. Во время приездов своих в Россию, он, как камергер, состоял даже иногда дежурным при императрице Александре Феодоровне и (прибавим здесь откровенно и без малейшего нарекания) назначался на эту службу вовсе не против воли своей. В продолжении того же времени, по ходатайству князя Александра Николаевича Голицына, получил он орден св. Станислава первой степени, за исторические и дипломатические изыскания и труды свои в Римских архивах. Знавшие и видевшие его, вероятно, помнят еще, как он носил две звезды на фраке своем. Все это доказывает, что ни его не считали, и что он сам не считал себя в опале. Он мог быть в числе недовольных, но не был в числе опальных.
Император Николай не препятствовал и Жуковскому, человеку приближенному ко Двору и к самому царскому семейству, быть в сношениях с другом своим Николаем Тургеневым и упорно и смело ходатайствовать за него устно и письменно. Тем более не мог он негодовать на двух братьев Тургеневых за то, что они по связям родства и любви, не отрекались от несчастного брата своего. В то время рассказывали даже следующее. Вскоре по учреждении следственной коммиссии по делам политических обществ, Жуковский спрашивал Государя: нужно-ли Николаю Тургеневу, находящемуся заграницею, возвратиться в Россию? Государь отвечал: «Если спрашиваешь меня, как Императора, скажу: нужно. Если спрашиваешь меня как частного человека, то скажу: лучше ему не возвращаться». – Не помню в точности, слышал-ли я этот рассказ от самого Жуковского, или от кого другого; а потому и не ручаюсь в достоверности этих слов. Но, по убеждению моему, они не лишены правдоподобия. – А вот другое обстоятельство, которое живо запечатлелось в памяти моей. Жуковский рассказывал мне следующее и читал мне письма, относящиеся к этому делу. Спустя уже несколько времени, Тургенев, по собственному желанию своему, изъявил готовность приехать в Россию и предать себя суду. Он писал о том Жуковскому, который поспешил доложить Государю. Император изъявил на то согласие свое. Дело пошло в ход, но по силе вещей, по силе действительности, не могло быть доведено до конца. Не состоялось оно, между прочим, и потому, что не только трудно было, но положительно несбыточно, по прошествии нескольких лет, возобновить бывшее следствие и бывший суд. Обвинения, павшие на Тургенева, были неисключительно частные и личные. Это был не уголовный, обыкновенный процесс, за отдельный проступок; дело было государственное и в связи со многими другими; а из этих других, иных не было уже на свете; прочие сосланы были в отдаленные места Сибири. Голословное суждение о виновности Тургенева не повело бы ни к какому юридическому заключению. Поднять на ноги все минувшее и весь злополучный процесс было дело невозможное. Так оно и кончилось. Честный приятель Тургеневых и вовсе в понятиях и стремлениях своих не ретроградный Дашков, говорил мне в то время, что попытка Тургенева оправдать себя на возобновленном суде не имеет для себя никакой юридической почвы и пользы принести не может. Александр Тургенев, раздраженный обстоятельствами и глубоко уявзленный в любви своей брату, поссорился при этом случае с Дашковым, как он прежде поссорился с Блудовым. Он полагал, что Дашков, изъяснением мнения своего, затормозил и окончательно прекратил все дальнейшие попытки брата и его самого.
Взвешивая беспристрастно все обстоятельства этого дела и вероятные последствия его, можно, кажется, придти к тому заключению, что нечего сожалеть о неудаче начатых переговоров. Конечно, изгнание для Тургенева было тяжкое испытание, особенно в начале. Но все же не было оно ссылкою в Сибирь и на каторжные работы. Верю вполне, что виновность Тургенева не доходила до преступления; но за то на деле и не разделял он нужд и страданий бывших сочленов своих, чтобы не сказать сообщников: он пользовался свободою и, благодаря самоотвержению брата своего Александра, пользовался всеми удобствами и угодьями жизни.
На той же странице сказано, что Жуковский имел отраду убедить предержащие власти в политической честности своего друга. Кажется, и это не совсем так. Если под словом честности разуметь в этом случае совершенную невинность, политическую невинность, то нет сомнения, что после убеждения предержащих. властей, свободное возвращение в Россию Тургенева было бы разрешено; но этого не было и быть не могло. Сам Жуковский в одной докладной записке своей Государю пишет: «Прошу на коленях Ваше Императорское Величество оказать мне милость. Смею надеяться, что не прогневаю вас сею моею просьбою. Не могу не принести её Вам, ибо не буду иметь покоя душевного, пока не исполню того, что почитаю священнейшею должностию, Государь, снова прошу о Тургеневе; но уже не о его оправдании: если чтение бумаг его не произвело над Вашим Величеством убеждения в пользу его невиновности, то уже он ничем оправдан быть не может». Далее, Жуковский просит, по расстроенному здоровью Николая Тургенева, разрешения ему выехать из Англии, климат коей вреден ему, и обеспечить его от опасения преследования. «По воле Вашей, продолжает Жуковсвий, сего преследования быть не может; но наши иностранные миссии сочтут обязанностью не позволять ему иметь свободное пребывание в землях, от влияния их зависящих». Докладная записка, или всеподданнейшее письмо, заключается следующими словами: «Государь, не откажите мне в сей милости. С восхитительным чувством благодарности к Вам, она прольет и ясность, и спокойствие на всю мою жизнь, столь совершенно Вам преданную». Голос дружбы не напрасно ходатайствовал пред Государем: с той поры Николай Тургенев мог безопасно жить в Швейцарии, во Франции и везде, где хотел заграницею. Мы привели выписку из прошения Жуковского, чтобы доказать, что если он был убежден в политической невиновности Тургенева, то предержащие власти не разделяли этого убеждения.
Не знаю о каких оправдательных бумагах Тургенева говорит Жуковский в письме своем к Государю; но помню одну оправдательную записку, присланную изгнанником из Англии. В бытности моей в Петербурге, был я однажды приглашен князем А. Н. Голицыным, вместе с Жуковским, и вероятно по указанию Жуковского, на чтение вышепомянутой записки. Перед чтением, князь сказал нам улыбаясь: «Мы поступаем немного беззаконно, составляя из себя комитет, не разрешенный правительством; но так и быть, приступим к делу». По окончании чтения, сказал он: «cette justification est trop ? l'eau de rose» [5 - В этом оправдании слишком много розовой воды.]. Князь Голицын был человек отменно благоволительный; он вообще любил и поддерживал подчиненных своих. Александра Тургенева уважал он и отличал особенно. Нет сомнения, что он обрадовался-бы первой возможности придраться к случаю быть защитником любимого брата любимого им Александра Тургенева; однако же записка не убедила его. По миновании стольких лет, разумеется, не могу помнить по. тный состав её; но по оставшемуся во мне впечатлению, нашел и я, что не была она вполне убедительна. Это была скорее адвокатская речь, более или менее искусно составленная на известную задачу; но многое оставалось в ней неясным и как будто недосказанным.
Прибавим еще несколько слов по этому поводу. Полемика о виновности или невинности Николая Тургенева была уже не однажды, хотя и поверхностно, возбуждена в печати. Выразим о том и свои соображения. но мнению нашему, учреждение тайного общества и участие в нем, с целью более или менее политическою, с целью заменить существующий государственный порядок новым порядком, есть преступление: оно заключает в себе виновность не только против правительства, но, можно сказать, еще более против гражданского общества, против народной гражданской семьи, к которой принадлежит. Горсть людей из этой семьи, какие ни были-бы побуждения и цели их, никогда не в праве, по собственному почину своему, распоряжаться судьбами Отечества и судьбами тысячи и миллионов ближних своих. восставая против злоупотреблении настоящего и против произвола лиц власть имеющих, эти господа сами покушаются на величайший произвол: они присвоивают себе власть, которая ни в каком случае им законно не принадлежит. Они, в кружке своем, мимо всего общества сограждан своих, тайно, притворно, двулично, замышляют дело, которого не могут они предвидеть ни значение, ни исход. Можно сказать почти утвердительно, что никакое тайное политическое общество не достигало цели своей: оно никогда и нигде никого и ничего не спасало, но часто проливало много неповинной крови и губило много жертв.
Малое-ли время и мало-ли было тайных политических обществ в Италии в последнее пятидесятилетие? Вся Италия, с своими Карбонарами и другими им подобными, была обширная и неугасимая кузница, в которой ковались всевозможные заговоры. Что-же сделали эти общества? Ровно ничего. Кавур один освободил Италию при содействии и под прикрытием штыков и пушек Наполеона III. Из истории, может быть, видим еще примеры некоторых нужных и полезных переворотов, подготовленных как будто самим историческим промыслом. В подобных переворотах возникают великия личности, обреченные Промыслом на такой-то день, на такой-то подвиг. Но в тайном обществе есть всегда с одной стороны непомерное высокомерие или злой умысел, а с другой робкое малодушие и легкомыслие. Эта необходимость облекаться всегда доспехами лжи, лукавить, промышлять предательствами, должна окончательно иметь пагубное влияние на понятия и самые чувства. Все это, так сказать, съеживает внутреннее достоинство человека, ограничивает горизонт его и заражает его исключительными предубеждениями касты, в самой себе замкнутой.
По стечению каких обстоятельств, неизвестно, но Николай Тургенев был в Петербурге членом тайного политического общества. Если и не был он одним из деятельнейших членов, одним из двигателей его, то сила вещей так сложилась, что должен он был быть одним, если не единственным, то главным лнцом в этом обществе. Серьезный склад ума его, самая наружность его, серьезная и несколько строгая, образованность его, сведения по науке финансов и по другим государственным наукам, высота его над умственным уровнем окружавших его, независимость и благородство характера, все это должно было обращать внимание на него. Серьезных политических людей в обществе было мало, очень мало. Молодежь, смутно тревожимая стремлениями, еще неясно и неположительно определившимися, должна была сочувственно и с надеждою смотреть на Тургенева, как на наставника, как на будущего руководителя и вождя. Может быть, ум Тургенева не мог быть причислен в разряду умов очень обширных и производительных. Кажется, в уме его было мало гибкости и движения: он не отсвечивался оттенками; ум его был одноцветен. Но за то, он был человек нескольких твердых и честных убеждений, это свойство встречается реже, чем другие более блестящие. Эти убеждения с ним срослись; они врезались в нем неизгладино, и неистребимо, как на заветных каменных досках. Вступая в тайное общество он, вероятно, хотел и надеялся провести эти убеждения в среде сочленов своих, с тем чтобы позднее могли они разлиться далее и проникнуть в самое гражданское общество. Одно из таковых убеждений была человеческая и государственная необходимость освобождения крестьян в России от крепостного состояния. Это желание, эта заветная дума были присущи и другим в то время. Между прочими, Батюшков, мало занимавшийся политическими вопросами, написал в 1814-м году прекрасное четверостишие, в котором, обращаясь в императору Александру, говорил, что после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он Провидением довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением Русского народа. К сожалению, утратились эти стихи и в бумагах моих, и из памяти моей. Но в Тургеневе эта мысль была не летучим вдохновением, а так сказать idеe fixe, символом политической религии его. Он ее всюду и всегда проповедывал. Он был ревностным апостолом её. Здесь стоял он на твердой почве, и на почве совершенно родной, совершенно Русской. Но, кажется, сочлены его худо следовали за ним по этой почве. Большинство из них увлекалось более условными, космополитическими соображениями: оно хотело, во что бы ни стало, переворота и не удовольствовалось коренными улучшениями. Мы уже заметили выше, что серьезных политических деятелей в обществе почти не оказывалось. Тургенев, может быть, и сам был не чужд некоторых умозрительных начал западной конституционной идеологии; но в нем, хотя он и мало жил в России и мало знал ее практически, билась живая народная струя. Он страстно любил Россию и страстно ненавидел крепостное состояние. Равнодушие или, по крайней мере, не довольно горячее участие членов общества в оживотворении этого вопроса, вероятно, открыло глаза Тургеневу; а открывши их, мог он убедиться, что и это общество, и все его замыслы и разглагольствия ни к чему хорошему и путному повести не могут.
Вот что, между прочим, по этому поводу, говорил Жуковский в одной из защитительных своих докладных записок на Высочайшее имя, в пользу Тургенева (ибо он был точно адвокатом его пред судом Государя).
«По его мнению (т.-е. Тургенева), которое и мне было давно известно, освобождение крестьян в России может быть с успехом произведено только верховною властью самодержца. Он имел мысли свободные, но в то же время имел ум образованный. Он любил конституцию в Англии и в Америке и знал её невозможность в России. Республику-же везде почитал химерою. Вступив в него (в общество), он не надеялся никакой обширной пользы, ибо знал, из каких членов было оно составлено; но счел должностью вступить в него, надеясь хотя несколько быть полезным, особенно в отношении к цели своей, то-есть к освобождению крестьян. Но скоро увидел он, что общество не имело никакого дела, и что члены, согласившись с ним в главном его мнении, то есть в необходимости отпустить крепостных людей на волю, не исполняли сего на самом деле. Это совершенно его к обществу охладило. И во всю бытность свою членом, он находился не более пяти раз на так-называемых совещаниях, в коих говорено было не о чем ином, как только о том, как бы придумать для общества какое-нибудь дело. Сии разговоры из частных, то-есть относительных к обществу, обыкновенно обращались в общие, то-есть в разговоры о том, что в то время делалось в России, и тому подобное».
Далее Жуковский говорит в той же записке:
«Если он был признаваем одним из главных, по всеобщему в нему уважению, то еще не значит, чтобы он был главным действователем общества. На это нет доказательств».
Все это не подкрепляет-ли правду слов наших, что честному и благоразумному человеку не следует вступать ни в какое тайное общество? С честнейшими, лучшими преднамерениями можно попасть в просак, или в ловушку: делаешься не только участником, но, по общинному началу, и ответственным лицем за речи, за деяния, от коих внутри совести отрекаешься. Вступая в общество, может быть знаешь головы его, но не знаешь хвоста; а в подобных сходбищах хвост часто перетягивает голову и тащит ее за собою.
Жуковский гораздо короче моего знал Николая Тургенева. Все защитительные соображения, приводимые им в записках своих, вероятно, сообщены были ему самим Тургеневым. Принимать-ли все сказанное на веру, или подвергать беспристрастному и строгому исследованию и анализу, не входит в нашу настоящую задачу. Могу только от себя прибавить, что, по моему убеждению, Тургенев был в полном смысле честный и правдивый человек; но все-же был он пред судом виновен: виновен и пред нравственным судом. Как-бы то ни было, можно положительно сказать, что он не был-бы на Сенатской площади 14-го Декабря. Сослуживец и приятель государственного Прусского мужа Штейна, он мог-бы с ним участвовать в упованиях и тайных стремлениях какого-нибудь Tugenbund'a, но всегда был бы противен понятиям его, чувствам и правилам всякой уличный бунт. С другой стороны убежден я и в том, что Тургенев, сознавший всю несостоятельность общества для правильного действия в пределах, которые он себе, по совести, предназначал, и убоясь увлечений этого общества по дороге, на которой он остановить его был-бы не в силах, пришел к заключению, что необходимо ему окончательно удалиться из общества и прекратить с ним все сношения. Это он и исполнил, отправившись за границу. Таковы мои личные догадки, почти убеждения. Разумеется, могу и ошибаться.
Совокупляя и проверяя все эти соображения, невольно приходишь к одному грустному заключению: жаль, что Тургенев был увлечен политическим водоворотом. Честное и почетное место ожидало его в рядах государственных Русских деятелей. Изо всех несчастных жертв, которых разгромила и похитила гроза 14-го декабря, он да может быть еще человека два-три, не более, носили в себе залоги чего-то, которое могло созреть в будущем и принести плод. Часто повторяют, что гроза 14-го Декабря погубила прекрасную жатву дарований и гражданских надежд, которым не дано было возможности развернуться и осуществиться. Все это, не сомневаюсь, сострадательные и добросовестные сетования, но не выдерживающие беспристрастной и строгой поверки. В государственном и политическом значении и говорить нечего: дела прискорбно и громко говорят сами за себя. Сама затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозванных преобразователей. Были между ними благодушные, скажу, чистые личности, у которых ум зашел за разум, которые много зачитались и мало надумались. Их соблазняла слава гражданского подвига. Они мечтали, что стоит только захотеть, стоит только заключить союз благоденствия или какой другой, обязать себя клятвою, и дело народного спасения и перерождения возникнет, как будто само собою. Это были утописты, романтические политики. Много знавал я таковых. Прочие, большинство, были политические диллетанты, любители политических зрелищ и действий. Многие из них вступали в тайное общество, как приписывались к Масонам, к членам благотворительных и литтературных обществ, даже к членам Английского клуба: приписывались с тем, чтобы в собственных глазах своих быть и казаться чем-нибудь. Приманка тайны была всесильным соблазном для них. Она делалась для них освящением. Сами на себя смотрели они с каким-то благоговением. Все это история почти всех тайных обществ, особенно нашего. Много мало и падает жертв, по закону виновных, по нравственному и физиологическому суждению невинных или непорочных, в которых недуг был не самородный, а привитой. О несчастных можно, и даже должно, сожалеть, будь они увлекатели, или увлеченные; но все-же из того не следует, что каждое несчастие должно возводить на амвон и преклонять пред ним колена, как пред святынею.
Обратимся теперь к мнимым нашим литтературным утратам. В поэтическом даровании Рылеева не было ничего такого, что могло-бы в будущем обещать великия поэтические создания; что было в нем поэтического, он все высказал. Стало быть, не в литтературном отношении можно сожалеть о преждевременной погибели его. Можно в нем оплакивать только человека увлеченного при жизни фанатизмом политическим, возросшим до крайней степени и вероятно бескорыстным. Известный стих его:
Меня судьба уж обрекла
был искренний стих, глубоко им прочувствованный и для него самого пророческий. В предсмертные дни, судя по письмам его, он смиренно и с покорностью сознавал заблуждения свои. Александр Бестужев, и после тяжкой участи, постигшей его, имел все время выдать и осуществить весь запас дарования своего. Тоже можно сказать и о Кюхельбекере. Стало быть, буря 14-го декабря не губительно опустошила ниву литтературы нашей. И здесь можно сожалеть о людях, по чувству человеческому, а не о погибших надеждах, которые обещали нам богатую литтературную жатву.
Но Тургенев имел в себе способности, которые готовили в нем хорошего и замечательного деятеля. Нельзя не сожалеть, что участие его, или пожалуй злополучное присутствие его в тайном обществе лишило его возможности быть гласно полезным Отечеству. Он любил деятельную службу. К ней призывали его горячее желание благотворного труда, непреклонная правота его, но знания в деле государственного управления. Познания эти с каждым годом совершенствовались и росли; опытность увенчала-бы их полным успехом. В праздном изгнании своем скучал он бездействием, тосковал по деятельным занятиям своим в канцелярии Государственного Совета. Если был-бы он и совершенно чужд всяких честолюбивых замыслов, все-же мог он в изгнании своем упрекать себя, что не пошел далее и выше по законной дороге, которая открыта была пред ним. Нет сомнения, что он достиг-бы на ней значения и положения, которые раскрыли-бы пред ним широкое поприще государственной деятельности. Еще одно замечание. Если главною и заветною думою его, было – и нет повода здесь к сомнению – освобождение крестьян, то как не пожалеть, что он, отсутствием из России, лишил себя законного участия в совершении подвига, который считал он необходимым и святым? Правда, дожидался-бы он долго, но все-же дождался-бы этого радостного и обетованного для него дня. Как-бы то ни было, все-же мог он сказать: «ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром».
Вероятно, никто более его не возрадовался событием 19-го Февраля. С этим событием жизнь его, соскочившая когда-то с законной колеи, могла снова стать на прямую дорогу свою. Было-ли ему, между тем, грустно, что дело сделалось и без него, сказать трудно; но во всяком случае должен был он сам на себя посетовать, что погубил около тридцати годов своей жизни, без участия в делах и судьбе Отечества, которое любил он пламенно и которому мог-бы служить усердно и полезно.
Я здесь несколько распространился в общих и частных соображениях, во первых потому, что такая за мною водится привычка и слабость; а во вторых потому, что мне казалось нужным сказать, при случае, мнение мое в спорном и несколько загадочном деле.
К событиям и лицам, более или менее историческим, нужно, по мнению моему, приступать и с историческою правдивостью и точностью. Сохрани Боже легкомысленно клепать и добровольно наводить тени на них; но не хорошо и раскрашивать историю и лица её идеализировать; тем более, что возвышая иных не в меру, можно тем самым понижать других несправедливо. История должна быть беспристрастною и строгою возмездницею за дела и слова каждого, а не присяжным обвинителем и не присяжным защитником.
notes