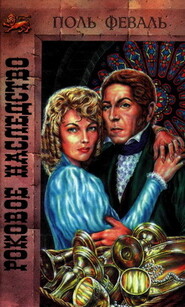По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карнавальная ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стая гигантских птиц (словно из сновидений нашего злосчастного Жафрэ!) вывалилась из двери мастерской на мостовую и перелетела дорогу, дико подпрыгивая, кривляясь, хлопая крыльями, – и это наваждение ворвалось в чистенькую аллею дома напротив.
На Сорбонне пробило час.
СТРАШНЫЙ СОН ДОБРЯКА ЖАФРЭ
Часы в комнате Жафрэ точностью хода не уступали течению светил. Кое в чем мы не можем не отдать должного этому персонажу: умение жить по часам у нас в обществе высоко ценится. Один статистик подсчитал, что в среднем девяносто из каждых ста банкротов составляют люди, появляющиеся в нужном месте на час позже назначенного, иначе говоря, те канительщики, что опаздывают на дилижансы, пароходы, поезда, упускают удачные моменты и все на свете!
У пишущего эти строки был приятель, порядочный молодой человек. В зрелости он стал подвержен мнительности; часы в его доме отставали; записки лежали без ответа; по последним прискорбным сведениям его часы замерли и спят в жилете банкрота.
Так чего ж недоставало Добряку Жафрэ до образцового «джентльмена»? Так, пустяка; того, чего (спускаясь в более низменные сферы) кухарка требует от хозяев, велевших из кролика приготовить заячье рагу.
Стенные часы Жафрэ звонко, удар в удар, вторили мощному басу Сорбонской колокольни. Огонек лампы потихоньку угасал, бросая неверные отсветы на пресловутый шкаф, стоявший против камина. Не успел смолкнуть гул часов, как средь тишины пробежал странный, невесть откуда шедший шорох, нечто вроде сухого и глухого шелеста вороньих тушек, прибитых к дверям крестьянских жилищ, когда ночной ветер треплет их взъерошенные перья.
Шорох доносился из комнаты, куда Добряк Жафрэ поместил на эту ночь своих птиц; туда был вход с лестницы.
Вскоре птицы Добряка Жафрэ начали взлетать и кричать, охвачены непонятной тревогой. Любящая мать слышит малейшее шевеление дитяти. Жафрэ даже во сне слышал любое движение своих птиц, и на счету его было немало спасенных от апоплексического удара канареек. На сей раз он продолжал спать, хоть и слышал звуки – до того они вписывались в его сновидение.
Тут дверь птичьей комнаты тихонько приоткрылась и оттуда на высоте человеческого роста высунулась голова совы. Сова обвела гостиную угрюмым взглядом и сказала:
– Спит у камина, паскуда!
Для совы это было грубовато.
Шелест перьев усилился. В этот же миг стайка мелких птах впорхнула в гостиную через голову совы и заметалась вокруг лепных украшений. Из глубин забытья Жафрэ вполне ясно ощущал это вторжение и даже почувствовал, как три-четыре попугая бесцеремонно уселись на его бумажный колпак. Но явь смешалась со сном.
Теперь и сова переступила порог. Вы, разумеется, слыхали о знаменитой «индейской цепочке», нехитром приеме, которым пользуются краснокожие, встав на тропу войны. Так двигалось и фантастическое войско пернатых, вступившее в гостиную Жафрэ. Вслед за совой появился стервятник, за стервятником – неимоверных размеров петух, вслед за петухом – индюк с индюшонком на руках.
Потом пошли вороны, сороки, куры, голуби с пышными воротниками, попугаи, аисты, гуси, страус, павлин, две утки, летучая мышь и ласточка – образ изгнания и тоски по родной земле.
Были, видимо, и другие.
Все эти ободранные твари, порой с широкими проплешинами средь оперения, казались пришельцами из краев, где птицы крупнее наших, но не знают должного ухода. Например, стервятник, сущее страшилище, облез местами до желтого коленкора, заменявшего ему кожу…
Они появлялись по одному, не нарушая индейской цепочки, в глубоком молчании и ступая совершенно беззвучно. Проницательный взгляд естествоиспытателя немедля отметил бы мягкие туфли на их ногах.
Вошедшие первыми обогнули гостиную, и сова походя осенила исторический шкаф крестом. Описав большой круг, она приблизилась к углу камина и стала прямо перед Жафрэ. Следовавшая за ней процессия тотчас застыла, широко окружив камин, и никакими словами не передать это шутовское оцепенение.
Главным распорядителем был, похоже, стервятник. Он вышел на середину.
– Смирно! – приказал он, не раскрывая зловещего клюва. – Осторожно помашите крыльями в знак того, что принесли победу!
Сказано было шепотом, и все же Добряк Жафрэ проворчал что-то во сне.
– Как его корежит! – прошипел огромный петух.
А сова добавила, протянув из-под перьев длинную руку и убирая пистолет с каминной доски в надежное место:
– Тут пара фазанов, шесть куропаток, перепела и целая куча всякой мелюзги. Такое можно рагу на кухне соорудить!
Одна птица скромно держалась за спинами прочих. Это был индюк со своим малышом. Он сам выбрал это место как бы по призванию. Индюков часто считают спесивыми, и не зря: ведь они глупы. Наш же индюк качал своего индюшонка и шептал ему на ушко:
– Захлопни клюв, Саладен, не испытывай моего терпения! Ты больше не сосунок, так держись достойно! А будешь тут вопить по своему обыкновению, я тебя придушу, дождешься. Лучше слушай и смотри. Ясное дело, ты еще маленький, вот как раз тебе и потеха будет, а я тебе сейчас дам маленьких птичек, можешь их тискать, если нравится.
Право слово, индюк был не злой, а ласковый, как образцовая мамаша!
Стервятник подозвал ласточку.
– Каскаден, – сказал он, – найди кухню, разожги хороший огонь, а встретишь челядь – вели им заняться. Потом возвращайся, поохотимся. Живо! Ты должен летать: у тебя ведь крылья.
Ласточка, прихватив с собой гуся и голубя, отправилась на поиски кухни.
Тогда главный стервятник взялся двумя пальцами за кончик своего мерзкого клюва и решительно задрал. Его голова откинулась на шарнире, как крышка футляра, обнажив воинственный череп Гонрекена Вояки, отдавшего команду:
– Головы открыть! С целью… чтобы подышать свежим воздухом, а то в этих дохлых шкурах такая вонь!
Все головы тотчас распахнулись с такой готовностью, что клювы повисли за спиной, и теперь нетрудно стало узнать участников сего диковинного сборища. В шкуре большого петуха скрывался господин Барюк, по кличке Дикобраз; Симилор, как всегда фатоватый и самоуверенный, ютился внутри совы, причем приставал самым нахальным образом к мадемуазель Вашри, своей соседке, которая в обличье летучей мыши выглядела ничуть не менее отталкивающе, чем в своем природном; Эшалот (сердце уже подсказало нам, что это он) был индюком и не мог расстаться со своим малышом даже в минуту опасности. Паяц был в костюме вороны, в просторном теле страуса таился Альбинос, внутри аиста – Канатоходец; в оболочках остальных птиц, сделанных из проволоки, картона и конского волоса, обитали души прочих работников мастерской Каменного Сердца.
Наряды предоставило заведение Вашри, богатейший среди базарных балаганов.
Сценарий сочинил господин Барюк, пользуясь советами Симилора, участника налета на улице Кассет.
Персонажи разглядывали друг друга с такой пристальной и даже мрачноватой серьезностью, что, будь дело на сцене, партер непременно закатился бы в припадке хохота.
В душах этих горемык жил тот ребяческий дух, что витает в глубоких недрах мира искусств, не знает старости и даже седина не умаляет его склонности дурачиться. Сей веселый, беззаботный, в сущности, мир в своих выходках бывает порой задирист и жесток.
Эшалот снял маску со своего индюшонка Саладена, поцеловал его и сказал:
– Мало кому в таком нежном возрасте повезет надеть театральный костюм! До чего ж он тебе идет, родненький! Не ори, испортишь всю церемонию. Лучше смотри! Вот дурачки! А вон папа! О тебе б ему позаботиться, – так нет, он предался произволу своих страстей. Если твоя мать взирает на него с небес, малыш… Не ори!.. Ей, должно быть, досадно, что она не от меня родила своего сиротку!
– Господин Барюк! – позвал Гонрекен зычным голосом.
– Здесь, господин Вояка, – ответил Дикобраз.
– Что там дальше? Запамятовал, подскажите, прошу вас.
– Перья! – сказал Барюк. – Давайте!
Вояка Гонрекен улыбнулся.
– Вспомнил, господин Барюк, – сказал он. – Слушай мою команду! Каждый вырвет у себя из крыла по перу и слегка пощекочет Искариота. А ну, дружно! Начали!
Слажено, как в балетной труппе, каждый выдернул у себя перо.
– Внимание, Саладен! – сказал Эшалот. – Моими стараниями ты отучился сосать соску. Отныне пора тебе затвердить такую штуку: беззаконие должно быть наказано, а добродетель… чтоб ей тоже досталось по заслугам!
Саладен единственный из всех не потешался от души. Он извивался, как чертик, попавший в чашу со святой водой, делал отчаянные попытки орать, но Эшалот умело затыкал ему клюв своим кулаком и добивался тишины.
Меж тем кольцо вокруг Добряка Жафрэ сомкнулось, и он заерзал, что твой угорь на сковородке, ибо кончики перьев, отыскав наиболее чувствительные уголки его тела, начинали их щекотать: под носом и в уголках рта, за ушами и на ладонях – вплоть до прекрасно знакомого всем шутникам местечка под коленкой…
На Сорбонне пробило час.
СТРАШНЫЙ СОН ДОБРЯКА ЖАФРЭ
Часы в комнате Жафрэ точностью хода не уступали течению светил. Кое в чем мы не можем не отдать должного этому персонажу: умение жить по часам у нас в обществе высоко ценится. Один статистик подсчитал, что в среднем девяносто из каждых ста банкротов составляют люди, появляющиеся в нужном месте на час позже назначенного, иначе говоря, те канительщики, что опаздывают на дилижансы, пароходы, поезда, упускают удачные моменты и все на свете!
У пишущего эти строки был приятель, порядочный молодой человек. В зрелости он стал подвержен мнительности; часы в его доме отставали; записки лежали без ответа; по последним прискорбным сведениям его часы замерли и спят в жилете банкрота.
Так чего ж недоставало Добряку Жафрэ до образцового «джентльмена»? Так, пустяка; того, чего (спускаясь в более низменные сферы) кухарка требует от хозяев, велевших из кролика приготовить заячье рагу.
Стенные часы Жафрэ звонко, удар в удар, вторили мощному басу Сорбонской колокольни. Огонек лампы потихоньку угасал, бросая неверные отсветы на пресловутый шкаф, стоявший против камина. Не успел смолкнуть гул часов, как средь тишины пробежал странный, невесть откуда шедший шорох, нечто вроде сухого и глухого шелеста вороньих тушек, прибитых к дверям крестьянских жилищ, когда ночной ветер треплет их взъерошенные перья.
Шорох доносился из комнаты, куда Добряк Жафрэ поместил на эту ночь своих птиц; туда был вход с лестницы.
Вскоре птицы Добряка Жафрэ начали взлетать и кричать, охвачены непонятной тревогой. Любящая мать слышит малейшее шевеление дитяти. Жафрэ даже во сне слышал любое движение своих птиц, и на счету его было немало спасенных от апоплексического удара канареек. На сей раз он продолжал спать, хоть и слышал звуки – до того они вписывались в его сновидение.
Тут дверь птичьей комнаты тихонько приоткрылась и оттуда на высоте человеческого роста высунулась голова совы. Сова обвела гостиную угрюмым взглядом и сказала:
– Спит у камина, паскуда!
Для совы это было грубовато.
Шелест перьев усилился. В этот же миг стайка мелких птах впорхнула в гостиную через голову совы и заметалась вокруг лепных украшений. Из глубин забытья Жафрэ вполне ясно ощущал это вторжение и даже почувствовал, как три-четыре попугая бесцеремонно уселись на его бумажный колпак. Но явь смешалась со сном.
Теперь и сова переступила порог. Вы, разумеется, слыхали о знаменитой «индейской цепочке», нехитром приеме, которым пользуются краснокожие, встав на тропу войны. Так двигалось и фантастическое войско пернатых, вступившее в гостиную Жафрэ. Вслед за совой появился стервятник, за стервятником – неимоверных размеров петух, вслед за петухом – индюк с индюшонком на руках.
Потом пошли вороны, сороки, куры, голуби с пышными воротниками, попугаи, аисты, гуси, страус, павлин, две утки, летучая мышь и ласточка – образ изгнания и тоски по родной земле.
Были, видимо, и другие.
Все эти ободранные твари, порой с широкими проплешинами средь оперения, казались пришельцами из краев, где птицы крупнее наших, но не знают должного ухода. Например, стервятник, сущее страшилище, облез местами до желтого коленкора, заменявшего ему кожу…
Они появлялись по одному, не нарушая индейской цепочки, в глубоком молчании и ступая совершенно беззвучно. Проницательный взгляд естествоиспытателя немедля отметил бы мягкие туфли на их ногах.
Вошедшие первыми обогнули гостиную, и сова походя осенила исторический шкаф крестом. Описав большой круг, она приблизилась к углу камина и стала прямо перед Жафрэ. Следовавшая за ней процессия тотчас застыла, широко окружив камин, и никакими словами не передать это шутовское оцепенение.
Главным распорядителем был, похоже, стервятник. Он вышел на середину.
– Смирно! – приказал он, не раскрывая зловещего клюва. – Осторожно помашите крыльями в знак того, что принесли победу!
Сказано было шепотом, и все же Добряк Жафрэ проворчал что-то во сне.
– Как его корежит! – прошипел огромный петух.
А сова добавила, протянув из-под перьев длинную руку и убирая пистолет с каминной доски в надежное место:
– Тут пара фазанов, шесть куропаток, перепела и целая куча всякой мелюзги. Такое можно рагу на кухне соорудить!
Одна птица скромно держалась за спинами прочих. Это был индюк со своим малышом. Он сам выбрал это место как бы по призванию. Индюков часто считают спесивыми, и не зря: ведь они глупы. Наш же индюк качал своего индюшонка и шептал ему на ушко:
– Захлопни клюв, Саладен, не испытывай моего терпения! Ты больше не сосунок, так держись достойно! А будешь тут вопить по своему обыкновению, я тебя придушу, дождешься. Лучше слушай и смотри. Ясное дело, ты еще маленький, вот как раз тебе и потеха будет, а я тебе сейчас дам маленьких птичек, можешь их тискать, если нравится.
Право слово, индюк был не злой, а ласковый, как образцовая мамаша!
Стервятник подозвал ласточку.
– Каскаден, – сказал он, – найди кухню, разожги хороший огонь, а встретишь челядь – вели им заняться. Потом возвращайся, поохотимся. Живо! Ты должен летать: у тебя ведь крылья.
Ласточка, прихватив с собой гуся и голубя, отправилась на поиски кухни.
Тогда главный стервятник взялся двумя пальцами за кончик своего мерзкого клюва и решительно задрал. Его голова откинулась на шарнире, как крышка футляра, обнажив воинственный череп Гонрекена Вояки, отдавшего команду:
– Головы открыть! С целью… чтобы подышать свежим воздухом, а то в этих дохлых шкурах такая вонь!
Все головы тотчас распахнулись с такой готовностью, что клювы повисли за спиной, и теперь нетрудно стало узнать участников сего диковинного сборища. В шкуре большого петуха скрывался господин Барюк, по кличке Дикобраз; Симилор, как всегда фатоватый и самоуверенный, ютился внутри совы, причем приставал самым нахальным образом к мадемуазель Вашри, своей соседке, которая в обличье летучей мыши выглядела ничуть не менее отталкивающе, чем в своем природном; Эшалот (сердце уже подсказало нам, что это он) был индюком и не мог расстаться со своим малышом даже в минуту опасности. Паяц был в костюме вороны, в просторном теле страуса таился Альбинос, внутри аиста – Канатоходец; в оболочках остальных птиц, сделанных из проволоки, картона и конского волоса, обитали души прочих работников мастерской Каменного Сердца.
Наряды предоставило заведение Вашри, богатейший среди базарных балаганов.
Сценарий сочинил господин Барюк, пользуясь советами Симилора, участника налета на улице Кассет.
Персонажи разглядывали друг друга с такой пристальной и даже мрачноватой серьезностью, что, будь дело на сцене, партер непременно закатился бы в припадке хохота.
В душах этих горемык жил тот ребяческий дух, что витает в глубоких недрах мира искусств, не знает старости и даже седина не умаляет его склонности дурачиться. Сей веселый, беззаботный, в сущности, мир в своих выходках бывает порой задирист и жесток.
Эшалот снял маску со своего индюшонка Саладена, поцеловал его и сказал:
– Мало кому в таком нежном возрасте повезет надеть театральный костюм! До чего ж он тебе идет, родненький! Не ори, испортишь всю церемонию. Лучше смотри! Вот дурачки! А вон папа! О тебе б ему позаботиться, – так нет, он предался произволу своих страстей. Если твоя мать взирает на него с небес, малыш… Не ори!.. Ей, должно быть, досадно, что она не от меня родила своего сиротку!
– Господин Барюк! – позвал Гонрекен зычным голосом.
– Здесь, господин Вояка, – ответил Дикобраз.
– Что там дальше? Запамятовал, подскажите, прошу вас.
– Перья! – сказал Барюк. – Давайте!
Вояка Гонрекен улыбнулся.
– Вспомнил, господин Барюк, – сказал он. – Слушай мою команду! Каждый вырвет у себя из крыла по перу и слегка пощекочет Искариота. А ну, дружно! Начали!
Слажено, как в балетной труппе, каждый выдернул у себя перо.
– Внимание, Саладен! – сказал Эшалот. – Моими стараниями ты отучился сосать соску. Отныне пора тебе затвердить такую штуку: беззаконие должно быть наказано, а добродетель… чтоб ей тоже досталось по заслугам!
Саладен единственный из всех не потешался от души. Он извивался, как чертик, попавший в чашу со святой водой, делал отчаянные попытки орать, но Эшалот умело затыкал ему клюв своим кулаком и добивался тишины.
Меж тем кольцо вокруг Добряка Жафрэ сомкнулось, и он заерзал, что твой угорь на сковородке, ибо кончики перьев, отыскав наиболее чувствительные уголки его тела, начинали их щекотать: под носом и в уголках рта, за ушами и на ладонях – вплоть до прекрасно знакомого всем шутникам местечка под коленкой…