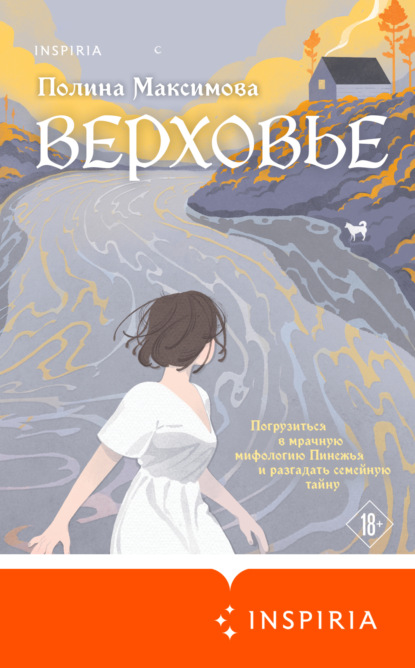По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Верховье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Имею в виду, не когда мы ужинаем, а когда работаем, – уточняет она. В квартире у Тины только один стол – барная стойка. За ней они обычно и едят, и работают.
– Так ты мне ответишь? Или мне сесть за стол и спросить тебя оттуда?
Тина не успевает понять, шутит он или говорит серьезно, как Виктор вытаскивает онемевшую руку из-под ее горячего тела и прямо так, обнаженным, идет за барную стойку и раскрывает ноутбук. Тине на кровать он швыряет книгу. Твердый уголок обложки царапает ногу.
– Виктор!
– Ну, мы за работой. Теперь говори.
Тина вздыхает. Виктор не дает ей поблажек.
– Нашла один интересный поворот в теме. Но пока еще только копаю в том направлении.
Тина смотрит на след от обложки на ноге. Кожа содралась, но крови нет.
– Расскажи, я помогу.
– Спасибо, но я пока сама. Хочу тебя удивить.
Тина смотрит на Виктора – он улыбается. Тина тоже улыбается и снова расслабляется. Виктор умеет заставить ее чувствовать себя напряженной и нерешительной, а через миг – уверенной в себе и желанной. Жара в комнате снова становится уютной. Виктор возвращается в постель и целует Тину. Он целует ее шею, грудь, живот. Тина счастлива, она приподнимает голову, чтобы посмотреть на Виктора, но в глаза бросается книга. Поцарапанной ногой Тина спихивает книгу с кровати, откидывается на подушку и закрывает глаза. Виктор ласков с ней, как теплая летняя река, она – песчаный берег. Без него она рассыпается на миллион песчинок.
Глава 3
Аля
Три года назад в сентябре, когда выпускной класс школы только начался, я сказала маме с Изой, что буду поступать в Питер на журналистику. Для меня это было, пожалуй, слишком смело, мы все это понимали, но мама тактично промолчала. Наверное, думала, что я в конце концов не решусь. Иза тоже. Она глумливо захихикала и сказала, что я домашняя кошка, которой не выжить в дикой природе. Сказала, что кровожадный город прожует мою нежную плоть и выплюнет мои тонкие кости, а собирать их будет Иза, как когда-то собирала по кусочкам мою маму. Она была уверена, что такая тихоня, как я, не справится с переездом, да и журналистом никогда не станет. Она думала, я выберу библиотечное дело и, так же как мама, буду работать в библиотеке на набережной, где когда-то работала и сама Иза. Но я попросила маму записать меня к репетиторам и упорно занималась. До февраля Иза продолжала насмешничать, а потом сменила тактику и стала мучить нас с мамой своими мигренями.
В квартире нельзя было включать телевизор, громко разговаривать и тем более смеяться. С утра мы быстро собирались, чтобы уйти до того, как Иза встанет завтракать, потому что наша суматоха ее нервировала, а зажженный свет, без которого темным зимним утром не обойтись, раздражал ее глаза, усиливая боль. После уроков я шла либо к репетитору, либо к маме в библиотеку, где занималась до конца ее рабочего дня, лишь бы подольше не идти домой, где стенала Иза. Я продолжала верить, что поступлю и уеду, даже когда Иза упала, я все еще продолжала верить, что уеду.
Упала Иза в марте недалеко от библиотеки – в месте, которое она очень любила. Там на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова стояла Успенская церковь, куда Иза ходила ставить свечки. Между церковью и библиотекой недавно открылся памятник Петру и Февронии, а напротив был мостик с перилами, увешанными замками с именами молодоженов и датами их свадеб. Рядом с мостиком – плавный спуск с проезжей части вниз на пешеходную часть. Летом дети съезжали с него на роликах и самокатах, зимой – школьники на лыжах. Весной в гололед спуском почти не пользовались, здесь легко было навернуться, а удержаться не за что.
В тот мартовский день Иза решила подойти ближе к реке и воспользовалась именно этим спуском. Почти сразу ее нога поехала вперед, Иза упала и покатилась вниз, собирая пушистый снежный слой и оголяя лед. Она съехала прямо в ноги мужчине, выгуливающему своего пса. Это был черный лабрадор-ретривер – так сказала сама Иза. Его морда – последнее, что она запомнила, перед тем как потеряла сознание.
Иза сломала ребро, но лечь в больницу отказалась. Тогда ей прописали анальгетики, постельный режим, физио и дыхательную гимнастику. Будто все это было предложено на выбор, Иза только закидывалась обезболом, а в остальном проводила свои дни как обычно: скрючившись в кресле перед мерцающим телевизором или за домашними делами. Виноваты в этом были мы с мамой, не приученные к быту. Иза делала все сама, ничего нам не поручая. При этом шум пылесоса, возня мокрой тряпкой по полу и шипение масла на сковороде неизменно сопровождались шкворчанием самой Изы: «Все приходится делать самой!» Она жаловалась на несправедливость, ругала нас, лентяек и неумех, но каждый раз, когда мама порывалась помочь, Иза ее осаждала. «Не умеешь – не берись!» А я даже и не пыталась браться.
Когда Иза заболела, мы с мамой решили, что теперь-то нам будет позволено помогать. Пока я вытирала пыль, а мама мыла полы, Иза молча сидела у себя в спальне. Но когда мы заканчивали, Иза доставала мокрые тряпки вновь и все перемывала. Особенно долго она возилась со своим сервантом, сдувая пыль со слоников. Замерев, мы с мамой слушали, как фигурки стучат и стучат по стеклу.
Со стиркой тоже все было сложно. Иза не хотела ждать, когда мы этим займемся. Пока нас не было, она запускала машинку и стирала даже постельное белье, а потом развешивала отяжелевшие от влаги простыни и пододеяльники на сушилку над ванной. Упрямая ершистая Иза не слушала нас и поступала по-своему. Я представляла, как от всей этой работы, должно быть, хрустят ее ребра, как трутся друг о друга сломанные косточки, крошатся и истончаются, а их осколки попадают в кровь.
Через три недели мы узнали, что ребро у Изы срастается неправильно. Надо было назначать новое лечение. К удивлению, Иза согласилась лечь на обследование, строго соблюдала советы врача, но часто жаловалась на боли в боку. Целые дни она проводила в постели, изредка выбираясь из своей пещеры, передвигаясь по квартире раненой пумой, мало ела и плохо спала. По ночам она ворочалась и вздыхала. Я слышала это из другой комнаты.
Тогда мы и вернулись к разговору о моем поступлении. Мама поддержала Изу, которая решила, что сейчас нам троим надо быть рядом, ведь неизвестно, сколько ей еще отпущено.
Я осталась в Архангельске, затаив на Изу обиду, которая становилась все острее, когда после моего зачисления в местный университет она быстро пошла на поправку и впервые за целый год стала прежней Изой, все еще колючей, но ее иголки смягчились, почти не оставляли следов.
Утешилась я тем, что все-таки выбрала кафедру журналистики. Иза не противилась – диплом, который я получу, позволит мне работать и в библиотеке.
В конце второго курса мне надо было решить, куда я пойду на практику. Завкафедрой говорила, что самый быстрый способ стать журналистом – поехать куда-нибудь в область и писать для местного издания, где часто недостает рабочих рук. Я ухватилась за эту идею и попросила кафедру направить меня в газету Пинежского района, где жила моя вторая бабушка, по линии отца.
И все началось по новой.
Иза делала из моей поездки чуть ли не трагедию, я тоже была на взводе, потому что отчасти ехала назло Изе, отчасти и правда этого хотела.
Весь июнь дома было тихо и тревожно. У меня началась сессия, дни я проводила за учебниками и конспектами у себя в комнате. Иза не вылезала из своей спальни. Иногда я ездила в университет на консультацию или экзамен, Иза выходила в магазин за продуктами. Мы совсем не разговаривали друг с другом. Наше молчание к вечеру застаивалось в воздухе, душило меня, не знаю, как Изу. Рассеивалось оно только с возвращением мамы, которая болтала с Изой и со мной, включала музыку и открывала окна. Она любила, когда шумно и светло.
Настало время уезжать на Пинегу на целый месяц, а мы с Изой так и не заговорили друг с другом, даже толком не попрощались.
Глава 4
Тина
В начале этого учебного года, когда только начинался второй курс аспирантуры, Тина хотела поменять научного руководителя. До этого она бегала от Виктора Николаевича, потому что ей некогда было заниматься диссертацией. Тина училась и много работала, чтобы оплачивать аренду квартиры, в которую только что переехала, и заниматься исследованием не успевала. К тому же она пришла на филологический после другого факультета и год наверстывала материал, который ее одногруппники усвоили еще на бакалавриате.
Летом Тина все-таки взялась за диссертацию, которая сразу же ее увлекла. Она ждала осень, чтобы обсудить наконец свою тему с Виктором Николаевичем. Но в сентябре тот еще не вышел из отпуска, а когда появился на факультете, то не проявил к Тине никакого интереса. Он и не вспомнил ее: ни когда она поздоровалась с ним в коридоре, ни позже на занятии у ее группы. Тина решила, что сама виновата, но ей сказали, что Виктор Николаевич сторонится и других студентов. Он опаздывал на лекции, а после вылетал из кабинета стремительно, ни с кем не прощаясь. На кафедре его никто не мог застать, каждый перерыв преподаватель как сквозь землю проваливался. Кто-то говорил, что Виктор Николаевич бродит по набережной, кто-то клялся, что видел, как он гуляет по парку скульптур во дворе, кто-то заметил его в факультетских катакомбах – коридорах, которые находятся ниже уровня земли, кто-то – в лабиринте бывших столярных мастерских. И не раз, если верить сплетням, во всех этих местах Виктор Николаевич появлялся одновременно.
Тина уже решила, что ничего у них не получится, но однажды в октябре, выходя из университета, она увидела, что вдоль длинного здания факультета со стороны Кадетской линии ей навстречу идет сам Виктор Николаевич.
Она прижалась к забору, подождала, пока преподаватель поравняется с ней, и тогда позвала:
– Виктор Николаевич!
Тот резко остановился и хмуро посмотрел на нее.
– Я пишу у вас диссертацию. Меня зовут Тина, не знаю, помните ли вы меня. В том году мы нечасто встречались. Но в этом году вы ведете у нас пару по вторникам.
Виктор Николаевич кивнул – то ли помнит, то ли дал понять, что слушает. Тина продолжила:
– Летом я поработала над исследованием. Хотела рассказать вам о теме, которую выбрала, – Тина пыталась поймать взгляд своего научного руководителя, но тот скользил по мокрому асфальту, по мертвым листьям, по ее забрызганным грязью ботинкам.
Он снова кивнул. Невольно рассматривая его еще смуглое после отпуска лицо, расстегнутое черное пальто, густые темные волосы, Тина почувствовала себя неухоженной. Она машинально провела рукой по длинным спутанным волосам. Пальцы застряли между прядей, смутившись, она быстро выдернула руку, но Виктор Николаевич ничего не заметил. Воздух был влажный, лицо холодила морось, к ним, смеясь, приближалась компания студентов. Тина подождала, пока они пройдут, и заговорила:
– Я решила писать об икоте – персонаже пинежского фольклора. Пинега – это река в Архангельской области, вдоль нее много деревень.
Виктор Николаевич посмотрел ей в глаза и нахмурился. Впервые Тине показалось, что он ее все-таки слушал.
– Да, думаю, это интересно. Исследований таких пока мало, – сказал он.
Теперь уже Тина кивнула, она молча ждала, что ее научник скажет что-то еще, но тот снова опустил глаза на ее обувь. Тине захотелось стряхнуть его взгляд вместе со следами октябрьской слякоти.
– Я хотела рассказать вам, что уже нашла. Вы сможете завтра уделить мне время? – прервала молчание Тина.
– Встретимся после третьей пары? – предложил Виктор Николаевич, снова посмотрев Тине в глаза.
На следующий день после третьей пары Тина отправилась на кафедру. Не успела она постучать, как ей пришло сообщение в мессенджере. Научник писал, что он в кафе неподалеку от факультета. Тина прошла по Университетской набережной, затем по Кадетской линии и свернула на Средний проспект. В кафе стоял гул студенческих голосов. Знакомого лица не видно. Тина вышла из зала в небольшой коридор, где висело зеркало и едва умещалось старое пианино. За инструментом оказалась едва заметная арка – проход в другой зал. Видимо, мало кто знал об этом втором зале, здесь было тихо и светло, стояло всего три столика. За одним из них сидел Виктор Николаевич, два других были не заняты.
Научник Тины поднял голову от ноутбука и улыбнулся:
– Как тебе мое секретное место?
– Так ты мне ответишь? Или мне сесть за стол и спросить тебя оттуда?
Тина не успевает понять, шутит он или говорит серьезно, как Виктор вытаскивает онемевшую руку из-под ее горячего тела и прямо так, обнаженным, идет за барную стойку и раскрывает ноутбук. Тине на кровать он швыряет книгу. Твердый уголок обложки царапает ногу.
– Виктор!
– Ну, мы за работой. Теперь говори.
Тина вздыхает. Виктор не дает ей поблажек.
– Нашла один интересный поворот в теме. Но пока еще только копаю в том направлении.
Тина смотрит на след от обложки на ноге. Кожа содралась, но крови нет.
– Расскажи, я помогу.
– Спасибо, но я пока сама. Хочу тебя удивить.
Тина смотрит на Виктора – он улыбается. Тина тоже улыбается и снова расслабляется. Виктор умеет заставить ее чувствовать себя напряженной и нерешительной, а через миг – уверенной в себе и желанной. Жара в комнате снова становится уютной. Виктор возвращается в постель и целует Тину. Он целует ее шею, грудь, живот. Тина счастлива, она приподнимает голову, чтобы посмотреть на Виктора, но в глаза бросается книга. Поцарапанной ногой Тина спихивает книгу с кровати, откидывается на подушку и закрывает глаза. Виктор ласков с ней, как теплая летняя река, она – песчаный берег. Без него она рассыпается на миллион песчинок.
Глава 3
Аля
Три года назад в сентябре, когда выпускной класс школы только начался, я сказала маме с Изой, что буду поступать в Питер на журналистику. Для меня это было, пожалуй, слишком смело, мы все это понимали, но мама тактично промолчала. Наверное, думала, что я в конце концов не решусь. Иза тоже. Она глумливо захихикала и сказала, что я домашняя кошка, которой не выжить в дикой природе. Сказала, что кровожадный город прожует мою нежную плоть и выплюнет мои тонкие кости, а собирать их будет Иза, как когда-то собирала по кусочкам мою маму. Она была уверена, что такая тихоня, как я, не справится с переездом, да и журналистом никогда не станет. Она думала, я выберу библиотечное дело и, так же как мама, буду работать в библиотеке на набережной, где когда-то работала и сама Иза. Но я попросила маму записать меня к репетиторам и упорно занималась. До февраля Иза продолжала насмешничать, а потом сменила тактику и стала мучить нас с мамой своими мигренями.
В квартире нельзя было включать телевизор, громко разговаривать и тем более смеяться. С утра мы быстро собирались, чтобы уйти до того, как Иза встанет завтракать, потому что наша суматоха ее нервировала, а зажженный свет, без которого темным зимним утром не обойтись, раздражал ее глаза, усиливая боль. После уроков я шла либо к репетитору, либо к маме в библиотеку, где занималась до конца ее рабочего дня, лишь бы подольше не идти домой, где стенала Иза. Я продолжала верить, что поступлю и уеду, даже когда Иза упала, я все еще продолжала верить, что уеду.
Упала Иза в марте недалеко от библиотеки – в месте, которое она очень любила. Там на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова стояла Успенская церковь, куда Иза ходила ставить свечки. Между церковью и библиотекой недавно открылся памятник Петру и Февронии, а напротив был мостик с перилами, увешанными замками с именами молодоженов и датами их свадеб. Рядом с мостиком – плавный спуск с проезжей части вниз на пешеходную часть. Летом дети съезжали с него на роликах и самокатах, зимой – школьники на лыжах. Весной в гололед спуском почти не пользовались, здесь легко было навернуться, а удержаться не за что.
В тот мартовский день Иза решила подойти ближе к реке и воспользовалась именно этим спуском. Почти сразу ее нога поехала вперед, Иза упала и покатилась вниз, собирая пушистый снежный слой и оголяя лед. Она съехала прямо в ноги мужчине, выгуливающему своего пса. Это был черный лабрадор-ретривер – так сказала сама Иза. Его морда – последнее, что она запомнила, перед тем как потеряла сознание.
Иза сломала ребро, но лечь в больницу отказалась. Тогда ей прописали анальгетики, постельный режим, физио и дыхательную гимнастику. Будто все это было предложено на выбор, Иза только закидывалась обезболом, а в остальном проводила свои дни как обычно: скрючившись в кресле перед мерцающим телевизором или за домашними делами. Виноваты в этом были мы с мамой, не приученные к быту. Иза делала все сама, ничего нам не поручая. При этом шум пылесоса, возня мокрой тряпкой по полу и шипение масла на сковороде неизменно сопровождались шкворчанием самой Изы: «Все приходится делать самой!» Она жаловалась на несправедливость, ругала нас, лентяек и неумех, но каждый раз, когда мама порывалась помочь, Иза ее осаждала. «Не умеешь – не берись!» А я даже и не пыталась браться.
Когда Иза заболела, мы с мамой решили, что теперь-то нам будет позволено помогать. Пока я вытирала пыль, а мама мыла полы, Иза молча сидела у себя в спальне. Но когда мы заканчивали, Иза доставала мокрые тряпки вновь и все перемывала. Особенно долго она возилась со своим сервантом, сдувая пыль со слоников. Замерев, мы с мамой слушали, как фигурки стучат и стучат по стеклу.
Со стиркой тоже все было сложно. Иза не хотела ждать, когда мы этим займемся. Пока нас не было, она запускала машинку и стирала даже постельное белье, а потом развешивала отяжелевшие от влаги простыни и пододеяльники на сушилку над ванной. Упрямая ершистая Иза не слушала нас и поступала по-своему. Я представляла, как от всей этой работы, должно быть, хрустят ее ребра, как трутся друг о друга сломанные косточки, крошатся и истончаются, а их осколки попадают в кровь.
Через три недели мы узнали, что ребро у Изы срастается неправильно. Надо было назначать новое лечение. К удивлению, Иза согласилась лечь на обследование, строго соблюдала советы врача, но часто жаловалась на боли в боку. Целые дни она проводила в постели, изредка выбираясь из своей пещеры, передвигаясь по квартире раненой пумой, мало ела и плохо спала. По ночам она ворочалась и вздыхала. Я слышала это из другой комнаты.
Тогда мы и вернулись к разговору о моем поступлении. Мама поддержала Изу, которая решила, что сейчас нам троим надо быть рядом, ведь неизвестно, сколько ей еще отпущено.
Я осталась в Архангельске, затаив на Изу обиду, которая становилась все острее, когда после моего зачисления в местный университет она быстро пошла на поправку и впервые за целый год стала прежней Изой, все еще колючей, но ее иголки смягчились, почти не оставляли следов.
Утешилась я тем, что все-таки выбрала кафедру журналистики. Иза не противилась – диплом, который я получу, позволит мне работать и в библиотеке.
В конце второго курса мне надо было решить, куда я пойду на практику. Завкафедрой говорила, что самый быстрый способ стать журналистом – поехать куда-нибудь в область и писать для местного издания, где часто недостает рабочих рук. Я ухватилась за эту идею и попросила кафедру направить меня в газету Пинежского района, где жила моя вторая бабушка, по линии отца.
И все началось по новой.
Иза делала из моей поездки чуть ли не трагедию, я тоже была на взводе, потому что отчасти ехала назло Изе, отчасти и правда этого хотела.
Весь июнь дома было тихо и тревожно. У меня началась сессия, дни я проводила за учебниками и конспектами у себя в комнате. Иза не вылезала из своей спальни. Иногда я ездила в университет на консультацию или экзамен, Иза выходила в магазин за продуктами. Мы совсем не разговаривали друг с другом. Наше молчание к вечеру застаивалось в воздухе, душило меня, не знаю, как Изу. Рассеивалось оно только с возвращением мамы, которая болтала с Изой и со мной, включала музыку и открывала окна. Она любила, когда шумно и светло.
Настало время уезжать на Пинегу на целый месяц, а мы с Изой так и не заговорили друг с другом, даже толком не попрощались.
Глава 4
Тина
В начале этого учебного года, когда только начинался второй курс аспирантуры, Тина хотела поменять научного руководителя. До этого она бегала от Виктора Николаевича, потому что ей некогда было заниматься диссертацией. Тина училась и много работала, чтобы оплачивать аренду квартиры, в которую только что переехала, и заниматься исследованием не успевала. К тому же она пришла на филологический после другого факультета и год наверстывала материал, который ее одногруппники усвоили еще на бакалавриате.
Летом Тина все-таки взялась за диссертацию, которая сразу же ее увлекла. Она ждала осень, чтобы обсудить наконец свою тему с Виктором Николаевичем. Но в сентябре тот еще не вышел из отпуска, а когда появился на факультете, то не проявил к Тине никакого интереса. Он и не вспомнил ее: ни когда она поздоровалась с ним в коридоре, ни позже на занятии у ее группы. Тина решила, что сама виновата, но ей сказали, что Виктор Николаевич сторонится и других студентов. Он опаздывал на лекции, а после вылетал из кабинета стремительно, ни с кем не прощаясь. На кафедре его никто не мог застать, каждый перерыв преподаватель как сквозь землю проваливался. Кто-то говорил, что Виктор Николаевич бродит по набережной, кто-то клялся, что видел, как он гуляет по парку скульптур во дворе, кто-то заметил его в факультетских катакомбах – коридорах, которые находятся ниже уровня земли, кто-то – в лабиринте бывших столярных мастерских. И не раз, если верить сплетням, во всех этих местах Виктор Николаевич появлялся одновременно.
Тина уже решила, что ничего у них не получится, но однажды в октябре, выходя из университета, она увидела, что вдоль длинного здания факультета со стороны Кадетской линии ей навстречу идет сам Виктор Николаевич.
Она прижалась к забору, подождала, пока преподаватель поравняется с ней, и тогда позвала:
– Виктор Николаевич!
Тот резко остановился и хмуро посмотрел на нее.
– Я пишу у вас диссертацию. Меня зовут Тина, не знаю, помните ли вы меня. В том году мы нечасто встречались. Но в этом году вы ведете у нас пару по вторникам.
Виктор Николаевич кивнул – то ли помнит, то ли дал понять, что слушает. Тина продолжила:
– Летом я поработала над исследованием. Хотела рассказать вам о теме, которую выбрала, – Тина пыталась поймать взгляд своего научного руководителя, но тот скользил по мокрому асфальту, по мертвым листьям, по ее забрызганным грязью ботинкам.
Он снова кивнул. Невольно рассматривая его еще смуглое после отпуска лицо, расстегнутое черное пальто, густые темные волосы, Тина почувствовала себя неухоженной. Она машинально провела рукой по длинным спутанным волосам. Пальцы застряли между прядей, смутившись, она быстро выдернула руку, но Виктор Николаевич ничего не заметил. Воздух был влажный, лицо холодила морось, к ним, смеясь, приближалась компания студентов. Тина подождала, пока они пройдут, и заговорила:
– Я решила писать об икоте – персонаже пинежского фольклора. Пинега – это река в Архангельской области, вдоль нее много деревень.
Виктор Николаевич посмотрел ей в глаза и нахмурился. Впервые Тине показалось, что он ее все-таки слушал.
– Да, думаю, это интересно. Исследований таких пока мало, – сказал он.
Теперь уже Тина кивнула, она молча ждала, что ее научник скажет что-то еще, но тот снова опустил глаза на ее обувь. Тине захотелось стряхнуть его взгляд вместе со следами октябрьской слякоти.
– Я хотела рассказать вам, что уже нашла. Вы сможете завтра уделить мне время? – прервала молчание Тина.
– Встретимся после третьей пары? – предложил Виктор Николаевич, снова посмотрев Тине в глаза.
На следующий день после третьей пары Тина отправилась на кафедру. Не успела она постучать, как ей пришло сообщение в мессенджере. Научник писал, что он в кафе неподалеку от факультета. Тина прошла по Университетской набережной, затем по Кадетской линии и свернула на Средний проспект. В кафе стоял гул студенческих голосов. Знакомого лица не видно. Тина вышла из зала в небольшой коридор, где висело зеркало и едва умещалось старое пианино. За инструментом оказалась едва заметная арка – проход в другой зал. Видимо, мало кто знал об этом втором зале, здесь было тихо и светло, стояло всего три столика. За одним из них сидел Виктор Николаевич, два других были не заняты.
Научник Тины поднял голову от ноутбука и улыбнулся:
– Как тебе мое секретное место?
Другие аудиокниги автора Полина Максимова
Верховье




 0
0