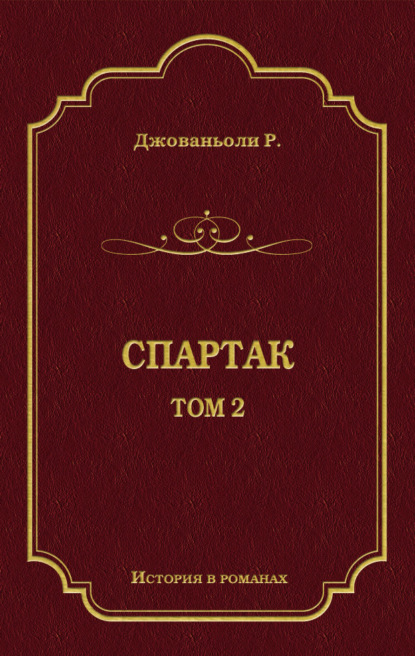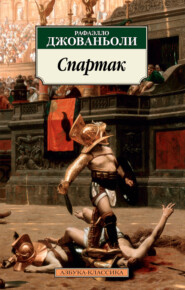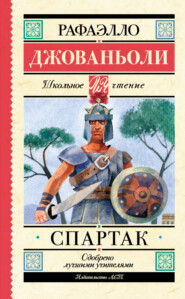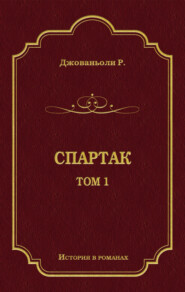По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спартак. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
1874
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Меттий Либеон, бледный, с искаженным от страха лицом, заикаясь от волнения, изложил сенату требования Спартака. Сенаторы, бледные, как и префект, в ужасе смотрели друг на друга; никто не решался высказаться и посоветовать что-либо в такую опасную минуту.
Воспользовавшись молчанием и замешательством сенаторов, военный трибун, храбрый солдат, весьма опытный в военных делах, командовавший четырьмя когортами, присланными несколько месяцев назад римским сенатом для защиты Капуи, попросил разрешения высказать свое мнение.
Нисколько не поддавшись панике, он грубо, но красноречиво и весьма убедительно доказывал, что все требования Спартака не что иное, как дерзкие угрозы, имеющие целью запугать жителей города, а затем воспользоваться их страхом; что гладиатор не может и не станет штурмовать Капую и осаждать ее, так как город хорошо защищен прочными укреплениями, а войско, у которого нет ни скорпионов, ни таранов, ни катапульт, ни баллист, ни пробоев с серповидным концом, ни других осадных машин, не отважится на штурм города.
Страх, обуявший трусливых, расслабленных капуанских сенаторов, тот страх, который за минуту до этого лишил их дара речи, заставил их прийти в себя; они вскочили со своих скамей, точно укушенные тарантулом, и все хором завопили, что трибун сошел с ума; ведь гладиаторы овладели Нолой за каких-нибудь два часа, а тогда их было куда меньше, чем сейчас, и вооружены они были гораздо хуже. В Ноле победители разрушили все дома, убили всех жителей: они, сенаторы, не желают жертвовать собой в угоду честолюбию трибуна: выслать из Капуи пять тысяч гладиаторов было бы мерой весьма благоразумной и осторожной. Это избавит город от опасности мятежа и резни. Приводились и другие подобного рода соображения. К этому присоединились и настояния собравшегося на площади народа, шумно требовавшего, чтобы предложение Спартака было принято и таким образом город был бы спасен. Меттию Либеону, не помнившему себя от радости, пришлось поставить на голосование поддержанное многими сенаторами предложение – согласиться на требования Спартака; это предложение было принято почти единогласно.
Таким образом, пять тысяч гладиаторов, запертых в школе Лентула, были выпущены из города и направились к Спартаку, который расположился лагерем у подножия близлежащей горы Тифаты.
Они были встречены радостными криками товарищей, сейчас же получили оружие и составили третий легион, командование которым было поручено Борториксу, а Брезовира назначили префектом конницы.
Вскоре Спартак возвратился в Нолу, расположился лагерем и пробыл там около тридцати дней, ежедневно с увлечением обучая новый легион. В это время фракиец получил сведения, что претор Вариний пополняет солдатами свои легионы, намереваясь напасть на гладиаторов.
Спартак решил опередить Вариния. Он оставил Крикса с двумя легионами в Ноле, взял с собой первый легион, которым командовал Эномай, перешел Апеннины и, выступив в Самний, появился под Бовианом.
Вариний сообщил римскому сенату о злоключениях и неудачах, постигших его на этой войне, внушавшей отныне серьезные опасения. Чтобы положить ей конец, требовалось подкрепление численностью не менее двух легионов. Напоминая о своих прежних заслугах перед отечеством, честный солдат просил сенат оказать ему, ветерану многих сражений, милость – дать возможность смыть со своей совести позор понесенного поражения и довести войну до конца.
Сенат внял справедливым просьбам храброго Вариния и прислал ему восемь когорт, в составе которых было свыше четырех тысяч ветеранов, а также разрешил ему набрать среди марсов, самнитов и пицентов еще шестнадцать когорт, с тем чтобы он имел возможность сформировать два легиона, необходимые ему для подавления мятежа гладиаторов.
Претор, который считал, что старшинство чина и продолжительность службы в армии дают человеку неоспоримые преимущества, назначил на место, оставшееся свободным после смерти Фурия, Лелия Коссиния, хотя среди бывших у него в подчинении трибунов многие были и умнее и дальновиднее этого человека. Вариний доверил ему командование восемью когортами, только что присланными из Рима, приказав Коссинию остаться в Бовиане, чтобы помешать Спартаку продвинуться в глубь Самния, сам же с двумя тысячами легионеров, уцелевших после поражения у Кавдинского ущелья, отправился в страну марсов и пицентов набирать там солдат.
Когда Спартак подошел к Бовиану, намереваясь навязать Коссинию бой, тот, действуя согласно полученным им распоряжениям, заперся в городе; негодуя на то, что ему запрещено выступить, он, однако, терпеливо переносил все оскорбления и вызовы гладиаторов.
Но Спартак разгадал план Вариния и решил не дать ему времени набрать солдат в Самнии и Пиценуме. Оставив под Бовианом Эномая с одним легионом, который расположился лагерем близ города, сам он с отрядом конников возвратился в Нолу.
Здесь его ожидали хорошие вести. Первой и самой приятной был приход гладиатора Граника, который привел с собою свыше пяти тысяч человек: галлов, германцев и фракийцев из нескольких школ Равенны. С таким подкреплением войско гладиаторов, разделенное на четыре легиона, доходило до двадцати тысяч человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второй неожиданной и не менее приятной новостью был приезд Мирцы. Спартак обнял сестру, покрывая лицо ее горячими поцелуями. А девушка целовала то лицо, то руки брата, то его одежду и прерывающимся от рыданий голосом говорила:
– Спартак!.. Ах, Спартак!.. Любимый брат мой! Как я боялась, как трепетала за тебя… Я думала обо всех опасностях, которым ты подвергаешься в этой кровопролитной войне!.. Я не знала ни минуты покоя… просто жить не могла… все думала: «Может быть, он ранен и ему нужна моя помощь!» Ведь никто, дорогой Спартак, никто не мог бы так ухаживать за тобой, как я… если бы… когда… да спасут тебя великие боги! И я плакала по целым дням и все просила Валерию, милую мою госпожу… чтобы она разрешила мне поехать к тебе… и она, бедняжка, исполнила мою просьбу. Да окажет ей покровительство Юнона за ее доброту… Она отпустила меня к тебе… И, знаешь, она даровала мне свободу!.. Я теперь свободная… я тоже свободная… И я теперь навсегда останусь с тобой.
Она щебетала и ласкалась к брату, как ребенок, а из глаз ее лились слезы, но бедная девушка улыбалась брату, и во всех ее движениях сквозила радость, переполнявшая ее сердце.
Недалеко от них молча стоял, наблюдая эту сцену, белокурый красавец Арторикс. Лицо его то озарялось радостью, то затуманивалось печалью. Он тоже всего несколько дней назад прибыл с Граником из Равенны. Приблизившись к Спартаку, он застенчиво сказал:
– А меня, дорогой Спартак, непобедимый наш вождь, меня ты разве не обнимешь и не поцелуешь?
Говоря это, Арторикс окинул беглым взглядом девушку, как бы прося у нее прощения за то, что похищает у нее поцелуй брата.
– Арторикс! – воскликнул Спартак и, крепко обняв его, прижал к своей груди. – Любимый мой друг!.. Дай я тебя поцелую, благородный юноша!
Так в дополнение ко всем радостям, которые изведал Спартак за последние месяцы, к счастью блестящих побед и замечательных успехов, которых он добился с первых дней ужасной войны, судьбе угодно было послать ему еще одну радость: он мог обнять сестру и Арторикса, самых дорогих его сердцу людей.
Но вскоре лицо Спартака, сиявшее счастьем, затуманилось. Склонив голову на грудь, он глубоко вздохнул и погрузился в скорбные мысли.
Простившись с друзьями, он вместе с сестрой ушел в свою палатку. Спартаку очень хотелось расспросить Мирцу о Валерии, но какое-то чувство стыдливости мешало ему заговорить об этом с сестрой. К счастью для Спартака, девушка щебетала о том о сем, и фракийцу не пришлось расспрашивать ее, так как Мирца сама завела разговор о Валерии: ей никогда и в голову не приходило, что между ее бывшей госпожой и горячо любимым братом существовали иные отношения, кроме дружеских.
– О, поверь, поверь мне, Спартак, – повторяла девушка, приготовляя для брата скромный ужин на пне, который в палатке фракийца служил столом, – если бы все римские матроны были похожи на Валерию… Верь мне, я на себе испытала всю ее доброту, благородство ее чувств… рабство давно было бы отменено законом… потому что дети, родившиеся от подобных женщин, не могли бы, не пожелали бы терпеть существование тюрем, наказаний розгами, распятий на крестах, не допустили бы, чтобы с гладиаторами обращались как с убойной скотиной…
– О, я это знаю! – взволнованно воскликнул Спартак. И тут же, спохватившись, добавил: – Да, да, я верю тебе.
– И ты должен этому верить… потому что, видишь ли, она уважает тебя… гораздо больше, чем любая другая матрона на ее месте уважала бы ланисту своих гладиаторов. Она часто разговаривала со мной о тебе… восхищалась тобой, в особенности с тех пор, как ты расположился лагерем на Везувии, при каждом известии о тебе… Когда мы услыхали, что ты победил и разбил трибуна Сервилиана… когда узнали о твоей победе над Клодием Глабром, она часто говорила: «Да, природа щедро наградила его всеми достоинствами великого полководца!»
– Она так говорила? – нетерпеливо переспросил Спартак, на лице которого отражались воскресшие в душе чувства и воспоминания.
– Да, да, она так говорила!… – ответила Мирца, продолжая готовить ужин. – Мы долго здесь останемся? Я хочу позаботиться о твоей палатке… Эта совсем не подходит для доблестного вождя гладиаторов… В ней такой беспорядок… и нет самого необходимого… У любого солдата жилье лучше… Ну да, она так говорила… И как-то раз она спорила со своим братом, оратором Гортензием, ты ведь знаешь его? Так вот, она защищала тебя от его нападок, говорила, что война, которую ты начал, – справедливая война, и если боги пекутся о делах людских, то ты победишь.
– О божественная Валерия! – чуть слышно произнес Спартак, бледнея от волнения.
– И она, бедняжка, так несчастлива, – продолжала девушка, – так, знаешь ли, несчастлива!
– Несчастлива?.. Несчастлива?.. Почему?.. – живо спросил фракиец.
– Она несчастлива, я это знаю… Я не раз заставала ее в слезах… часто глаза ее бывали красными от слез… часто я слышала, как она глубоко вздыхала, очень часто. Но почему она плачет и вздыхает, я не знаю, не могу догадаться. Может быть, из-за неприятностей с ее родственниками из рода Мессалы… А может быть, горюет о муже… Хотя едва ли… нет, не знаю… Единственное ее утешение – ее дочка, Постумия. Такая милочка, такая прелестная крошка!..
Спартак глубоко вздохнул, смахнул рукой несколько слезинок, скатившихся из глаз, резко повернулся и, обойдя кругом палатку, спросил у Мирцы, чтобы переменить тему разговора:
– Скажи, сестра… ты ничего не слышала о Марке Валерии Мессале Нигере… двоюродном брате Валерии?.. Я с ним встретился… мы с ним бились… я его ранил… и пощадил его… Не знаешь ли ты случайно… выздоровел ли он?
– Конечно, выздоровел!.. И об этом твоем великодушном поступке мы тоже слышали!.. Валерия со слезами благословляла тебя. Нам все рассказал Гортензий, когда приехал на тускуланскую виллу… После смерти Суллы Валерия почти круглый год живет там.
В эту минуту на пороге палатки появился один из деканов гладиаторов и доложил, что молодой солдат, только что прибывший из Рима, настойчиво просит разрешения поговорить со Спартаком.
Спартак вышел из палатки на преторскую площадку: лагерь гладиаторов был построен в точности по образцу римских лагерей. Палатка Спартака была разбита на самом возвышенном месте, и перед ней было отведено место для военного суда. Эта площадка у римлян называлась преторской. За палаткой Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена; возле нее стоял караул из десяти солдат во главе с деканом. Выйдя из палатки, Спартак увидел идущего к нему навстречу юношу в богатом военном одеянии, о котором ему только что доложили; юноше этому на вид было не более четырнадцати лет.
На нем была кольчуга, облегавшая плечи и тонкий, гибкий стан; она была сделана из блестящих серебряных колец и треугольников, соединенных между собой в частую сеть, и доходила почти до колен. Панцирь был стянут в талии кожаным ремешком, отделанным серебряными насечками с золотыми гвоздиками. Ноги были защищены железными наколенниками, затянутыми позади икр кожаными ремнями; правую руку закрывал железный нарукавник, а в левой юноша держал небольшой бронзовый щит, украшенный чеканными фигурками тонкой работы. С правого плеча вместо перевязи спускалась к левому боку массивная золотая цепь, на которой висел изящный короткий меч. Голову юноши покрывал серебряный шлем, на котором вместо шишака была укреплена золотая змейка, а из-под шлема выбивались золотистые кудри, обрамлявшие прекрасное юношеское лицо – нежное, словно выточенное из мрамора. Большие миндалевидные лучистые глаза цвета морской волны придавали этому милому, женственному лицу выражение отваги и решимости, что никак не соответствовало всему хрупкому, нежному облику юноши.
Спартак недоуменно взглянул на юношу, затем повернулся к декану, вызвавшему его из палатки, как бы спрашивая его, этот ли воин желает с ним говорить, и, когда декан утвердительно кивнул, Спартак подошел к юноше и спросил его удивленным тоном:
– Так это ты хотел меня видеть? Кто ты? Что тебе нужно?
Лицо юноши вспыхнуло, затем вдруг сразу побледнело, и после минутного колебания он твердо ответил:
– Да, Спартак, я.
И после короткой паузы добавил:
– Ты не узнаешь меня?
Спартак пристально вглядывался в тонкие черты юноши, словно отыскивая в памяти какие-то стершиеся воспоминания, какой-то отдаленный отзвук. Затем он ответил, не сводя глаз со своего собеседника:
– В самом деле… Мне кажется, я где-то видел тебя… Но где?.. Когда?..
Затем снова наступило молчание, и гладиатор, первым прервав его, спросил:
– Ты римлянин?
Юноша покачал головой и, улыбнувшись печальной, какой-то вымученной улыбкой, как будто ему хотелось заплакать, ответил:
– Память твоя, доблестный Спартак, не так сильна, как твоя рука.
Воспользовавшись молчанием и замешательством сенаторов, военный трибун, храбрый солдат, весьма опытный в военных делах, командовавший четырьмя когортами, присланными несколько месяцев назад римским сенатом для защиты Капуи, попросил разрешения высказать свое мнение.
Нисколько не поддавшись панике, он грубо, но красноречиво и весьма убедительно доказывал, что все требования Спартака не что иное, как дерзкие угрозы, имеющие целью запугать жителей города, а затем воспользоваться их страхом; что гладиатор не может и не станет штурмовать Капую и осаждать ее, так как город хорошо защищен прочными укреплениями, а войско, у которого нет ни скорпионов, ни таранов, ни катапульт, ни баллист, ни пробоев с серповидным концом, ни других осадных машин, не отважится на штурм города.
Страх, обуявший трусливых, расслабленных капуанских сенаторов, тот страх, который за минуту до этого лишил их дара речи, заставил их прийти в себя; они вскочили со своих скамей, точно укушенные тарантулом, и все хором завопили, что трибун сошел с ума; ведь гладиаторы овладели Нолой за каких-нибудь два часа, а тогда их было куда меньше, чем сейчас, и вооружены они были гораздо хуже. В Ноле победители разрушили все дома, убили всех жителей: они, сенаторы, не желают жертвовать собой в угоду честолюбию трибуна: выслать из Капуи пять тысяч гладиаторов было бы мерой весьма благоразумной и осторожной. Это избавит город от опасности мятежа и резни. Приводились и другие подобного рода соображения. К этому присоединились и настояния собравшегося на площади народа, шумно требовавшего, чтобы предложение Спартака было принято и таким образом город был бы спасен. Меттию Либеону, не помнившему себя от радости, пришлось поставить на голосование поддержанное многими сенаторами предложение – согласиться на требования Спартака; это предложение было принято почти единогласно.
Таким образом, пять тысяч гладиаторов, запертых в школе Лентула, были выпущены из города и направились к Спартаку, который расположился лагерем у подножия близлежащей горы Тифаты.
Они были встречены радостными криками товарищей, сейчас же получили оружие и составили третий легион, командование которым было поручено Борториксу, а Брезовира назначили префектом конницы.
Вскоре Спартак возвратился в Нолу, расположился лагерем и пробыл там около тридцати дней, ежедневно с увлечением обучая новый легион. В это время фракиец получил сведения, что претор Вариний пополняет солдатами свои легионы, намереваясь напасть на гладиаторов.
Спартак решил опередить Вариния. Он оставил Крикса с двумя легионами в Ноле, взял с собой первый легион, которым командовал Эномай, перешел Апеннины и, выступив в Самний, появился под Бовианом.
Вариний сообщил римскому сенату о злоключениях и неудачах, постигших его на этой войне, внушавшей отныне серьезные опасения. Чтобы положить ей конец, требовалось подкрепление численностью не менее двух легионов. Напоминая о своих прежних заслугах перед отечеством, честный солдат просил сенат оказать ему, ветерану многих сражений, милость – дать возможность смыть со своей совести позор понесенного поражения и довести войну до конца.
Сенат внял справедливым просьбам храброго Вариния и прислал ему восемь когорт, в составе которых было свыше четырех тысяч ветеранов, а также разрешил ему набрать среди марсов, самнитов и пицентов еще шестнадцать когорт, с тем чтобы он имел возможность сформировать два легиона, необходимые ему для подавления мятежа гладиаторов.
Претор, который считал, что старшинство чина и продолжительность службы в армии дают человеку неоспоримые преимущества, назначил на место, оставшееся свободным после смерти Фурия, Лелия Коссиния, хотя среди бывших у него в подчинении трибунов многие были и умнее и дальновиднее этого человека. Вариний доверил ему командование восемью когортами, только что присланными из Рима, приказав Коссинию остаться в Бовиане, чтобы помешать Спартаку продвинуться в глубь Самния, сам же с двумя тысячами легионеров, уцелевших после поражения у Кавдинского ущелья, отправился в страну марсов и пицентов набирать там солдат.
Когда Спартак подошел к Бовиану, намереваясь навязать Коссинию бой, тот, действуя согласно полученным им распоряжениям, заперся в городе; негодуя на то, что ему запрещено выступить, он, однако, терпеливо переносил все оскорбления и вызовы гладиаторов.
Но Спартак разгадал план Вариния и решил не дать ему времени набрать солдат в Самнии и Пиценуме. Оставив под Бовианом Эномая с одним легионом, который расположился лагерем близ города, сам он с отрядом конников возвратился в Нолу.
Здесь его ожидали хорошие вести. Первой и самой приятной был приход гладиатора Граника, который привел с собою свыше пяти тысяч человек: галлов, германцев и фракийцев из нескольких школ Равенны. С таким подкреплением войско гладиаторов, разделенное на четыре легиона, доходило до двадцати тысяч человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второй неожиданной и не менее приятной новостью был приезд Мирцы. Спартак обнял сестру, покрывая лицо ее горячими поцелуями. А девушка целовала то лицо, то руки брата, то его одежду и прерывающимся от рыданий голосом говорила:
– Спартак!.. Ах, Спартак!.. Любимый брат мой! Как я боялась, как трепетала за тебя… Я думала обо всех опасностях, которым ты подвергаешься в этой кровопролитной войне!.. Я не знала ни минуты покоя… просто жить не могла… все думала: «Может быть, он ранен и ему нужна моя помощь!» Ведь никто, дорогой Спартак, никто не мог бы так ухаживать за тобой, как я… если бы… когда… да спасут тебя великие боги! И я плакала по целым дням и все просила Валерию, милую мою госпожу… чтобы она разрешила мне поехать к тебе… и она, бедняжка, исполнила мою просьбу. Да окажет ей покровительство Юнона за ее доброту… Она отпустила меня к тебе… И, знаешь, она даровала мне свободу!.. Я теперь свободная… я тоже свободная… И я теперь навсегда останусь с тобой.
Она щебетала и ласкалась к брату, как ребенок, а из глаз ее лились слезы, но бедная девушка улыбалась брату, и во всех ее движениях сквозила радость, переполнявшая ее сердце.
Недалеко от них молча стоял, наблюдая эту сцену, белокурый красавец Арторикс. Лицо его то озарялось радостью, то затуманивалось печалью. Он тоже всего несколько дней назад прибыл с Граником из Равенны. Приблизившись к Спартаку, он застенчиво сказал:
– А меня, дорогой Спартак, непобедимый наш вождь, меня ты разве не обнимешь и не поцелуешь?
Говоря это, Арторикс окинул беглым взглядом девушку, как бы прося у нее прощения за то, что похищает у нее поцелуй брата.
– Арторикс! – воскликнул Спартак и, крепко обняв его, прижал к своей груди. – Любимый мой друг!.. Дай я тебя поцелую, благородный юноша!
Так в дополнение ко всем радостям, которые изведал Спартак за последние месяцы, к счастью блестящих побед и замечательных успехов, которых он добился с первых дней ужасной войны, судьбе угодно было послать ему еще одну радость: он мог обнять сестру и Арторикса, самых дорогих его сердцу людей.
Но вскоре лицо Спартака, сиявшее счастьем, затуманилось. Склонив голову на грудь, он глубоко вздохнул и погрузился в скорбные мысли.
Простившись с друзьями, он вместе с сестрой ушел в свою палатку. Спартаку очень хотелось расспросить Мирцу о Валерии, но какое-то чувство стыдливости мешало ему заговорить об этом с сестрой. К счастью для Спартака, девушка щебетала о том о сем, и фракийцу не пришлось расспрашивать ее, так как Мирца сама завела разговор о Валерии: ей никогда и в голову не приходило, что между ее бывшей госпожой и горячо любимым братом существовали иные отношения, кроме дружеских.
– О, поверь, поверь мне, Спартак, – повторяла девушка, приготовляя для брата скромный ужин на пне, который в палатке фракийца служил столом, – если бы все римские матроны были похожи на Валерию… Верь мне, я на себе испытала всю ее доброту, благородство ее чувств… рабство давно было бы отменено законом… потому что дети, родившиеся от подобных женщин, не могли бы, не пожелали бы терпеть существование тюрем, наказаний розгами, распятий на крестах, не допустили бы, чтобы с гладиаторами обращались как с убойной скотиной…
– О, я это знаю! – взволнованно воскликнул Спартак. И тут же, спохватившись, добавил: – Да, да, я верю тебе.
– И ты должен этому верить… потому что, видишь ли, она уважает тебя… гораздо больше, чем любая другая матрона на ее месте уважала бы ланисту своих гладиаторов. Она часто разговаривала со мной о тебе… восхищалась тобой, в особенности с тех пор, как ты расположился лагерем на Везувии, при каждом известии о тебе… Когда мы услыхали, что ты победил и разбил трибуна Сервилиана… когда узнали о твоей победе над Клодием Глабром, она часто говорила: «Да, природа щедро наградила его всеми достоинствами великого полководца!»
– Она так говорила? – нетерпеливо переспросил Спартак, на лице которого отражались воскресшие в душе чувства и воспоминания.
– Да, да, она так говорила!… – ответила Мирца, продолжая готовить ужин. – Мы долго здесь останемся? Я хочу позаботиться о твоей палатке… Эта совсем не подходит для доблестного вождя гладиаторов… В ней такой беспорядок… и нет самого необходимого… У любого солдата жилье лучше… Ну да, она так говорила… И как-то раз она спорила со своим братом, оратором Гортензием, ты ведь знаешь его? Так вот, она защищала тебя от его нападок, говорила, что война, которую ты начал, – справедливая война, и если боги пекутся о делах людских, то ты победишь.
– О божественная Валерия! – чуть слышно произнес Спартак, бледнея от волнения.
– И она, бедняжка, так несчастлива, – продолжала девушка, – так, знаешь ли, несчастлива!
– Несчастлива?.. Несчастлива?.. Почему?.. – живо спросил фракиец.
– Она несчастлива, я это знаю… Я не раз заставала ее в слезах… часто глаза ее бывали красными от слез… часто я слышала, как она глубоко вздыхала, очень часто. Но почему она плачет и вздыхает, я не знаю, не могу догадаться. Может быть, из-за неприятностей с ее родственниками из рода Мессалы… А может быть, горюет о муже… Хотя едва ли… нет, не знаю… Единственное ее утешение – ее дочка, Постумия. Такая милочка, такая прелестная крошка!..
Спартак глубоко вздохнул, смахнул рукой несколько слезинок, скатившихся из глаз, резко повернулся и, обойдя кругом палатку, спросил у Мирцы, чтобы переменить тему разговора:
– Скажи, сестра… ты ничего не слышала о Марке Валерии Мессале Нигере… двоюродном брате Валерии?.. Я с ним встретился… мы с ним бились… я его ранил… и пощадил его… Не знаешь ли ты случайно… выздоровел ли он?
– Конечно, выздоровел!.. И об этом твоем великодушном поступке мы тоже слышали!.. Валерия со слезами благословляла тебя. Нам все рассказал Гортензий, когда приехал на тускуланскую виллу… После смерти Суллы Валерия почти круглый год живет там.
В эту минуту на пороге палатки появился один из деканов гладиаторов и доложил, что молодой солдат, только что прибывший из Рима, настойчиво просит разрешения поговорить со Спартаком.
Спартак вышел из палатки на преторскую площадку: лагерь гладиаторов был построен в точности по образцу римских лагерей. Палатка Спартака была разбита на самом возвышенном месте, и перед ней было отведено место для военного суда. Эта площадка у римлян называлась преторской. За палаткой Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена; возле нее стоял караул из десяти солдат во главе с деканом. Выйдя из палатки, Спартак увидел идущего к нему навстречу юношу в богатом военном одеянии, о котором ему только что доложили; юноше этому на вид было не более четырнадцати лет.
На нем была кольчуга, облегавшая плечи и тонкий, гибкий стан; она была сделана из блестящих серебряных колец и треугольников, соединенных между собой в частую сеть, и доходила почти до колен. Панцирь был стянут в талии кожаным ремешком, отделанным серебряными насечками с золотыми гвоздиками. Ноги были защищены железными наколенниками, затянутыми позади икр кожаными ремнями; правую руку закрывал железный нарукавник, а в левой юноша держал небольшой бронзовый щит, украшенный чеканными фигурками тонкой работы. С правого плеча вместо перевязи спускалась к левому боку массивная золотая цепь, на которой висел изящный короткий меч. Голову юноши покрывал серебряный шлем, на котором вместо шишака была укреплена золотая змейка, а из-под шлема выбивались золотистые кудри, обрамлявшие прекрасное юношеское лицо – нежное, словно выточенное из мрамора. Большие миндалевидные лучистые глаза цвета морской волны придавали этому милому, женственному лицу выражение отваги и решимости, что никак не соответствовало всему хрупкому, нежному облику юноши.
Спартак недоуменно взглянул на юношу, затем повернулся к декану, вызвавшему его из палатки, как бы спрашивая его, этот ли воин желает с ним говорить, и, когда декан утвердительно кивнул, Спартак подошел к юноше и спросил его удивленным тоном:
– Так это ты хотел меня видеть? Кто ты? Что тебе нужно?
Лицо юноши вспыхнуло, затем вдруг сразу побледнело, и после минутного колебания он твердо ответил:
– Да, Спартак, я.
И после короткой паузы добавил:
– Ты не узнаешь меня?
Спартак пристально вглядывался в тонкие черты юноши, словно отыскивая в памяти какие-то стершиеся воспоминания, какой-то отдаленный отзвук. Затем он ответил, не сводя глаз со своего собеседника:
– В самом деле… Мне кажется, я где-то видел тебя… Но где?.. Когда?..
Затем снова наступило молчание, и гладиатор, первым прервав его, спросил:
– Ты римлянин?
Юноша покачал головой и, улыбнувшись печальной, какой-то вымученной улыбкой, как будто ему хотелось заплакать, ответил:
– Память твоя, доблестный Спартак, не так сильна, как твоя рука.