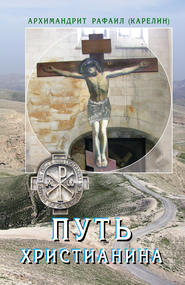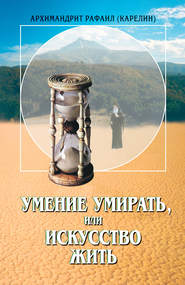По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна спасения: Беседы о духовной жизни. Из воспоминаний
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Реактивная сила, поврежденная грехом, проявляется не как сохранение личности, а как утверждение эгоизма человека; во внешнем плане она проявляется в огромной амплитуде: от постоянной раздражительности и нетерпимости в семейном кругу (синдром мелкого беса) до человеческих гекатомб, которые совершают тираны (пир сатаны). Разрыв между желанием и возможностью вызывает и питает чувство раздражения и озлобления: человек воспринимает весь мир как сплошную несправедливость по отношению к нему, как будто все человечество сговорилось, чтобы досадить ему. Такой человек похож на бомбу, начиненную грязью, которая взрывается при неосторожном прикосновении к ней. Это чувство, усиливаясь, может приводить человека к страшным душевным состояниям, выливаться в садизм и безудержное стремление убивать.
Когда через покаяние и благодать раздражительная сила души соединяется с духовным чувством обращенности к Богу, то она становится динамичным отрицанием греха, самокритичностью, ненавистью к демону, чуткостью к вторжению темных импульсов в человеческую душу, действеннейшим орудием в очищении сердца от страстей.
В этом вопросе столкнулись между собой тримерия Востока и димерия Запада. Восток четко разграничивает область духа и души, Запад сливает их в душевном монизме. Кроме того, западная антропология говорит о грехопадении человека только как о потере Божественной благодати, при сохранении естественного состояния души. Для восточной же антропологии грехопадение представляется более глубокой драмой в истории мира: человек выпал из центра своей жизни, на место Бога он поставил себя. Богоборческий импульс, разорвав союз человека с его Творцом, деформировал саму человеческую природу. Дух стал отключенным от души, будучи оторванным от Бога, душевные силы также разобщились между собой: разум, чувство и воля то вступают в согласие, то противостоят друг другу. Поэтому восточный аскетизм – это борьба за человеческое сердце, поэтому восточный подвижник не доверяет себе, не доверяет своей душе, его цель – покорить душу духу, а дух – благодати. Поэтому основа аскетики Востока – покаяние, тот плач о грехах, которого не понимает мир, считая его слабостью, малодушием и болезненной слезливостью. Западный подвижник начинает с бодрого вызова темным силам преисподней, с которыми готов сражаться, как рыцарь с исполинами. Основа этого подвижничества не покаяние, а честь и любовь; но какая любовь?..
О богообщении и богооставленности
Книга Иова и Песнь песней являются самыми таинственными книгами Ветхого Завета.
Из толкований на Книгу Иова можно составить целую библиотеку. Некоторые из этих толкований отличаются высокими достоинствами и глубиной богословской мысли. Однако у читающих Книгу Иова и ее экзегезу остается чувство какой-то неясной неудовлетворенности, ощущение того, что здесь что-то недосказано и что-то важное скрыто под текстом, как под внешней оболочкой книги.
Церковное Предание свидетельствует, что эту книгу написал царь и пророк Соломон. Для нас это чрезвычайно важно, для нас это – нить Ариадны, которая указывает путь в подземном лабиринте, где путник, открывая одну дверь, видит перед собой десять закрытых дверей и, двигаясь по сплетенным, как кружева, коридорам и лестницам, в конце концов оказывается в тупике.
По нашему мнению, Песнь песней и Книга Иова – это история души в двух состояниях: богообщения и богооставленности. Интенсивность и свет богообщения переходят в муки и непроницаемый мрак богооставления. Чем сильнее любовь к Богу, тем страшнее мысль о вечной потере Бога; когда Бог становится внутренней жизнью человека, то прерванное богообщение и даже только страх потерять его превращаются в муки ада, неведомые миру.
Книга Иова и Песнь песней – это два полюса религиозной жизни, и между ними пролегает поле огромного напряжения. Это переживание души, созерцающей в своем наличном состоянии и перспективе вечности рай и ад. В начале книги говорится о праведной жизни Иова, но это внешний, верхний пласт. Самое главное, что его душа была поглощена любовью к Богу, подобно Суламите из Песни песней. По древним толкованиям, под образами жениха и невесты в Песни песней символически подразумеваются Божество и человеческая душа. В этой книге есть следующий эпизод: ночью жених зовет через дверь свою невесту, она медлит на своем ложе, а когда открывает дверь во двор, то видит, что там уже никого нет. Она в горести ищет своего жениха по улицам и площадям города. Ночные стражи хватают ее, срывают с нее одежды, избивают, и она едва вырывается из их рук. Экзегеты видят в этом испытание невесты. Ночь – страдания и скорби, уход жениха – богооставленность, сорванный хитон – знак потери всего видимого, борьба с темными силами, подстерегающими душу, раны и унижения, которые терпит от них душа; но самая страшная мука для невесты – это мысль, что жених разлюбил и оставил ее навсегда.
Когда мы читаем Книгу Иова, нас удивляет непонятный психологический контраст: Иов, бесстрашно и мужественно, как мученик, принявший посланные ему испытания, стал вдруг проклинать свою жизнь, роптать и оправдываться перед Богом. Самое худшее как будто уже случилось, что же еще терять Иову, почему же не принять смерть с молитвой на устах, как принимали ее многие праведники и пророки? Почему этот спор человека с Богом должен был войти как непонятное назидание в Библию?
Некоторые толкователи, чтобы «оправдать» Иова, стараются приписать его друзьям, беседующим с ним, формальное, юридическое и даже прагматическое отношение к Божеству. Но нам такие выводы кажутся тенденциозными и вовсе не исходящими из текста. Напротив, речи друзей Иова возвышенны и прекрасны, любой современный богослов мог бы только позавидовать орлиному полету их богомыслия и красоте употребляемых ими образов и сравнений, вдохновенной религиозной поэтичности их слов; они воодушевлены надеждой на милосердие Божие и как раз поэтому убеждают и умоляют Иова принести перед Богом покаяние, чтобы удостоиться прощения. Иов отвечает им, но создается впечатление, что он не понимает, как бы не слышит их своим сердцем, что он, Иов, и его друзья стоят на двух духовных плоскостях, разделенных огромной дистанцией.
Отцы сказали: «Блажен тот, кто читает Песнь Песней – он вошел в алтарь храма, если понял ее таинственный смысл». Царь Соломон в юности своей пережил высокие состояния богообщения и боговидения. Песнь песней – это пророчество, но в то же время и откровение, которое он пережил сам. Однако богообщение этого блистательного израильского царя было трагически и неожиданно прервано. Библия скупо и глухо говорит о том, что «развратилось сердце Соломона» (см.: 3 Цар. 11, 3). После построения храма Иеговы, который называли чудом света и красой Иерусалима, Соломон воздвиг идольские капища для своих жен-чужестранок и сам присутствовал при демонических ритуалах. Теперь он так же опытно пережил реальную богооставленность – ад при жизни, потерю благодати. Если бы с него сняли царский венец и сделали последним рабом в собственном его доме, то и это было бы ничто перед муками души, которая потеряла величайшее из сокровищ и, помня о своей прежней любви, горит день и ночь в черном пламени.
По преданию, царь Соломон принес глубокое покаяние перед Богом и был прощен. Скорбью этого покаяния и тихим, мягким светом Божественного прощения озарена другая книга Соломона – Екклезиаст, как бы его предсмертное завещание. Эта книга похожа на последние лучи солнца, заходящего за горизонт. Итак, Соломон пережил высоту богообщения, которая в Песни песней сравнивается с восхождением на вершины Ливана, и глубину богооставленности, которую познал до Соломона, может быть, Адам.
Мы далеки от мысли, что Иов – это образ самого Соломона. Но мы хотим сказать, что он был особенно близок душе Соломона через внутренние переживания, недоступные нам.
В жизни Иова мы видим три периода: период, когда он занимал высокое положение в своей стране (в церковной гимнографии он назван царем); период испытаний: потеря детей, имущества, проказа, изгнание из города и, наконец, богооставленность; и третий, заключительный период – время награды за праведность и верность в испытаниях.
В жизни Соломона мы так же можем отметить три периода: блистательное начало царствования, когда Соломон, как это можно видеть в псалмах, представлял собой символический образ Мессии по своей святости и мудрости, время строительства Храма в Иерусалиме, когда он сам восходил по ступеням духовного храма к высшим созерцаниям и озарениям, когда его сердце пело Песнь песней. Второй период – смерть прежде смерти, отпадение от Иеговы, потеря Того, Кого он любил больше всех на свете. За пять столетий до Соломона провидец Валаам сказал: «Пророк падает, но глаза его видят» (см.: Чис. 24, 4). Соломон в своей богооставленности видел себя покрытого струпьями проказы, душу, пораженную грехом, разлагающуюся, как труп, видел следствия своей измены Богу: царство, разорванное, подобно одежде, на части, двенадцать племен, обративших мечи друг против друга, разрушенный Иерусалим и пепелище на месте, где стоял построенный им Храм. Это была нищета более страшная, чем нищета Иова. Соломон, восседая на золотом троне, видел погубленное царство, народ, умирающий от голода, и Иерусалим, сожженный грехом его царей.
В своем великолепном дворце, соперничавшем с дворцами Египта и Вавилона, он переживал то, что Иов – на куче мусора, который сбрасывали с крепостных стен, Иов, заживо пожираемый червями. Это были не физические муки, а ужас богооставленности. Ниже всех пал первоангел, тот, кто был ближе всех к Престолу Божиему. По мистической высоте Песни песней можно мысленно представить бездну, на дно которой пал изменивший Богу пророк. Какой силы нужно было покаяние, чтобы Соломон мог заново родиться, чтобы орел, превратившийся в червя, снова обрел свои крылья? Священное Писание хранит об этом молчание, но безмолвный вопль души Соломона, как вспышки ночных молний, озаряет страницы Книги Иова. Здесь нет заимствований, а лишь одна и та же трагедия богооставленности, хотя причины ее неодинаковы. Здесь – близость духовных переживаний. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Со Христом и в аду хорошо»; здесь ад представлен как нечто внешнее по отношению к душе человека, как место и совокупность страданий, которые может испытать человек, душа которого при том принадлежит Христу.
Иов жил любовью к Богу, эта любовь была сокровенной тайной его сердца, о которой не могли догадаться даже его друзья: понять ее может только тот, кто пережил ее сам. Первые удары Иов принял непоколебимо, как скала порывы бури или утес – напор бушующих волн. Иов был среди мира одинок, как одиноки все, любящие Бога, но потеряв всех и всё, он в сердце своем остался с Богом, как мореплаватель, потерявший корабль и спутников, однако сохранивший драгоценный камень, ради которого он предпринял свое дальнее путешествие. Но затем последовало более страшное испытание, внутреннее, невидимое для мира – это богооставленность или страх перед богооставленностью. Что такое богооставленность, нам трудно понять, как трудно понять, что такое адская мука.
Песнь песней дает нам некоторый ключ к тайне, хотя бы ее смутные и неясные тени: в ней любовь Бога и души сравнивается с любовью жениха и невесты. Вся жизнь сосредоточена для невесты в ее женихе, она отдала ему все свое сердце без остатка и вдруг видит, что жених покидает ее и, быть может, навсегда.
Тогда ее любовь превращается как бы в крик боли, она говорит: «Почему ты разлюбил меня, что сделала я тебе, что ты оставляешь меня?!». И это не самооправдание. Это боль и кровь сердца. Речи Иова – крик души, уязвленной болью любви, ужас разлуки с Любимым, без Которого смерть лучше жизни. Мы видим, как ищет ответа Иов: почему Бог поставил его как бы на краю бездны, перед угрозой вечной разлуки? Но не столько ищет он ответа и объяснений, сколько Самого Бога, без Которого не может жить…
Иов не отрицает своей греховности как присущей всем людям вообще, но он не находит в себе того греха, который мог бы прервать это мистическое богообщение, повернуть русло любви Божией вспять от него. Он хотел бы видеть свой грех и преступление, чтобы любой жертвой искупить их; он ищет их честно и мучительно, но не находит, именно не находит греха, который превысил бы прежнюю любовь Бога к нему, а лгать Живому Богу он не может. Одев маску, даже маску смирения, уже невозможно видеть лицо Бога. Здесь особый метафизический трагизм: не кошмар грехопадения Соломона, а трагизм собственной праведности, по сути безысходный, ибо Иов не может пожертвовать правдой ради любви и любовью ради правды. Иов мужественно вынес самые тяжкие испытания, как доказательство своей любви к Богу, но теперь, в новом внутреннем переживании – богооставленности или перед ужасом её – эти же самые испытания могли показаться ему охлаждением Божественной любви к нему, и этого перенести он уже не мог. Поэтому слова Иова – это безумие любви, это плач Суламиты в разлуке с ее женихом. Великая скорбь и великая радость молчаливы, поэтому слова друзей, как бы ни были они прекрасны, только обременяют Иова. Суламиту могут утешить не ее подруги, а лицо жениха. Суламита, увидев его, забывает все: и речи своих подруг, и свои слезы, и саму себя. Совершается феофания – Бог явился Иову: «Я слышал Его, а теперь вижу Его» (см.: Иов. 42, 5), – говорит праведник. Это богоявление – ответ не на слова Иова, но на любовь его сердца. Бог явился ему не с тем, чтобы разрешить недоумения – в свете Божества они исчезли без следа, как тени, – а с тем, чтобы уверить Иова в Своей вечной любви. Это новое богоявление – ответ на все мучительные вопросы Иова, ответ Бога: «Я с тобой».
Прокаженный Иов сидит на гноище, но Бог невидимо пребывает с ним. И оттого место это кажется ему троном, проказа – царским одеянием, а черви – золотыми украшениями на нем. Иов внимает Богу в безмолвии.
Господь исцеляет Иова, возвращает ему богатство, продлевает его жизнь, но это все – лишь свидетельство того, что внешние испытания кончились. Эти милости даны скорее не столько для самого Иова, сколько для друзей праведника, чтобы они убедились в его святости.
Господь говорит друзьям Иова, чтобы они просили его молитв о себе, так как Иов больше прав, чем они. В чем состоял грех друзей Иова? Это был скорее грех не как преступление, а как несовершенство: олень не должен указывать путь летящему в небе орлу; олень может проходить через лесные чащобы и горы, но орел легко перелетает их. Друзья Иова с их идеей справедливости и воздаяния не могли понять, как один порыв любви может быть перед Богом драгоценнее внешней праведности, праведности Закона. И потому этот упрек Бога должен был показать им их несовершенство в самом главном и приоткрыть им тайну Иова.
Один из экзегетов сказал: «Книгу Иова надо читать через слезы». Мы бы добавили: через слезы не об Иове, а о нас самих, о том, как по сравнению с озаренной огненной любовью душою Иова темна и пуста наша душа.
Религиозные чувства интеллигенции
Мистика – это любовь человеческой души к Живому и Личностному Богу. В мистике нет законов, так как любовь является душе как бесконечная внутренняя свобода, там нет причинно-следственной связи, там Бог воспринимается как единая жизнь, а потеря Бога – как смерть. Магия – это попытка определить законы духовного мира и через знание этих законов, включая себя в ассоциативные символы, числа и имена, иметь возможность воздействовать на духовный мир. По стилю мышления магия ближе, чем мистика, уму ученого, и поэтому многие из них впадали в магизм, например, Крукс, Фаррадей, Бутлеров, Флоренский и др. Они хотели изучить и классифицировать в соответствии с привычными для них методами научного познания феномены духовного мира и в результате оказывались в плену оккультно-демонического мира. Другие ученые, рационалисты, сливали Божество с миром, их религией была вера в разумность Вселенной, в одухотворенность самой материи, благоговение перед непознанным, а другими словами, перед самим творческим процессом познания. По мысли Эйнштейна, быть ученым – это уметь удивляться. Здесь религиозное чувство подменяется индивидуальным вдохновением поиска.
У ученых, обладающих более художественной натурой, религиозное чувство заменялось восхищением устройством и явлениями видимого мира уже с элементами эстетического переживания: Бог, мир и я – едины. Это – явный или скрытый пантеизм. Так, например, Тейяр де Шарден, выдающийся ученый, палеонтолог и священник-иезуит, описывает случай, когда он находился в экспедиции: у него не было вина и хлеба для совершения мессы, и он ранним утром, взойдя на холм, погрузился в созерцание природы и пережил рассвет как Литургию, а восход солнца как явление Христа и Таинство Причастия. Здесь явно стирается грань между Церковью и миром, Божеством и Его творением, сакральным и профористическим, внешним. Для таких людей весь космос – литургисающий организм. Миссия Церкви – одухотворить Вселенную, а здесь саму Церковь растворяют и как бы топят в хаосе неосвященного.
Обычно такие ученые вносят в религию дух секуляризации. Гордый ум говорит: или Бога нет, или, если Он есть, я – Его частица. К ученым обращены слова Спасителя: «Если хочешь быть со Мной, иди, раздай имение свое нищим и следуй за Мной» (см.: Мф. 19, 21). Юноша, услышавший эти слова, опечалился и отошел от Христа. Ученому надо не только учиться, но, что гораздо труднее, – переучиваться. Так, например, преподобный Арсений Великий, образованнейший человек, которого император избрал в качестве воспитателя для своих детей, говорил, что он не знает даже азбуки той мудрости, которой владеют живущие в пустыне монахи.
Несколько особняком среди ученых стоят психологи, они лучше других понимают бессилие науки объяснить психику человека материальными факторами, и в тоже время те из них, кто считает себя верующим, воспринимают религию через призму психологии. Для них религия – определенная программа, в которую человек должен включиться, а молитва – нечто, похожее на аутотренинг, самовнушение; ценности ее они не отрицают, но сущности не понимают, духовного мира как мира иных существ и духовных субстанций для них практически не существует. Религия для них – это оптимальные психические установки, хороший вид самозащиты от стрессов и потрясений, источник терпения, надежды во время болезни, спокойствия в час смерти, а где Живой Бог – неизвестно.
Потому-то некоторые из таких психологов и склонны смотреть на религию в ее заповедях, обрядах и ритуалах как на лечебное средство, особенно необходимое для слабой, расшатанной психики и применяемое в комплексе с такими приемами, как психоанализ, гипноз и медитация.
Некоторые из них идут еще дальше и готовы допустить, что ряд психических заболеваний, наркомания и алкоголизм – это не только субъективные процессы, не только растормаживание подсознания, но и прорыв в демонический мир.
Иногда психологи считают творения аскетов ценным материалом по самоанализу, но в целом религия для них имеет не духовую, а душевную ценность: чем выше идеал, к которому стремится человек, тем более способен он к выживанию в экстремальных условиях современного мира. Яркий пример такой двойственности представляет собой академик Павлов. Нося крест, исполняя религиозные обряды, беря благословение у священника и являясь старостой храма, он в тоже время давал согласие вступить в качестве члена в английское атеистическое общество под названием «Рационалист», с оговоркой, что считает религию нужной для людей определенного психического склада, «слабой конституции». Религиозность своей жены – дочери Менделеева – он наблюдал, по его словам, с «жутким чувством».
Хроническая болезнь интеллигенции – духовная гордость; она обычно прячет себя под лживыми словами о правах и достоинствах человека. На самом деле здесь – выделение себя в некую элиту, кичение своим интеллектом, и никакой интеллигент всерьез не сравнит себя ни с крестьянином, ни с ремесленником, ни с тем, кто имеет более низкий образовательный ценз. Наоборот, под этими словами о достоинстве скрываются соперничество и неутолимое желание превосходства. Нередко приходится слышать от интеллигента: «Как я могу стоять в храме рядом с какими-то старухами и невежественными людьми!». Редко какой художник скажет, что его собрат более талантлив, чем он; редко какой композитор согласится, что не он, а кто-либо другой выразил глубже гамму человеческих чувств; редко какой поэт не считает себя «суперпоэтом» современности; редко какой артист не сетует на то, что его гений остается до сих пор непризнанным миром. Если такой человек не увидит в себе этой страшной болезни реально, не увидит, как и он сам, и прочая «элита», кричащая о достоинстве человека и о служении народу, занимаются из чувства соперничества и ревности самыми подлыми интригами, сплетнями, поносят друг друга, если не произойдет это чудо – видение не блеска, а грязи своих страстей, то его религиозность примет демонический характер. Поэтому-то и не удивительно, что такие люди, как Бодлер, Гюго, Брюсов, Блок, Андрей Белый и Метерлинк, принадлежали к тайным демоническим сектам.
Ересь имеет обычно два начала. Первое – ложный мистический опыт, когда человек, не очистившись от греха, не обуздав своих страстей, не смирив своей гордыни, дерзновенно стремится к видению духовного мира, и здесь подобное встречает подобное: гордый дух человека входит в контакт с гордым духом злобы. Вторая причина ереси – это гордость рассудка, которую мы назвали бы интеллектуальным хамством.
Если же эти люди, почитающие себя элитой, и выберут даже себе духовного наставника, то редко когда они подчинят ему свою волю; они будут расспрашивать его о духовной жизни, задавать казуистические вопросы, стараться поразить своими знаниями, возражать на его советы и благословения. И, скорее всего, кончится это тем, что их наставник, махнув рукой, скажет: «Делайте, что хотите!», так как чужая воля – непробиваемая стена. Или же они сами решат, что наставник не понимает их, так как он – человек непросвещенный, а послушание – это балласт, мешающий их полету.
Человек считает самого себя критерием истины и на основе своих знаний и представлений, очень ограниченных и искаженных, начинает решать метафизические вопросы, как будто метафизический мир можно охватить человеческой мыслью. Он не понимает, что метафизический мир – это мир иного бытия, иных категорий, что соприкоснуться с тайной можно только через благоговение к тайне. Истинное знание расширяет для человека горизонты его незнания. А здесь – духовная болезнь: человек не знает своего незнания и смелее всего говорит о том, чего он не видел и не постиг.
Среди ересиархов трудно найти действительно интеллигентных людей; но даже и от самого эрудированного ученого и блестящего философа, если он не будет христианином в своей повседневной жизни, если он не станет исполнять евангельские заповеди, а захочет познать духовный мир силой своего ума, истина ускользнет, как луч от руки, которая хочет схватить его.
Рационалистические ереси возникали от того, что конечное и ограниченное пыталось объять и определить безграничное, а на самом деле осталось с грезами своего ума. Гордость ума проявляется в ложном чувстве свободы. Один интеллектуал говорил, что ему ближе гностическое «евангелие», чем Евангелие, принятое Церковью. Причину этого он сам толком не мог объяснить, но все-таки сказал главное: когда я читаю каноническое Евангелие, то чувствую себя рабом Божиим. Здесь – трагическое непонимание того, что через рабство Богу человек перестает быть рабом греха и в благодати Божией получает свободу, а демон обещает ложную свободу, при том без трудов, без борьбы со страстями, как бы прыжок на небеса, обещает сделать своим братом и завораживает душу одним доводом: «ты достоин этого».
Все великое совершается в безмолвии. Тайна безмолвия мало понятна для современного интеллигента, он родился и живет в мире слов. Для него безмолвие – это не полнота другой жизни, выразить которую слово бессильно, для него безмолвие – гробовая пустота. Интеллигент всегда шумит, он немного похож на генератор, который хочет дать людям свет, но дает шум. Мысль о том, что ему нечего сказать, звучит для него поражением. Одна из причин, почему интеллигент редко посещает церковь или вовсе не посещает ее, по его же словам, заключается в том, что с «нашими священниками не о чем поговорить культурному человеку». То, что священник – совершитель таинств, а таинство – это жизнь для человеческой души, интеллигенту непонятно, ему хочется, чтобы священник был образованным гидом храма.
Когда известный духовный писатель Е. Поселянин[2 - Псевдоним замечательного православного прозаика и публициста Е. Н. Погожева (1870–1931 гг.). В декабре 1930 г. Евгений Николаевич был арестован, а в 1931 г. – расстрелян в подвалах ГПУ. Место захоронения неизвестно. – Ред.] потерял любимую жену и друзья посоветовали ему оставить мир и уйти в монастырь, он ответил: «Я рад бы оставить мир, но в монастыре меня пошлют работать на конюшню». Не знаем, какое послушание дали бы этому человеку, но он верно почувствовал, что в монастыре постараются смирить его дух, чтобы из духовного писателя он превратился в духовного делателя.
Истинная духовная жизнь скрывает себя от мира. Как это трудно для тех, кто пытается поразить мир своими талантами! Мы не говорим, что это невозможно, – мы говорим, что это трудно…
Теперь перейдем к другой части интеллигенции, к той, которая занимается политикой и управлением. Религия основана на бескорыстном служении истине, политика – на прагматизме, умении извлекать выгоду из наличных обстоятельств. Религия способствует возрождению личности: освобождению личности от рабства коллектива, от террора общества, от того духа мира, который заставляет людей поклоняться вместо Бога золотому тельцу. Религия разрывает липкую паутину общественных отношений как долговых обязательств и ставит своей целью то, что находится за пределами земного бытия. Политика и управленчество убивают личностное начало, там интересы государства, фирмы, корпорации и т. д. – при том интересы вполне земные и утилитарные – они отстаиваются и утверждаются в борьбе, в которой побеждает сильнейший. Честная политика – та, для которой честность выгодна; честное управленчество – то, которому нарушение правил игры грозит банкротством.
Здесь получается странная двойственность: обычно политики выступают с позиций нравственности, они считают нравственность полезной для сохранения государственных структур, они проявляют по отношению к религии лояльность и в тоже время считают ее заповеди необязательными для себя, потому что для них служение государству или корпорации – это цель, захватывающая их силы, цель, которую они считают самой главной. Можно сказать, что они религиозны в том смысле, что пользуются религией. Чаще всего это люди, к вопросам религии в действительности индифферентные; принципы религии – справедливость, бескорыстность, любовь к врагам – несовместимы с принципами борьбы за превосходство. На деле получается, что общечеловеческое всегда приносится в жертву частному. Поэтому религия таких людей, если она вообще существует, носит большей частью декларативный характер. Религия – мы имеем в виду христианство – требует от человека, чтобы он говорил правду, был справедлив даже по отношению к своим противникам, между тем как политика и принцип управленчества разделяют мир на «своих» и «чужих», а этот раздел – конец религии.
Почему времени все меньше
Современный человек остро ощущает дефицит времени. Кажется, что время летит все быстрее и быстрее. Ночь сменяет день, как будто утро раскрывает ресницы неба, а вечер через мгновение смыкает их.
В детстве казалось, что день длится необычайно долго, что солнце медленно, почти незаметно, как огромный корабль, плывет в необъятных просторах неба, и наконец, после долгого плавания достигает пристани за горами, окаймляющими горизонт. Настают сумерки, как преддверие ночи, как антракт, во время которого меняются декорации. Но вот открывается полог ночи и зажигается первая мерцающая звезда, как свечка, в глубине синего прозрачно-хрустального неба. Проходит время, зажигается вторая звездочка, а затем небо покрывается звездами, как будто чья-то рука рассыпала по небосводу огненные цветы. Темнеет синева неба, все ярче звезды над землей. И это начало ночи растянуто для ребенка как бы в пространстве нескольких лет. Само время кажется ему мелодичным, как протяжная колыбельная песня.
А как мы воспринимаем то же время теперь? Оно кажется нам сокращенным, как бы свернутым в свиток или сжатым, подобно пружине. Недостаток времени – это хроническая болезнь века. Мы задыхаемся от него, как от недостатка кислорода. Наш технический век, казалось бы, должен дать нам возможность успевать делать больше, нежели прежде, но мы, напротив, чувствуем, что время куда-то пропадает, как бы проваливается в пропасть, и мы не можем выполнить того объема работы, с которым легко справлялись раньше.
Многие говорят: я помню то время, когда мы читали литературу, ходили друг к другу в гости, работали иногда в две смены, а теперь некогда даже раскрыть книгу, а со знакомыми общаемся чаще по телефону.
В чем дело? Неужели хронически болен сам хронос? Пожалуй, что наиболее глубокое рассуждение о времени можно найти у блаженного Августина в его бессмертной «Исповеди». Он указывает нам, что существует два отсчета времени: внешний и внутренний. Внешний аспект времени – это календарное время, имеющее определенные объективные ориентиры, которые приняты как эталоны. Это время устойчиво и постоянно. Внутренний аспект времени – это время, переживаемое и фиксируемое нашей душой, ритмами и процессами самого человеческого организма. Это время субъективно, и оно воспринимается человеком как беспрерывное сжатие времени, как сокращение самих календарных периодов.