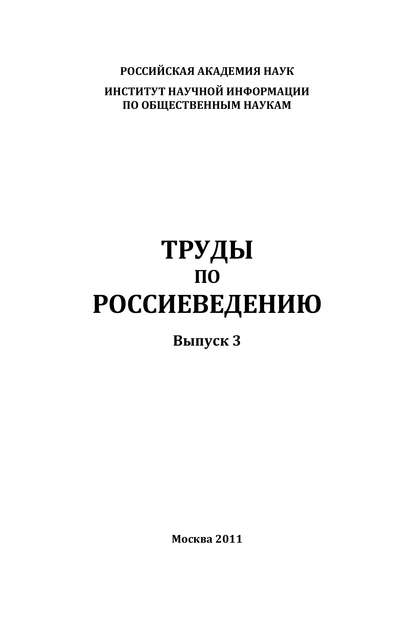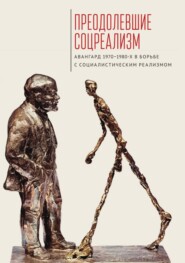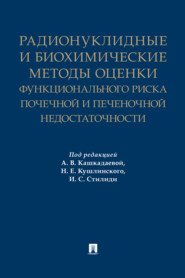По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Труды по россиеведению. Выпуск 3
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Средневековая Россия не знала ни римского права, ни борьбы императоров и пап, ни независимого университетского знания, ни Возрождения – фактически она не пережила Средневековья, так и не обретя в результате европейского гена саморазвития. Это тоже препятствовало формированию общества в европейском смысле слова. Значительного слоя самостоятельных граждан (дословно по-русски – горожан) также сложиться не могло. Гражданами официально считались подданные государства, втиснутые им в служилые сословия. Именно поэтому интеллигенции – людям относительно независимым от государственной службы – и пришлось сыграть столь значительную роль в «непредумышленном» противостоянии государственности. Этот процесс продолжается до сих пор – не стоит обольщаться относительно вроде бы автономных научных и общественных организаций, партий. Вместе с тем следует иметь в виду, что интеллигенция, как и народ, не любит слабую власть и презирает недееспособных правителей. Современная российская интеллигенции – это вовсе не известный на Западе креативный класс (creative class), как сегодня многим нравится думать. К сожалению, российская интеллигенция в большей или меньшей степени соответствует худшим сторонам менталитета современного информационного общества, воспроизводящего с помощью «передовых» технологий слабости и пороки синкретического сознания.
На человеческом уровне история столь же «прогрессивна», сколь и «регрессивна». Привычка замечать только ту историю, импульсы которой задаются либо «сверху» (вождями и правителями), либо «снизу» (заговорщиками и революционерами), – признак недостатка в обществе демократических потенций или веры в собственные силы. По-настоящему свободный человек не склонен считать правителей демиургами собственного бытия; рожденный среди свободных людей писатель находит главных персонажей истории не среди «спасителей» или «злодеев», а среди простых людей, составляющих народ. К россиянину с его предельно этатизированным сознанием это не относится.
Стало общим местом говорить, что верхи и низы Российской империи существовали в разных культурных измерениях. При этом низы представляли именно тот тип политической культуры, который вызывал столь горестные реакции Пушкина. Вскоре после большевистского переворота З. Гиппиус недоумевала: «Какому дьяволу, какому псу в угоду / Каким кошмарным обуянный сном, / Народ, безмолвствуя, убил свою свободу, / И даже не убил – засек кнутом!» (см.: 5). Удивляться не стоило: регламентированная «буржуазная» свобода народу была не нужна. Как результат, европеизированные верхи были «срезаны», «демократизация» культурного пространства развернулась по линии подавления низами «высокой культуры». Правда, не следует недооценивать эвристического потенциала низов: не подлежит сомнению, что русский человек в лице немалых своих представителей «избыточно талантлив», ибо не подвергался унифицирующему диктату городской культуры. Как бы то ни было, кризис конца ХХ в. вызвал очередное «проседание» российского культурного пространства. Сомнительно, что в условиях современной информационной революции удастся восстановить культурно-эвристический потенциал России. То же самое можно сказать о перспективах отечественной свободы.
Мне порой кажется, что «генотип» русской не/свободы заложен в легенде о «призвании» варягов. Норманнские завоевания – дело для былых времен обычное, однако никто добровольно не призывает разбойников и тем более не возводит на этой основе культа «1500-летней» государственности. «Долгое рабство – не случайный факт, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера, – писал в свое время А.И. Герцен. – Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она» (4). Так не напоминает ли русская история сплошную цепь поклонений покладистых холуев всевозможным «разбойникам», сменяющим друг друга на троне?
Ментальный. Хотя собственно ментальную составляющую российского культурного пространства практически невозможно отделить от эмоциональной сферы, формально она так или иначе должна обнаружить себя в государственно-правовых представлениях и практиках. При этом надо учитывать, что эти практики имеют мало общего с политикой в европейском смысле слова. Дело в том, что вера в государство превратилась в России в своего рода имперскую религию, определяющую весь спектр бытийственных представлений. Россиянин не верил в индивидуальное творческое начало, ему претили навязанные сверху коллективистские усилия. Русский крестьянин «бегал» от плохого помещика, но готов был пойти на поклон к государству, особенно возглавляемому «сильным» лидером. Но такого рода вера не только не исключала, но и предполагала склонность к ситуационному бунтарству под влиянием сиюминутных эмоций, вызванных «слабостью» патерналистской власти (сегодня такая ситуация ощущается довольно остро).
Отсюда стремление государства к овладению информационным пространством империи, что в свое время достигло апогея в большевистской «пропагандистской» государственности. Сталин – это «тихий» деспот, который осторожно вползал в души революционно-романтичных холуев: именно в этом кроется ноу-хау российского псевдототалитаризма. Возможности воздействия власти на социализацию россиян с помощью современных «свободных» массмедиа многократно возрастают. Но не стоит видеть в этом устойчивую тенденцию к бесконечному воспроизводству ментально одномерных, социально пассивных существ. Любая пропаганда, расходящаяся с реалиями, провоцирует волну безверия и хаоса. Современная российская ментальность отнюдь не отдает предпочтения закону перед насилием во имя недостижимой и потому тем более желанной «справедливости». Зато россиянин испытывает перманентное недоверие к «чужому» закону, писанному вроде бы вовсе не для него.
Господство такого типа ментальности открывает путь не только свободе демагогии, но и беспредельности легковерия. И не надо думать, что тому и другому подвержены в основном негодяи и дураки. Если вспомнить о волнах конспирологических теорий и футуристических пророчеств, в известные времена захлестывающих Россию, то станет очевидно, что вера в утопии и заговоры – две стороны одной и той же медали. Интеллигенция верит в «чудо будущего», народ – в злодеев прошлого и настоящего. «Ученые» и «невежественные» предрассудки переплетаются до такой степени, что уже не важно, кто нас ведет – ангелы или демоны. Важно, что, привыкнув к роли ведомого, мы непременно вновь забредем в застойное болото несвободы.
Человеку далекого прошлого была неведома свобода, зато он верил в справедливость, отождествляемую с сытостью, которую призвана была обеспечить традиция и ее суверенный хранитель. В России соотношение между свободой и справедливостью всегда было неустойчивым. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всем современном мире. Попросту говоря, сытая «справедливость» подавляет «голод» свободы.
Соответственно сомнительной традиции «справедливости» в России народ облагался обязанностями – правами располагало только государство. Законы писались для подданных, а не для правителей. Вероятно, из этого выросла системообразующая «вертикаль ментальности» россиян, которую небезуспешно нанизывали на «вертикаль власти». Сегодня не случайно выше всего стоит «телефонное право». Как выясняется, до сих пор можно небезуспешно напоминать людям об обязанностях, не гарантируя соблюдения их конституционных прав. И это делается с помощью церкви, вроде бы признающей свободу совести, но ухитряющейся до бесконечности поддакивать заведомо бессовестному государству.
Настоящее правовое государство – это просто диктатура закона. Однако попытки внедрения в России всеобщей формально-юридической правовой системы всякий раз наталкивались на инерцию обычного права. Последнее судит «по совести»: торжествует субъективно-эмоциональный принцип «хороший – плохой». Отсюда воспроизводство «неформальных» представлений о справедливости, блокирующих действие «несовершенных» законов и заодно открывающих простор судебному произволу.
Права личности – это всего лишь одна из исторических форм, с помощью которых создаются известные гарантии свободы самовыражения человека вопреки традиционным ментальным установкам (но в пределах конвенциональной политкорректности). Права личности, политические свободы не обеспечивают ни справедливости, ни тем более сытости. Они не гарантируют даже социального выживания в примордиалистском смысле слова, но поддерживают свободу творчества – концентрированное воплощение надежд на свободу как единственно достойный звания человека идеал.
Между прочим, сообщество троглодитов «защищало» своих членов соответственно императивам видового выживания, но принципиально исключало защиту прав личности. Соплеменник мог «качать права» на биосоциальном (стадном) уровне, но о ментальной независимости от социума не могло быть и речи. Тем самым исключалось понятие прогресса, связанного с выходом за пределы традиции. Ныне в России происходит нечто подобное с той лишь разницей, что прогресс отождествляется с комфортом, а планка вполне традиционных представлений о справедливости странным образом «модифицировалась». Так, мне не раз приходилось наблюдать, как солидные ученые мужи (отнюдь не коммунисты) горячо обижались на нынешнюю власть за ее неспособность превратить Россию в подобие Саудовской Аравии. О политической свободе они, кажется, забыли навсегда – им достаточно вовремя «выговориться» перед власть предержащими.
Вероятно, все дело в том, что постановка вопроса о правах личности возможна лишь после утверждения незыблемости права собственности. До этого следовало говорить только о правах групп людей – сословий, корпораций, этносов. Мы как-то стесняемся признать, что современное квазиуниверсалистское признание прав человека – всего лишь производное от универсализма рынка, своего рода побочный продукт информационно-потребительской унификации. В России мы пока что имеем дело с явлением иного исторического порядка. Правосознание россиянина и поныне не готово к внедрению демократических свобод. Почему-то никто не замечает, что нынешняя тотальная коррупция – в значительной степени деформированная эманация обычного права, компенсирующая «несвободу» формальной законности. Очевидно, что всякий суррогат привычной справедливости с ростом общественного достатка трансформируется в меритократическую иерархию распределения. Не признавая диктатуры закона, не уважая прав личности, мы превращаемся в заложников собственной потребительской необузданности – еще одного, возможно, самого коварного врага свободы.
Морально-психологический. Стало общим местом говорить об особой эмоциональности россиян. И это справедливо. Там, где логическое и прагматическое начала ослаблены, бал правят эмоции. Но дело не только в этом: государство, ограничивая возможности самовыражения человека, тем самым «перенапрягало» его нравственную сферу. Более того, отвергая со времен Петра I традиционные обычаи и ритуалы, власть упорно навязывала народу «чужих» идолов, отравляя его душу. Феномен великой русской литературы XIX – начала ХХ в. поэтому не случаен – он связан с императивом моральной переоценки действительности, ставшим уже неведомым для западного общества. Этим Россия обязана интеллигенции, которая (по понятиям государства) представляла собой «лишний», принципиально ненужный социальный слой. Отсюда гонения на нее со стороны самодержавной власти, а затем и попытка большевиков создать вместо нее свою («рабоче-крестьянскую») служилую интеллигенцию. И тем не менее образованные люди по-прежнему составляли единственный слой, который пытался мыслить рационально. Другое дело, что они вполне некритично и излишне эмоционально ориентировались при этом на те или иные западные образцы.
Как бы то ни было, интеллигенция оставалась, в сущности, тем же субкультурным продуктом, что и бюрократия, европеизированная (пусть чисто внешне) Петром I. Рациональное начало разлагало чиновничий слой (отсюда распространение масонства), а тем временем сознание интеллигенции деформировалось моральным ригоризмом (феномен народничества). Разум оказывался в неладах с чувством: эмоции рождали «теории»; теории приобретали характер нравственных императивов. В том и другом случаях культурные верхи отчуждались от массы населения (вопреди подчас искреннему стремлению сблизиться с ним), что придавало эмоциональному перенапряжению системный характер. «Казенная» церковь с ее «недоразвитой» приходской жизнью, разумеется, не могла сдержать нараставший кризис.
В этих условиях художественная литература (а в широком смысле область творческого вымысла) стала объектом почти религиозного поклонения со стороны интеллигенции. «Толстой и Чехов, Достоевский – надрыв и смута наших дней», – писал М. Волошин в 1919 г. (3). Разрыв между реальным, воображаемым и символичным расширялся, создавая ситуацию непредсказуемости. А последняя, между прочим, – главный душитель ростков свободы. Такое положение при господстве авторитарного архетипа властвования может повторяться до бесконечности.
Парадоксально, но в России упорно не замечают, что государственность никогда не ощущала себя достаточно сильной, зато всегда стремилась казаться таковой. Со своей стороны, интеллигенция, отчаянно пытаясь найти путь к народу, со второй половины ХIХ в. вольно или невольно стала толкать его на бунт. Взаимообман вел к взаимопровоцированию. Это и породило революционный кризис начала ХХ в. Впрочем, по своему психологическому наполнению он был вполне изоморфен Смуте XVII в., а равно и новейшей «революции» конца ХХ в. И эта последняя смута – пусть кто-то по недомыслию именует ее реформами, «транзитом» или стабилизацией – продолжается.
В горбачевской перестройке не было ничего принципиально нового сравнительно с политико-модернизационными потугами начала ХХ в. Не случайно и то, что перестройка заметнее всего проявила себя в «гласности» – людям попросту надо было выговориться, об остальном они почти не задумывались. При этом довлело «моральное» осуждение прошлой истории и нынешней власти. Преобладание эмоций над правом позволяет подбираться к власти диктаторам. Путин не случайно так же вкрадчиво, но уверенно двинулся к авторитаризму, как Сталин во времена нэпа. Первая личина тиранов почти всегда демократическая – это было известно со времен Сократа.
В России эмоционально заквашенная «смута в умах» имеет куда большее значение, чем «политические» кризисы. Общественные психозы во имя освобождения от какого бы то ни было «засилья» по своей охлократической природе не могут породить ничего, кроме худшего воплощения несвободы. И этот соблазн особенно велик в критических ситуациях. В свое время А. Тойнби заметил: «Если и немцам не удалось устоять перед Гитлером в ХХ в. христианской веры, то могут ли другие народы мира – христиане, мусульмане, евреи, буддисты или индусы – быть уверенными, что в один прекрасный день они не повторят опыта немцев..? Должно быть, существует нечто вроде первородного греха в человеческой натуре, к которому как к магниту притягиваются идеи Гитлера. Мораль заключается в том, что человеческая цивилизация никогда и нигде стопроцентно не защищена. Она всегда лишь тонкая корочка традиций над кипящей лавой пороков, в любой момент готовой вырваться на свободу. Цивилизацию никогда нельзя воспринимать как должное, цена за нее – вечная бдительность и непрерывные духовные усилия» (9, с. 274).
В России нет надзирателя над государством, а оно само способно лишь заставить одних бюрократов делать вид, что они следят за другими. И когда главный узурпатор свободы в лице государства предстает банкротом, бунт «бессмысленный и беспощадный» – этот апофеоз несвободы, порожденный стремлением к освобождению от власти, ставшей «чужой», – ставится в повестку дня. При этом лишний раз обнаруживается, что россиянин никогда не уважал свободы другого. Поэтому от русской смуты не приходится ничего ждать, кроме деспотии.
Следует учитывать и то, что русский крестьянин, этот носитель «национального духа», издавна привык придуриваться перед барином и/или перед властью. Со временем это выросло до «двоемыслия» и даже «двоедушия»: люди говорили и делали вовсе не то, о чем думали и чего им хотелось. Именно этот тотальный (само-)взаимообман доводит эмоциональное перенапряжение до критической точки. И тогда возникает соблазн «легких решений».
Бывают времена, когда рыхлое, не структурированное естественным путем, лишенное своих органичных институтов и ценностных ориентиров, «смущенное» социальное пространство уподобляется губке, впитывающей в себя не только достижения, но и отходы человеческой истории. Такое в истории России уже случалось. Трудно сказать, чего оставалось больше, но получалось «как всегда». Это связано с устойчивостью типа личности, не привычной к свободе и самостоятельному выбору. «В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства» (1), – заметил еще в 1905 г. М. Волошин. Вероятно, потому «усталый раб» Пушкин в конце жизни жаждал «покоя и воли». Создается ощущение, что это почти стандартная форма эскапизма от российской государственности и производного от нее «общества». Г. Федотов некогда писал, что воля торжествует или в уходе от общества, или в насилии над людьми (10, с. 280).
Увы, сегодня мы стоим на грани повторения невыученных уроков прошлого.
Сумерки свободы
Россию 1990-х годов трудно было назвать свободной. Наблюдалось лишь ослабление патерналистских и деспотических интенций государственности, вызвавшее выплеск охлократии. В 2000-е годы государство вновь взяло реванш: отмена выборов губернаторов, голосование только по партийным спискам, повышение процентного барьера для партий на выборах в парламент, наконец, удлинение президентского и депутатского сроков. Апофеозом «демократии деспотов» стало заявление Путина о том, что они с Медведевым давно договорились о президентской рокировке.
В результате в России в очередной раз было подорвано доверие к демократическим институтам и политическим партиям. Сегодня простые граждане опять вытеснены из сферы принятия решений. А это усиливает рост «фрустрационной агрессивности» в низах, с одной стороны, утверждение бюрократического цинизма в верхах – с другой. Реальный итог – стилизация авторитаризма под демократию и модернизацию.
С чем связаны перспективы демократии, т. е. творческой свободы, в таких условиях? Увы, первоочередное значение приобретает способность и готовность самой власти «поумнеть», а вслед за тем отыскать оптимальную технологию демократизации. Но, учитывая предыдущий опыт, вряд ли стоит на это надеяться. В демократической парадигме – примате закона и прав граждан – сила государства. Однако в российской политической традиции укоренилось нечто противоположное: человек для государства. Поэтому люди слишком легко разменивают свои свободы на государственные гарантии, пребывая в наивном убеждении, что власть «может все». Фактически из этого рождается антипод настоящему социальному государству.
Ориентировано ли российское общество в демократическом направлении? Базовой жизненной ценностью советских людей (вопреки ценностям, навязываемым государством) еще в годы застоя стало материальное благосостояние. На рубеже 1980–1990-х годов идеалы (или иллюзии) свободы могли создать лишь видимость сплочения граждан, которые на деле жаждали равенства в распределении и достатке. Утратившие эти архаичные (советские) представления россияне по-прежнему не представляют собой ни нации, ни даже общества в западном понимании этого слова – существует население, но нет граждан. При этом ни власть, ни россияне не понимают – в основе любой системы лежит труд, а не распределение и/или проедание неведомых богатств, что делает ситуацию безвыходной. Это в очередной раз чревато социальным хаосом, а не политической революцией, устремленной к идеалу свободы.
Путинская «стабильность» породила у россиян ложное ощущение, что, несмотря на развал и застой в каждой конкретной области, страна в целом движется в правильном направлении. Всякие трудности воспринимаются как кратковременные, которые власть поможет перетерпеть. Такое состояние умов вновь чревато разочарованиями, перерастающими в отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что в условиях свободной миграции населения диссипативные личности группируют вокруг себя всевозможных маргиналов, провоцирующих этнические конфликты.
Может ли существовать подлинная свобода там, где власть не озабочена личным достоинством своих граждан? Где правительство не интересуется населением, а население равнодушно к тому, как власть принимает те или иные решения? Демократии не бывает там, где человек не верит, что от него что-то зависит. До тех пор пока государство не отделено от собственности, а его институты не поставлены под контроль общества, о расширении пространства свободы можно забыть.
Сегодняшняя светская власть одной рукой готова ввести преподавание закона Божия в школах, а другой терпит вакханалию вседозволенности в средствах массовой информации. Гулоса церкви не слышно. Кто же защитит человека – упорно верующего в справедливость – от такого издевательства над его правами? Специальное бюрократическое ведомство?
Что такое современная российская «свобода слова»? Это перемещение известного рода «кухонных» разговоров на телеэкран. Поневоле задумаешься: не являются ли инсценировки, подражательно именуемые ток-шоу, всего лишь одной из форм мониторинга (более эффективного, чем былые подслушки КГБ) общественных настроений? Давно уже нельзя и мечтать о том, чтобы произнести с телеэкрана то, что думаешь. Однако у зрителя возникает иллюзия, что «там» можно говорить все, что угодно. А если так, то мы вновь упираемся в тупик несвободы саморазвития.
Российская история – настоящий круговорот несвободы, подпитываемый отчаянным стремлением к воле. Это находило свое воплощение в бегстве от идола государственности. В онтологическом смысле это бегство от самого себя, от собственной «недееспособности».
Некогда Н.Е. Салтыков-Щедрин иронизировал над российским либералом, не понимающим, чего он на самом деле хочет: «…не то конституции, не то севрюжатины с хреном, не то кого-нибудь ободрать» (8, с. 580). Современный россиянин также не может понять, что важнее: научиться жить самостоятельно или довольствоваться жидкой дармовой похлебкой. Воспроизводится ситуация буриданова осла. Власть по недомыслию старается ее поддерживать. В результате инстинкт самосохранения встает на пути движения к свободе.
«Тупики» исторического существования – не новость для России. Увы, все они оборачивались охлократией, которая заводила страну в диктатуру. Можно ли выбраться из избитой колеи российского блуждания в пространстве и времени? Безусловно. Но решение лежит не в правовой и не в административной плоскости. Не стоит особенно рассчитывать и на агрессивные формы властного культуртрегерства – они дают ложный эффект. Все человеческие проблемы решаются на одном пути – образовательном. Это, в свою очередь, предполагает решительное избавление от патерналистских иллюзий. Только на этой основе и можно говорить о продуманных технологиях продвижения к такому общественному устройству, которое стало бы естественным гарантом прав и свобод личности, а не механизмом безмозглой эксплуатации ее государством.
Список литературы
1. Волошин М. Пророки и мстители: Предвестия Великой революции // Перевал. – М., 1906. – № 2. – С. 12–27. – Режим доступа: http://az.lib.ru/w/woloshin_m_a/text_0320. shtml
2. Волошин М. Северовосток. – Режим доступа: http://voloshin.ouc.ru/severovostok.html
3. Волошин М. «Я был, я есмь…»: Поэзия. Проза. Статьи. Дневники.– СПб.: Росток, 2007. – 638 с.
4. Герцен А.И. К развитию революционных идей в России. – М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 132 с. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gercen_a_1/text_0360.shtml
5. Гиппиус З. Опыт свободы. – М.: Панорама, 1996. – 528 с. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0500.shtml
6. Кафка Ф. Отчет для академии // Кафка Ф. Избранное. – СПб.: Кристалл, 1999. – С. 617– 628. – Режим доступа: http://www.kafka.ru/rassakasy/read/otchet
7. Пильняк Б. Голый год // Пильняк Б. Собр. соч.: в 6-ти т. – М.: Терра-Книжный клуб, 2003. – Т. 1. – С. 40–41.
8. Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20-ти т. – М.: Худ. лит., 1965. – Т. 12. – 750 с.
9. Тойнби А. Лекция, прочитанная Гитлером // Диалог со временем. – М., 2004. – № 12. – С. 259–276.
10. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – СПб.: «София», 1992. – Т. 2. – 352 с.
11. Хайек Ф. фон. Судьбы либерализма в ХХ веке. – М.: Челябинск: Мысль, ИРИСЭН, 2009. – 337 с. Режим доступа: http://www.libedu.ru/haiek_fridrich_avgust/p/18/sudby_liberalisma.html
12. Штирнер М. Единственный и его собственность. – СПб.: Азбука классика, 2001. – 259 с. – Режим доступа: http://avtonom.org/old/lib/theory/stirner/the_one_and_its_ego.html
Возможности и реальности примирения России и Европы[14 - Статья основана на материалах выступлений на XXI Экономическом форуме «Европейские дилеммы: партнерство или соперничество», организованном варшавским Институтом восточных исследований (7–9 сентября 2011 г., Крыница-Здруй, Польша).]
Ю.Н. Афанасьев