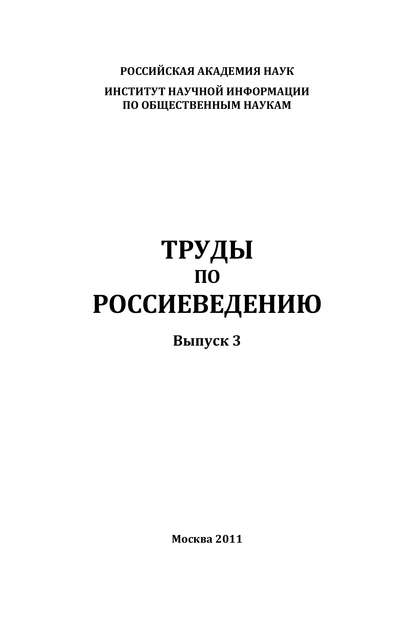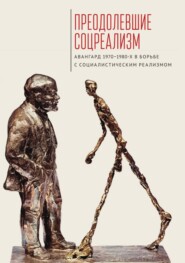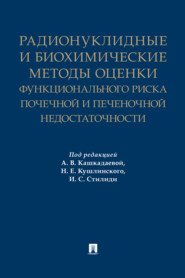По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Труды по россиеведению. Выпуск 3
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В мифологии русского национального характера понятия «свобода» и «вольность/воля» занимают едва ли не столь же почетное место, как «соборность», «духовность», «щедрость» и некоторые иные абстрактные понятия, в отличие от «свободы», не имеющие, впрочем, юридического основания. Свободолюбие, как считается, искони присуще русскому человеку, чему, как опять же принято считать, не могли не способствовать бескрайние просторы среды его обитания (см.: 10; 13; 15). Подобные образы национальной мифологии находятся в резком противоречии с историческими реалиями или по крайней мере с представлениями о них в исторической науке. Большинство ученых сходятся во мнении, что несвобода была присуща русскому обществу на всех этапах истории России гораздо в большей степени, чем свобода, хотя, например, точного, разделяемого всеми определения характера Московского государства XV–XVII вв. в историографии не существует, а о сути политической власти в имперский период ведутся ожесточенные споры. И дело не только в том, что до 1861 г. основная масса населения находилась в крепостной зависимости, но и в том, что, как принято считать, несвободны были и все остальные слои русского социума, гражданского общества в дореволюционной России так и не сложилось, а гражданские права были впервые гарантированы лишь Манифестом 17 октября 1905 г.
Современная историография о соотношении понятий «воля/вольность» и «свобода»
Впрочем, в России последних лет наблюдается тенденция представить отечественную историю как «нормальную» на том основании, например, что ужасы опричнины Ивана Грозного не идут ни в какое сравнение с кошмарами испанской инквизиции, а крепостное право было отменено на два года раньше, чем рабство в США[16 - Примечательно, что подобные рассуждения можно обнаружить у таких разных авторов, как С. Кара-Мурза (см.: 8) и В. Аксючиц (см.: 1).]. В то же время и в западной историографии России, в первую очередь опять же в США, появилась своего рода ревизионистская концепция, поставившая под сомнение всемогущество русского государства на разных этапах его существования и, в частности, его способность контролировать все сферы жизни своих подданных[17 - Наиболее характерный пример – исследование Н. Коллмана (см.: 20). Противоположная, традиционная линия новейшей западной историографии представлена работами М. По (см.: 21).]. И если аргументы первой группы находятся преимущественно за рамками научного дискурса, то основанные на эмпирическом материале исследования западных коллег, предлагающие альтернативную доминирующей в западной историографии точку зрения, игнорировать, конечно же, невозможно. Эти исследования показывают, что, с одной стороны, в условиях ограниченности ресурсов государства существовали неконтролируемые им и весьма значимые пространства личной свободы, а с другой – в силу той же ограниченности государство старалось поддерживать своего рода консенсус между отдельными группами населения, которые были далеко не так бесправны, как принято считать. Причем, правами обладали все слои населения – от высших до низших – и это делало их частью единого целого.
Подобные попытки пересмотра и переосмысления привычных историографических штампов находятся в русле характерного для современной исторической науки стремления понять прошлое через его же, прошлого, реалии и категории, всячески избегая модернизации смысла используемых понятий. Применительно к теме данной статьи очевидно, что если в современном нам обществе степень личной свободы определяется фиксацией гражданских прав в законах, имеющих, как правило, достаточно четкие дефиниции, а также тем, как они исполняются, то в отдаленном прошлом действовали другие механизмы, создававшие иную социальную реальность. Собственно, Россия, в частности в раннее Новое время, была не хуже и не лучше своих западноевропейских современников. Она была попросту иной, а потому к ней неприменим привычный понятийно-категориальный аппарат, используемый для характеристики государства и общества того же времени в Англии или во Франции. Это один из основных тезисов упомянутой выше ревизионистской концепции современной западной историографии[18 - Убедительность, перспективность и научная обоснованность подобного подхода не вызывает сомнений. Однако он, на мой взгляд, порождает и ряд методологических проблем, в частности, ставя под вопрос возможность компаративных исследований и в принципе каких-либо оценочных суждений.].
Попытка преодоления противоречия между двумя полюсами западной историографии представлена в статье В. Кивелсон с характерным названием «“Гражданство”: Права без свободы» (19). Используя принятую дефиницию понятия гражданство, автор доказывает, что подданные московских царей в XVI–XVII вв. обладали практически всем набором прав и возможностей, описываемых этим понятием, но при этом у них не было свободы. Кивелсон полагает, что в Московской Руси «во многих (хотя и не во всех) контекстах слово свобода имело сильную негативную коннотацию» и, будучи «важным элементом московского политического дискурса», ассоциировалось с беспорядком, нарушением покоя, разрушительной силой, а также, что очень важно, с индивидуализмом, в то время как московское общество было основано на коллективизме. «Московиты, – пишет Кивелсон, – просили о коллективной защите, а не о личных правах, и стремились быть зависимыми от царя – его холопами или сиротами – в большей степени, чем свободными гражданами. <…> Они жили в рамках культуры, в которой свобода была скорее отрицательной ценностью» (19, с. 484, 487, 488).
Предлагаемый В. Кивелсон путь примирения двух полярных точек зрения, несомненно, заслуживает внимания, однако показательно, что, постулируя отношение русских людей к свободе, она не подкрепляет свои утверждения ссылками на эмпирический материал. Между тем понятия свобода/несвобода – это тоже понятия исторические, их смысловое наполнение менялось с течением времени, причем не только у русских, но и у англичан, с которыми Кивелсон их сравнивает. Одно из направлений изучения этой проблематики, очевидно, находится в плоскости истории понятий. Особость ситуации придает то обстоятельство, что помимо слова свобода и всех от него производных в русском языке имеются слова воля и вольность.
Рассуждения об их соотношении в изобилии встречаются в сочинениях представителей русской общественной мысли, причем воля/вольность, как правило, трактуется как нечто исконно русское, а свобода – как понятие скорее чужеродное, в большей степени юридическое, связанное с правами человека и, соответственно, имеющее западное происхождение. В действительности же слова свобода и воля имеют древнерусское происхождение. При этом, если слова, однозвучные русской свободе, мы находим преимущественно в славянских языках и языках балтийской группы, то аналоги воли обнаруживаются и в языках западноевропейских народов (16, т. 1, с. 347–348; т. 3, с. 582–583). А.М. Песков отмечает, что «исходное слово – воля – кроме синонимичности слову свобода имеет и другие значения: желание, власть, способность или возможность осуществить свои желания, демонстрировать свою власть. Подобное значение имеют в других европейских языках слова, этимологически родственные русской воле: volo, volui (лат.) – желать, хотеть; volontй (франц.) – воля, желание; will (англ.), Wille (нем.) – воля» (14).
Однако одновременно слово воля парадоксальным образом воспринимается как нечто символизирующее русский национальный дух и потому непереводимое ни на один другой язык, в то время как свобода «переводится на все языки и всеми народами понимается». Автору этого утверждения филологу А.Г. Лисицыну принадлежит диссертационное исследование «Анализ концепта свобода-воля-вольность в русском языке». По его мнению, все дело в «ограниченности свободы законом и внезаконности воли» (9). Развивая эту мысль, можно прийти к выводу, что русский национальный дух характеризуется неприятием законности. Ничего неожиданного в этом нет, если не считать того, что упомянутые выше работы западных коллег, настаивающих на наличии у московитов гражданских прав, основываются на наблюдениях за функционированием права и работой судебной системы.
По мнению Лисицына, «расхождение слов свобода и воля с точки зрения социальных сфер употребления» начинается после установления крепостного права. С этого времени слово воля обозначает утраченное и потому желанное народное право. Слово широко употребляется в речи простого народа. Понятие же личной свободы актуально лишь «для власть имущих». При этом «слово свобода… не сразу становится основным именем концепта в дворянской культуре. В XVIII веке наблюдается конкуренция имен свобода и вольность. Концепт свобода приобретает общественно-политический смысл. Происходит это в процессе общего оформления общественно-политической лексики в XVIII веке и связано с развитием идей Просвещения в России» (9)[19 - Примерно об этом же со ссылкой на работу А.Д. Шмелева (17) пишет и А.М. Песков (см.: 14).].
«Воля» и «освобождение» в Соборном уложении 1649 г
Если следовать этой логике и исходить из того, что институт крепостного права сложился к концу XVI в., то «внезаконность» воли, как кажется, должна была бы привести к исчезновению этого слова из юридического языка. Однако обращение к Соборному уложению 1649 г. показывает, что это не так. Слово воля встречается здесь в главе ХХ «Суд о холопех». Так, ст. 15 гласит:
«А будет кого судом Божиим не станет скорою смертию, а после его останутся кабалные люди, а жена и дети, или братия того умершаго тех кабалных людей от себя отпустити не похотят, и отпускных им не дадут, и те люди о том учнут на них бити челом государю, и по тому их челобитью, сыскав про то допряма, что они у боярина своего служили по кабалному, а не по старинному холопъству, и их того умершаго боярина от жены и от детей и от братии свободить, и дати им волю. И кому они учнут с воли бити челом в холопъство, и тем людем на них дати кабалы, по сыску, и без отпускных» (здесь и далее выделено мной. – А.К.) (12, с. 210–211).
Аналогичные сочетания производных от слов свобода и воля находим в ст. 47 («А кто на холопа возьмет кабалу отец с сыном, или брат з братом или дядя с племянником вместе, и учнут на тех людех по тем кабалам холопства искати, и тем исцом по таким кабалам отказывати, и таких людей, на кого они такия кабалы в суде положат, от них свободити на волю…») и 64 («Да будет на тех спорных людей в кабалных записных книгах кабалы в записке объявятся, а иманы на них те кабалы имянем того, кто их в духовной напишет жене и детем, и тех холопей того умершаго от жены и от детей свободити, и дать им волю») (12, с. 216, 218).
В приведенных примерах воля – это состояние отсутствия юридически оформленной зависимости. Обретение воли осуществляется через освобождение. Однако не всякая юридическая зависимость влечет за собой неволю. Так, в ст. 33 главы XIX «О посадских людех» говорится:
«А которые московские и городовые тяглые люди жили на тягле сами, или тяглых отцов дети, а были в полону в разных местех, и тем жити, где кто похочет, для того, что они от тягла свободилися полоном» (12, с. 206–207).
В данном случае речь не о личной, полной зависимости, или, выражаясь юридическим языком, отсутствии правосубъектности, которое предполагало состояние холопства, но лишь об определенном виде обусловленной социальным статусом повинности, несение которой не означает неволи. Одновременно важно заметить, что производные от слова свобода употреблены здесь именно в связи с актами юридической зависимости, т.е. в сугубо правовом контексте.
Однако в той же главе ХХ Соборного уложения встречается и пример иного рода (ст. 100):
«А которые купленые люди татаровя новокрещеные останутся после кого умершаго, а духовных после умерших не останется, или духовныя и останутся, да тех новокрещенов в тех духовных никому в надел будет не написано, а как они куплены, и в купчих про них того будет не написано же, что их тот, после кого они останутся, купил себе и жене своей и де-тем, а жены или дети тех умерших на волю их не отпустят для того, что они их купленые люди, а те купленые люди учнут бити челом государю о них о свободе потому, что они им в духовных и в купчих не написаны, и тем купленным людем по смерти тех людей, кто их купит, быти у жон их и у детей…» (12, с. 226).
Этот пример интересен тем, что, на первый взгляд, существительное свобода употреблено здесь как синоним воли. В действительности же это не существительное, но редуцированная глагольная форма, и соответствующий текст может быть прочитан, как бити челом государю о них об освобождении.
Примечательно, что в приведенных примерах понятия воли/неволи употреблены исключительно применительно к холопам, т.е. к той категории населения, чье положение, согласно утверждениям западных историков – сторонников представлений о несвободе как характерной черте всей русской истории, было аналогом рабства (см.: 18).
Категории свободы и вольности в законодательстве Петра I и его наследников
Полсотни лет спустя в одном из ранних указов Петра I мы вновь встречаемся с подобным словосочетанием, но уже в ином контексте:
«По указу Великого Государя велено свободных людей и крестьян, которые будут от помещиков и вотчинников своих свобождены на волю, и которым доведется отпускныя дать из приказу Холопья суда, отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в солдаты, и тех имать в солдаты»[20 - Указ о наборе в солдаты вольноопределяющихся 23 декабря 1700 г. // ПСЗРИ [Полное собрание законов Российской Империи]. – СПб., 1830. – Т. 4. – № 1820. – С. 93.].
В данном случае речь идет уже не о холопах, а о крестьянах. Это заставляет предположить, что спустя полвека крепостное состояние также стало восприниматься как полная личная зависимость, предполагающая потерю правосубъектности, и связываться с понятиями воли и отсутствия таковой. При этом стоит заметить: согласно тому же указу, холопы фактически имели право записываться в солдаты без разрешения их хозяев, в то время как крепостных крестьян было велено возвращать помещикам, которые взамен должны были поставлять в армию даточных людей из дворовых.
С точки зрения интересующей нас темы примечателен также петровский Манифест о вызове иностранцев в Россию 1702 г., особенность которого в том, что он был адресован именно иностранцам. В тексте этого документа неоднократно встречаются слово свобода, производные от него и слово вольность:
«И понеже здесь в столице нашей уже введено свободное отправление богослужения всех других, хотя с нашею церковию несогласных христианских сект, того ради и оное сим вновь подтверждается…
И буде при наших армиях отдельные офицеры или же целые корпуса, состоящие из полков и рот обретаются, при коих находятся проповедники, то и они имеют без сомнения пользоваться всеми теми выгодами, преимуществами и вольностями, каковыя мы даровали таковым церквам здесь в столице, в Архангельске и в иных местах…
А дабы все те, которые в нашу службу вступят, уверены были, что они не будут лишены свободы оставлять нашу службу, того ради мы их сим обнадеживаем…» (7, с. 535–537).
Особенно примечательны два последних примера. В обоих случаях речь по существу идет о правах – неправославных проповедников и военнослужащих-иностранцев – и при этом слова вольности и свобода употреблены фактически как синонимы. Применительно к вольности подобное словоупотребление прямо противоречит отмеченному А.Г. Лисицыным одному из значений этого слова как «недозволенности, преступающей определенные нормы», в чем, по его мнению, и выражена «внезаконность» воли (9). Слово свобода как обозначение права можно обнаружить и в других законодательных актах петровского времени.
Так, к примеру, в Указе «Об отмене рядных и сговорных записей» 1702 г. читаем:
«А буде кто дочь или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова сговорит замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за шесть недель, и буде обручатся, а после сговору и обрученья жених невесты взять не похочет или невеста за жениха замуж идти не по-хочет же, и в том быть свободе, по правильному Святых Отец разсуждению…» (7, с. 718).
В Воинском артикуле 1716 г.:
«…Таковому обиженному свободно есть о понесенном своем безчестии и несправедливости Его Величеству, или в ином пристойном месте учтиво жалобу свою принесть, и тамо о сатисфакции и удовольствовании искать и ожидать оныя» (артикул 24).
«Хотя он, сверх своей очереди, иногда с досады от своего офицера на работу командирован, однако ж не надлежит от оной укрываться и отбыть, но надобно оное исправить. А по окончании той работы свободно есть ему о неправом командировании жалобу принесть, что и во всех других командированиях смотреть надобно» (артикул 52) (11, с. 84, 90).
В Генеральном регламенте 1720 г.:
«Такоже каждому члену свобода даетца, ежели голос его принят не будет, а он ко интересу Его Царского Величества благооснованным, и полезным быть разсудит чрез нотариуса в протокол велит записать…» (11, с. 172).
Вместе с тем социальная политика Петра объективно, как известно, была направлена на усиление несвободы всех слоев населения. Так, характеризуя указ 1721 г., разрешавший мануфактуристам покупать крестьян для работы на фабриках и заводах, Е.В. Анисимов отмечает, что «были резко сужены возможности найма на предприятия свободных людей: состояние вольного, не связанного тяглом, службой или крепостью человека было признано криминальным» (2, с. 294). Окончательный удар по этой категории населения, по его мнению, был нанесен уже аннинским Указом от 7 января 1736 г., закрепившим за владельцами всех работавших в данный момент на предприятиях рабочих. Согласно Указу, принимать на работу разрешалось только «вольных с пашпортами»[21 - ПСЗРИ (Первое собрание). – СПб., 1830. – Т. 9. – № 6858. – С. 709.]. Анисимов также обращает внимание на Указ Анны Иоанновны о судьбе кн. А.А. Черкасского, в котором предписывалось: «Из Сибири его свободить, а жить ему в деревнях своих свободно без выезда». «Вот так, – иронизирует историк, – которое уже столетие, и живем мы – “вольными с паспортами” и “свободными без выезда”» (2, с. 295).
Действительно, образный язык аннинских указов как нельзя лучше описывает ситуацию многовековой несвободы русского человека, но несвободы в современном ее понимании. С точки зрения законодателя первой половины XVIII в., наличие паспорта, очевидно, эту свободу не только не ограничивало, но, напротив, давало право найма на работу, и, значит, состояние вольности по-прежнему ассоциировалось с правами.
Для того чтобы выяснить, изменилось ли значение категорий свободы и вольности в эпоху Просвещения, стоит обратиться к текстам, вышедшим из-под пера Екатерины II, и в первую очередь к ее Наказу Уложенной комиссии – своего рода политическому кредо императрицы. Однако прежде необходимо упомянуть о законодательном акте ее предшественника, императора Петра III, в котором оба интересующие нас слова фигурируют в единой связке. Речь идет о знаменитом Манифесте «О вольности дворянства» 18 февраля 1762 г. В тексте его говорится:
«…Жалуем всему Российскому благородному Дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать в Нашей Империи, так и в прочих Европейских союзных Нам Державах…»[22 - Там же. – Т. 15. – № 11 444. – С. 913.].
Сама эта формулировка указывает на то, что, с точки зрения законодателя, до появления данного Манифеста дворянство вольностью не обладало, и, следовательно, составитель этого документа, кто бы он ни был, еще не рассматривал ее в духе концепции Просвещения как естественное право человека. А раз это право не естественное, не данное от рождения, то, значит, оно может быть пожаловано монархом. Но для чего потребовалось ставить в один ряд слова вольность и свобода? В качестве гипотезы можно предположить, что мы имеем дело с не слишком удачным грамматическим оборотом и читать процитированные слова надо следующим образом: вольность и свободу (т.е. право) службу продолжать.
Екатерининский Наказ о свободе и о вольности/неволе
На страницах Наказа Екатерины II и слово свобода, и слово вольность встречаются неоднократно, однако с разной частотой. Если слова с морфемой свобод употреблены 15 раз, то вольность – 35 раз. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, какое в принципе значение имел данный концепт для политической доктрины Екатерины, основанной на идеях Просвещения, а с другой – о том, что явное предпочтение по-прежнему отдавалось слову вольность. При этом надо иметь в виду, что Наказ первоначально был написан по-французски и затем переведен на русский язык Г.В. Козицким, С.М. Козьминым и Н.Н. Мотонисом, хотя не вызывает сомнений, что Екатерина этот перевод прочитала и согласилась с принятым в нем словоупотреблением. Одновременно с этим от Наказа, который, в сущности, был первым русским текстом правового характера и в котором предлагалась трактовка политической свободы, трудно ожидать полной терминологической ясности.
В Наказе слова с морфемой свобод употребляются в нескольких смыслах. Во-первых, это лишение личной свободы посредством заключения под стражу и тюремного заключения:
«Но ежели законодательная власть мнит себя быти в опасности по некоему тайному заговору противу Государства или Государя, <…> то она может <…> дозволити власти, по законам исполняющей, под стражу брать подозрительных граждан, которые не для иного чего теряют свою свободу на время, как только чтоб сохранить оную невредиму навсегда» (ст. 136).
«…Людей, кои порук по себе сыскать не могут, законы во всех землях лишают свободы, покамест общая или частная безопасность того требует» (ст. 137).
«Тот погрешит против безопасности личной каждого гражданина, кто правительству, долженствующему исполнять по законам и имеющему власть сажать в тюрьму гражданина, дозволит отымать у одного свободу под видом каким маловажным, а другого оставляти свободным, несмотря на знаки преступления самые ясные» (ст. 160).
«Быть под стражею не должно признавать за наказание, но за средство хранить опасно особу обвиняемого, которое хранение обнадеживает его вместе и о свободе, когда он невиновен» (ст. 172).
«Смерть злодея слабее может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного своей свободы для того, чтобы наградить работою своею, чрез всю его жизнь продолжающеюся, вред, им сделанный обществу» (ст. 212)[23 - Здесь и далее Наказ Екатерины II цит. по: 5, с. 115–189.].
Другое встречающееся значение – это уже знакомое нам по более ранним законодательным актам освобождение от личной зависимости, предполагающей потерю правосубъектности. В этом смысле слова с морфемой свобод употреблены дважды и прежде всего в знаменитой ст. 260 главы XI, где речь идет о рабстве, но, как было понятно всем современникам Екатерины, в действительности – о крепостном праве: