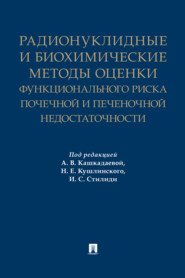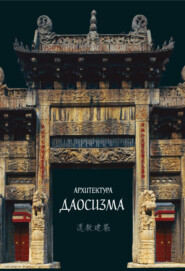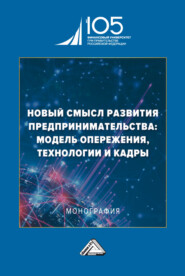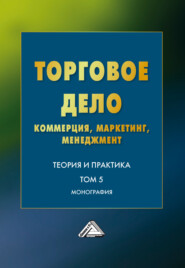По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Комментарии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ерунда какая-то. Этого не бывает. А когда стало понятно, что этого не может быть никогда, то ощущение ямы или отсутствия ямы сменилось благодарностью судьбе за дар многолетней дружбы с гением. Аумереть у него не получится, ведь все наше пространство резонирует его жизнью, и, похоже, это навсегда. Жаль только, что никогда мы не сможем продолжить наш неразрешимый спор о кошках и собаках, станцевать наш фирменный танец самцов, или обсудить какую-нибудь фигуру интуиции. Надеюсь, что там, где он сейчас, ему будет лучше, чем было здесь. Хотя, и здесь ему было неплохо.
Вначале Сынтик был Рейдиком. Стихов Рейдик не писал, Рейдик паял усилитель.
Мы все тогда паяли усилители, которые, как правило, взрывались. Его, кажется, тоже взорвался. Нашим излюбленным развлечением было сбрасывание с 4 этажа школы презервативов, в которые нам удавалось налить литров 15 воды. Дело это было непростое и соборное. Требовалось из множества ладоней грамотно составить ложе для сосуда и донести его до окна. Малейшая неточность, и сосуд лопался в наших руках. При правильно рассчитанной траектории удар об асфальт был такой силы, что вздрагивала вся школа. Здесь Рейдик был главным экспертом, он точнее всех чувствовал этот полет и почти никогда не ошибался.
Искусствами он занимался на уроках: лепил из пластилина дистрофиков, они отличались весьма длинным туловищем, длинными руками и короткими ногами. Было важно, чтобы, когда он сидел и стоял, его высота не менялась. Другой его темой было житие Павлика Морозова. Помню сюжеты: «Павлик притаился», «Павлик задумался» и – самый любимый – «Павлик закладывает папу». Был еще один, навеянный классикой персонаж – студент-заочник Нехлюев, но его я плохо помню. Значительно позже появился авиатор Зибердаух, но это уже были слова.
В нашем классе учился сумрачный Шитик, он никогда не моргал и всегда молча пытался произнести какое-то слово. Однажды, классе в пятом, когда мы собирали металлолом, нам вместе пришлось тащить какую-то трубу. Это нас сблизило, и он поделился со мной своими откровениями. Суть с том, что, если долго повторять любое слово, то его смысл разваливается, но во рту появляется свой, особый для каждого слова вкус. Этот вкус и есть то, что это слово ловит в пространстве многочисленных признаков явления, он есть его суть.
Года через 2 или 3 он начал давать всем имена. По каким-то своим алгоритмам Шитик проделывал сложные манипуляции с фамилиями или с какими-то другими словами, которые, по его мнению, были связаны с человеком. После нескольких попыток он произносил это имя, которое никто не мог повторить. Дело в том, что букв в его алфавите было на порядок больше, чем в обычном, причем каждая из них раскладывалась в свой алфавит. Но, так как от его имен уже никуда нельзя было деться, их стали адаптировать под общедоступную артикуляцию. Шитик смотрел на это мрачно, молча и, как обычно, не моргая. Вскоре он куда-то исчез. По слухам, сначала спился, потом стал врачом, а потом как-то загадочно погиб.
Рейдика он назвал Сынтиком, а себя – Фатькой, при этом звук «Ф» следует произносить закусив нижнюю губу, звук «а» должен быть резким. При правильном произношении движение языка напоминает удар кнута по нижнему небу, первое «а» завершается щелчком.
В исходном звучании слова Сынтик между «н» и «т» было несколько вибрирующих звуков, а то, что стало «ы» напоминало цвет неба во время заката.
Вскоре Сынтику купили щенка овчарки, которого он назвал «Энди». Одновременно с Энди у него появился сборник стихов А.Вознесенского. Откуда он взялся, не помню. Было это в 69-м или в 70-м году.
Вероятно, мы с Зоей Степановной были его первой поэтической аудиторией.
Одно из самых замечательных мест в Донецке – Второй Ставок. Ставок – это в каком-то смысле – пруд, но это не пруд, это – ставок— место наших утренних прогулок. Мой дом был ближе к нему, поэтому каждое утро Сынтик с Энди вызывали нас с Зоей Степановной лаем и свистом. Зоя Степановна – черная кошка, названная в честь нашей учительницы по математике – дамы всеми нами уважаемой и абсолютно непоколебимой. Однажды, чтобы как-то ее достать, один наш троечник написал контрольную работу на обрывке газеты размером со спичечный коробок и сдал вместе со всеми. Зоя Степановна взяла лупу, подчеркнула ошибки и поставила ему обычную тройку. Вообще же в школу мы ходили с удовольствием, как в клуб.
Чтобы дойти до ставка, нужно было пересечь железную дорогу, по ней возили уголь на металлургический завод. Каждый раз, когда поблизости оказывался поезд, Сынтик приступал к своим поэтическим процедурам – командовал Энди: «Голос!». Энди начинал выть, Сын-тик принимал позу поэта и, стоя под грохочущим составом с антрацитом, перекрикивал все это:
Ракетодромами гремя
Дождями атомными рея
Плевало время на меня
Плюю на время.
Тогда же Сынтик начинал пробовать писать что-то свое, но, похоже, ничего из этого не оставил.
Местом наших вечерних прогулок был Хендрикс – так мы называли бульвар им. А.С. Пушкина. Дело в том, что в центре этого бульвара стоит бюст Пушкина, удивительно похожий на Джимми Хендрикса. А тогда А.С.Пушкин и Слава КПСС воспринимались, как близнецы-братья. Так что мы с удовольствием его переименовали. Вечером уже я заходил за Сынтиком и Энди. Во время одной из этих вечерних прогулок Сынтик создал образ отважного воздухоплавателя Зибердауха. Это уже были слова и редкостный артистизм.
Пробовать повторить что-либо за Сынтиком или даже изложить по-своему можно только по причине трогательной неадекватности. Очень странное впечатление производят на меня товарищи, которые бодро берутся читать его тексты с выражением. Выглядит это примерно так, что из любви, скажем, к Леонардо да Винчи нарисовать шариковой ручкой Монну Лизу и с большим чувством ее раскрасить.
Много житейских проблем помог решить Сынтику мыслитель, но как негодовал Сынтик, когда последний иллюстрировал свои думы его строками или трактовал его образы какими-нибудь троеперстиями.
В 1972 году мы ненадолго разъехались: сначала я – в Долгопрудный, а потом он – в Киев.
В 74-м мы уже совершали свои, почти ежедневные прогулки по Москве с той лишь разницей, что у него не было собаки, а мой кот прогуливался самостоятельно. Во время одной из этих прогулок мы нашли тот самый вход в 3 рубля[2 - Вид Большого каменного моста, запечатленный на советской трехрублевой купюре, – см. стихотворение Парщикова «Деньги» (Ред).].
Удивительным свойством поэзии Сынтика было то, что он ничего не придумывал, практически это был его дневник. Была еще одна загадка – я никак не мог понять, когда он писал, он то гулял, то визитировал, то сидел на работе. Застать его работающим мне никогда не удавалось, он всегда был свободен. Наверное, свобода и была его основной особенностью.
Александр Давыдов
Памяти Алеши
С Алешей мы познакомились как-то невзначай, наспех. Вскоре опять случайно встретились. Потом уже перезванивались и виделись часто. Но уже и в первый раз меня кольнуло предчувствие дружбы. На каком-то подспудном, химическом уровне. Притом, что мы с ним были очевидно непохожи, – и судьбой, и натурой, и художественными вкусами. Но именно такие случаи мне всегда и сулили дружбу, – если различья оказывались продуктивными, предполагавшими взаимопользу. С годами они все больше стирались. Мы оба менялись, возможно, и в результате общения, – но все равно оставался зазор, создававший почти незаметное напряжение в диалоге, куда, бывает, и просачивается истина. Тогда его стихи печатались скудно, я их почти не знал. Однако был о нем понаслышан. Газеты Парщикова исправно поносили, что само по себе вызывало сочувственный интерес. Тем более, что рядом с ним так же усердно полоскали имя моего прежнего сокурсника Вани Жданова.
Алешу я воспринял в первую очередь как человека формы. Это вызывало двойственное чувство. С одной стороны, в то бесформенное время неприкрытого содержания можно было эстетически оценить выверенность его любого жеста и слова. Но это ведь и отдавало нарочитостью, как у талантливого актера, который не всегда в ударе. Ну и, конечно тревога – что там за этой маской, образом. Не буду хвастать, что Алешу разгадал за два с лишним десятилетия нашей дружбы. Он так и остался артистичен, притом что его маска делалась все более человечной, избавляясь от подчас гротескных переборов эпохи его короткой, но звонкой славы, когда многим казалось, что Алеша суетен, одержим честолюбием. Но куда ж оно потом подевалось, в долгие годы кельнского затворничества? Сквозь ярко вымышленный образ поэта постепенно все верней просвечивал он сам, уж подлинный поэт по всей своей натуре, – если б даже не сочинил ни единого стихотворения.
Нет, Алеша не мистифицировал, а разыгрывал блестящий, с годами все более тонкий, спектакль общения. Бывало, во время наших застолий вдвоем, я осторожно допытывался: ну зачем играть то, что и так дано с избытком? Ответом на этот лишь намеченный вопрос служила очередная реплика из никогда не прерывавшегося действа. Стоит ли у прирожденного актера, в данном случае камерного жанра, выпытывать, зачем он актерствует? Конечно, если копнуть, то и у профессионального артиста в его лицедействе обнаружатся и самозащита личности, и недоверие к публике, вряд ли способной ее оценить саму по себе, но так же и расположенность к людям – стремленье их и ненавязчиво поучить, и развлечь.
Алеша творил свой образ, подчас утаивая именно то, что иные выпячивают. Но вот наступил миг, когда хочешь – не хочешь все маски долой, и в нем обнаружилось, как стержень характера, невероятное мужество пред лицом смертельной болезни. А ведь бывало, что куксился по каким-то пустякам.
Алешина несколько театральная манера многих сбивала с толку, иногда заслоняя его истинное своеобразие. Помню, как-то наш общий друг с легкой иронией привел Алешин ответ иностранному корреспонденту на вопрос о том, что его поразило во время первой поездки в Европу: «Организация пространства». По российским меркам конца 80-х это действительно могло выглядеть выпендрежем, – манерным словосочетанием. Но Парщиков к пространствам, включая ментальные, был и впрямь необычайно чуток, будучи сам их умелым организатором. Действительно, метафорист от Бога, умеющий отнюдь не только в стихе сопрягать вроде б несводимое, он и вокруг себя творил увлекательный, парадоксальный мир, с им самим предписанными, нет, скорей, выявленными, временем и расстояньями, возможность которых только им угадывалась. Вот уж был нескучный, праздничный человек, кроме тех редких, по крайней мере, со мной, случаев, когда чуть нудно погрязал в бытовухе. Кстати, круг его интересов и знаний был тоже своеобычен; не сводился к общеобязательному столично-интеллигентскому набору, а следовал лишь только ему ведомым ассоциациям. В чем-то неожиданные пробелы, но вдруг увлечение какой-то боковой ветвью цивилизации, вроде воздухоплаванья.
И в Алешиных стихах я сперва оценил именно форму. Если честно, не очень-то был уверен, есть ли в них что-либо еще, кроме изобретательной словесной вязи. Только постепенно понял, что хитросплетенья слов не стелятся по горизонтали, а протянуты и ввысь, и в глубь. Может быть, даже и без начального замысла автора, самого подчас блуждающего в этих лабиринтах, где метафора – его путеводная нить. Нет, конечно же, он был вовсе не плоский человек и в жизни, и в своих стихах, но, притом, что его поэзию слегка назойливо сопровождала приставка «мета», будто стеснявшийся метафизики.
Алеша, натура сокровенная и многогранная, для меня раскрывался с годами, ко мне обращенный своими лучшими гранями, – не ко всем так. Но вот, что я ощутил сразу, это его гениальное чутье на людей, притом еще уменье их также парадоксально сочетать, как метафоры, и, нисколь не ревнуя, радоваться завязавшимся уже помимо него отношениям. Знаем, как метко и верно из многих молодых поэтов он выбрал соратников, того же Ваню, тогда жителя отдаленного Барнаула. Сам-то я, можно сказать, в юности прошел мимо него, притом, что вполне оценил Ванины ранние стихи. Тогда я считал себя знатоком человеческих душ, но все ж у меня хватило чуткости тут признать Алешино превосходство. Сосватанные им знакомства бывали плодотворны, ветвились, пускали побеги, создавали целые направленья жизни. За то же Алеше благодарны очень многие. Кстати сказать, он мог вежливо, но решительно исключить кого-то из своего круга, отчего возникали обиды, иногда казавшиеся справедливыми.
Алешино чутье на людей я признавал безусловно, но вот к другим его ненавязчивым подсказкам, случалось, оставался глух. Может быть, потому что он бывал слишком даже деликатен – очень редко впрямую что-либо советовал; зато иногда просил совета, которому тогда уж и следовал, наверно, и в другом предполагая ту же словесную точность, которой сам отличался. Он-то уж вовсе не был суесловом, притом, что мастером устной новеллы, где достоверность не жизненная, а художественная. Но как раз для меня Алешино талантливое краснобайство иногда скрадывало неслучайность его продуманных, всегда ответственных высказываний. В результате, слишком часто, увы, пропускал мимо ушей его намеки, когда он исподволь старался обратить мое внимание на какую-то, к примеру, книгу или ж культурное событие. И вообще, теперь понимаю, что недостаточно ценил сведенья о современном Западе им доставляемые из самого центра Европы. Уверен, он сознавал свою культуртрегерскую миссию, готов был стать мостиком меж нами и Западом, почтенье к которому у него иногда выражалось комично: как-то, помню, приехав из Кельна, он вдруг обратился к московской ларечнице с утрированным заграничным акцентом, причем без тени юмора.
Восток-Запад – это был постоянный предмет наших с ним растянувшихся на годы прений, впрочем, всегда миролюбивых. Парщиков отстаивал Запад, я ж не без провокативности – Восток. После одной из таких дискуссий в Париже я даже вдруг разразился ироническим стишком (см. Дополнение 1), хотя с поэзий покончил еще лет в 15. Но ведь при своем страстном, подчас до наивности западничестве, Алеша не прижился в Стэнфорде, да и в Германии так и остался чужаком. И там, и там он был только проницательным зрителем с первого ряда. Не удивительно – и как личность, и по фактуре таланта он был очень российским явленьем. Даже точней, восточно-славянским, ибо в нем ощущался и знойный дух Украйны, но не как имперского захолустья, а будто б еще допетровской, где пролегала тропка из Европы в тогда полудикую Московию.
С его отъездом в Америку, а потом в Швейцарию наша дружба не прервалась, но стала пунктирной. От Алеши иногда приходили письма, на которые я не всегда отзывался, не доверяя аккуратности тогдашней российской почты. Во время его московских побывок мы, конечно, встречались, как например, в дни августовского путча, когда фактически и был задуман журнал «Комментарии» в его состоявшемся виде. А уже Алешина Германия, притом, что в ту пору нами были освоены современные средства связи, и не казалась разлукой. Постоянно переписывались, иногда назначали встречу где-нибудь в Европе – в Париже, Брюсселе, Висбадене, куда он приехал со своей женой Катей. Однажды я побывал у него в Кельне. Тогда Алеша обитал на самой окраине, в студии, жилье по германским меркам самого низшего разбора, для бедных. Но и тут с верно организованным пространством, вточь по мерке хозяина. Это были не лучшие годы его жизни, пора одиночества и растерянности. Мы вели с ним долгие, как никогда откровенные беседы, просиживая до рассвета за бутылкой виски на крошечном балкончике под нескончаемый грохот междугородних трамваев. Говорили обо всем, подробно и доверительно, но вот беда – о чем именно, не припомню. Даже думаю: случайно ли Алешина откровенность не оставила по себе воспоминаний или тут какой-то фокус, артистическая манипуляция? Однако уверен, что память все это сохранила в одном из своих тайников. Мне больше запомнилось необычайной выразительности мертвое дерево прямо перед его окном, все обвитое живым, зеленым вьюнком, будто отсылавшее к компеновской «Мадонне сухого дерева». Оно мне виделось относящимся к нему символом, аллегорией. Рядом с Алешей все обращалось в метафору. На зримое ж воплощение самой его знаменитой мы с Месяцем и Тавровым наткнулись по пути в Амстердам, где ему назначили, оказалось, последнюю встречу. В Генте, неподалеку от прославленного алтаря располагалась велосипедное кладбище с лихим переплеском чуть потускневших рулей.
Мне уже приходилось терять друзей, увы. Но с уходом Алеши будто возникла какая-то щемящая лакуна. Не только в моей душе, а как бы и в мире, ибо ушли в сокровенную даль творимые Алешей невиданные пространства. Без него теперь и Европа для меня мертва, разве что переплетенная вьюнком им оставленных метафор.
Дополнение 1
Моему другу Алексею Парщикову, как вывод из наших бесед об особенностях современного западноевропейского менталитета
Быть…
Б. Пастернак
Быть знаменитым некрасиво.
И одаренным – некрасиво.
И умным тоже некрасиво.
Красивым также некрасиво.
Красиво быть бездарным, глупым,
Безвестным, некрасивым, пошлым.
Ну, словом, вточь как мы с тобою.
10 марта – 7 апреля 2003,
Москва-Варшава-Париж-Рим-Париж-Варшава-Москва
P.S. Алешин ответ на это стихотворное послание был смиренным: «Все правильно: блаженны нищие духом».
Дополнение 2
Из Алешиных писем
Кто ж знал, что Алешины письма так скоро станут историей литературы? Конечно, теперь очень жалею, что все-таки недостаточно бережно их хранил, и датировка сохранилась лишь у некоторых. А ведь его письма драгоценны, всегда с полной интеллектуальной выкладкой. К эпистолярному жанру он вовсе не относился, как к второстепенному. Посланий от него множество было, переписываться мы начали еще когда компьютеры не понимали кириллицу, так что первые письма, в латинской транслитерации, нуждаются в обратном переводе. Только их мало осталось, да и многие последующие погибли, убитые вирусами и неоднократными чистками хард-диска. Но, слава Богу, десятки писем уцелели. В эту выборку я не включил бытовую тематику, слишком вольное обсуждение общих знакомых, а также Алешины отзывы о моих сочинениях, всегда доброжелательные. Тут одно исключение: захотелось дать самое последнее письмо. Столь высокую оценку моей повести (правда, недочитанной) я приписываю Алешиной душевной щедрости. На этой ноте дружественности и оборвалась наша переписка. «Пишу тебе…» – и все. Очень горько.
* * *
Узкому кругу русских поэтов Леонард Шварц стал известен в конце 90-х, когда с редакцией Талисман-Пресс он приехал в Москву, чтобы работать над грандиозной, уникальной антологией «На пересечении столетий» (Crossing Centuries), в которой американцы на свой лад представили современную русскую поэзию за последнюю четверть 20-го века. Шварца в Америке знали по книгам «Мерцание на грани вещей. Эссе о поэтике» и «Слова перед произнесением» как крайне неудобного автора для школьных классификаций. Он поэт со сложным психологическим пространством.