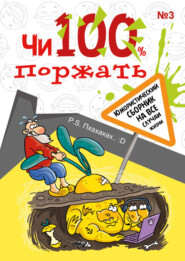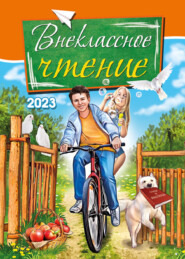По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия и идеология: от Маркса до постмодерна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
В литературе последних лет Ильенков и Мамардашвили обычно противопоставляются друг другу. На этом пути найдены увлекательнейшие объяснительные модели, и все-таки он представляется мне неправильным. На мой взгляд, сегодня как никогда важно обратное: поиски родства и единства во взглядах Эвальда и Мераба. Это особенно существенно, когда дело касается понимания идеологии.
1. Прежде всего хочу акцентировать, что оба они трактовали идеологию как социально взращенное ложное сознание, оба пользовались выражением «идеология» всегда и только как пейоративом (осудительно негативным понятием), сохраняя исходную семантику Маркса. И для Эвальда, и для Мераба выражение «научная идеология» (которое, кстати, у нас, в России, одним из первых употребил Ленин и которое по сей день гуляет из публикации в публикацию) было семантической нелепостью[31 - Курьезность такого словоупотребления стала хорошо заметной в 90-е гг. В 1997 г. я писал: «С поста господствующей идеологии марксизм в России ушел нераскритикованным. Его едва успели освистать вдогонку. Коммунистическая утопия лишилась доверия, но категории и объяснительные модели исторического материализма по-прежнему владеют умами. Понаблюдайте за понятием “идеология”, проследите какой кондовый ленинско-сталинский смысл сохраняется за ним даже в эталонно-демократических текстах. По-прежнему толкуют о “научной идеологии”, об “идеологической работе”, об “идеологическом вооружении” правового государства. По-прежнему религию называют идеологией (ту самую религию, в храмах которой уже выстаивают Пасху со свечами)» (Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения, недоделанные дела // Философия не кончается… Из истории отечественной философии. XX в.: в 2 кн. Кн. II: 60–80 гг. М., 1998. С. 117).]. Оба, как Ильенков, так и Мамардашвили, лингвистически утверждали тем самым, что философски грамотный анализ идеологий не может не быть критикой.
2. Мамардашвили сразу принял и в дальнейшем высоко ценил решительное различение «идеального» и «субъективно психического» и в 60-е гг. мог бы подписаться даже под нарочито упрощенными декларациями Ильенкова, типа: идеальное не в нас, не под нашей черепной коробкой, а всегда уже вне нас. Сам он подводил идеальные образы под предикат «объективные мыслительные формы».
Есть глубокое родство между «идеальным», как оно трактовалось Ильенковым, и «формой», как она осмыслялась в книге Мамардашвили «Форма и содержание мышления», увидевшей свет в 1968 г.
Форма у Мераба не просто являет содержание, она его объемлет, облекает, обрамляет. Форма, пишет он, держит содержание в качестве со-держимого (далее появляется вполне грузинская по ассоциациям метафора обруча, что скрепляет бочку с вином). В культуре форма имеет смысл нормативной рамки. И то же значение Ильенков в своих рассуждениях о культуре сообщает «идеальному».
Переходя к теме идеологий, Ильенков, как многие, конечно, помнят, разделяет идеальные образы на «идолы» и «идеалы». У Мамардашвили этому соответствует разделение «объективных мыслительных форм» на «нормальные» и «превратные», которые уже не держат содержание, а либо стесняют, либо распускают его. Самое широкое применение находит Марксово понятие «превращенных форм». Работая с ним, Мамардашвили вводит целый комплекс квазиструктуралистских констатаций, имеющих смысл только на проблемном поле идеологии. Это «предметные кажимости сознания», «устойчивые и неразложимые предметности сознания», «квазипредметные образования, в которых одно репрезентирует другое и выдает себя за другое», «натурализация знаков значения», «обратное присвоение сознанием проекций и объективаций, совершившихся независимо от индивида», «смещение социального значения на побочные, физические свойства предметного тела»[32 - Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 303, 305, 306.].
Таковы структурные характеристики стандартно-принудительных умственных образований. Так живут идолы из царства «объективных мыслительных форм».
3. Общим для Ильенкова и Мамардашвили было их пристальное внимание к категории «видимости» (Schein), которую немецкая классическая философия противопоставила просветительскому концепту [субъективного] заблуждения.
Речь идет об обмане, за которым нет уличимого обманщика, который непременно требует таких предикатов, как «объективный» и «естественно заданный».
Категория видимости легче всего разъясняется через феномен миража, кажимость которого принципиально отличается от кажимости бреда, грезы, субъективной фантазии и ставит примитивных различителей материального и идеального перед курьезными трудностями[33 - Где-то в 80-х г. у меня в гостях был самый давний из моих друзей-коллег – Ю.М. Бородай, которого я склонен считать мудрецом от рождения. Компания смотрела по телевизору научно-популярную передачу о миражах. Когда на экране над раскаленным асфальтом шоссе появилось озерцо с обольстительной зеленью на берегу (оазис), Юрий Мефодьевич ткнул пальцем в экран и запустил туда ленинское определение материи: «Вот объективная реальность, данная нам в ощущении!».].
Эпистемологический интерес к миражам родился тогда же, когда появилось само выражение «идеология» (во времена Антуана Дестют де Трасси и Наполеона). Философская публицистика объявила войну миражам, но, разумеется, не просто природным (оптическим), но социокультурным, социальным и, наконец, экономическим. Шедевром такой публицистики можно считать знаменитый пассаж о товарном фетишизме, вышедший из-под пера Маркса. Этот фрагмент «Капитала» стал стартовой площадкой для многих контридеологических рассуждений, развернутых Ильенковым и Мамардашвили.
Видимости в их понимании – это основное социальное сырье принудительно насаждаемых идеологических концепций – подножный корм идеологов.
Человек вовсе не «чистая доска», на которую идеологи-теоретики или идеологические агентства (сколь бы внушительными ни выглядели сегодня эти последние) наносят все, что им вздумается. Ум человека как общественного существа всегда уже загрунтован, и значительную часть этой грунтовки составляют обманы, порождаемые самой социальной действительностью. Той, которую люди не только воспринимают и отражают, но еще и претерпевают в качестве субъектов, встроенных в нее всем своим сознанием[34 - «Встроенность сознания в бытие» – важнейшая констатация и понятие теории сознания, продумывавшейся М.К. Мамардашвили в 60–70-х гг.]. И идеологи-теоретики, и идеологические агентства, если внимательно вглядеться в их практику, фиксируют, взращивают, удобряют и обрабатывают стихийно складывающиеся обманы.
Но именно поэтому результаты основательной «идеологической обработки» невозможно просто «счистить с ума»: удалить хирургическим ножом просветительства, снести сокрушающей полемически-агитационной атакой. Действительно влиятельные, на объективных видимостях установленные массовые идеологии продолжают жить – и возрождаются в новых концептуальных облачениях – до той поры, покуда живут нужды и тяготы, причуды и превратности самого породившего их социального бытия.
4. Ильенков и Мамардашвили сходились в признании того, что наиболее адекватной формой самостоятельного ответственного мышления является занятие философией. Оба видели в нем условие возможности осознанно критического отношения к идеологиям.
Вместе с тем оба они с еще небывалой остротой обозначили коварную двусмысленность самого выражения «занятие философией» – дали понять, что за ним кроется непримиримая оппозиция философии, как она понималась и культивировалась веками, и наличной псевдофилософии, эрзацфилософии, представленной партийно-просветительским «официозом диамат-истмата»[35 - Выражение, найденное Львом Науменко в очерке «Эвальд Ильенков: портрет в интерьере времени». URL: http://www.alternativy.ru/ru/node/1104.].
Последний не только не противостоит идеологиям, но представляет собой десятилетиями отрабатывавшийся эталон самой философии как идеологии.
* * *
В удивительном очерке «Маркс и западный мир», готовившемся в 1965 г. для зачтения на международном философском конгрессе во Франкфурте, но опубликованном лишь в постсоветское время, Э.В. Ильенков отваживается на следующую констатацию, в общем-то элементарную, но невозможную в отечественных подцензурных изданиях: в СССР «марксизм впервые утвердился в качестве официально узаконенной идеологии»[36 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 157.].
Хронической болезнью этой идеологии сделался догматизм, в котором, по мнению Эвальда Васильевича, сказывалась и сказывается неизжитость «еще добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни, имевших в России силу традиции»[37 - Там же. С. 158.]. Философы-догматики подбирают и выдумывают понятия, которые позволяют, подобно цементному раствору, скреплять «составные части» идеологически выстроенного сооружения.
Я не помню другого человека, который бы в 60–70-е гг. относился к «официозу диамат-истмата» с такой же неприязнью, обеспокоенностью и методичным презрением, как Эвальд Васильевич. Наименования «диаматчик», положенного ему по месту работы (по названию институтского сектора), он не переносил; в известной беседе с М.А. Лифшицем просил понять, что «исповедует вовсе не истмат, а материалистическое понимание истории». В статье «Философия и молодость» наводил читателя на мысль, что сегодняшние «начетчики от философии» – это наконец-то найденное наглядное пособие к стародавнему народному понятию «ученый дурак».
Статья «Философия и молодость», написанная Э.В. Ильенковым в середине 60-х гг., удивительно интересна. Ее заголовок и зачин располагали ожидать, что автор будет рекомендовать возможно более раннее увлечение философскими занятиями. На деле основная интенция статьи – это критическое предостережение. Ильенков готовит молодого читателя к осмотрительному различению действительной философии и ее расхожих подобий, а затем с предельной прямотой говорит ему: «Надо знать, что ты глотаешь, чтобы потом крепко не пожалеть». Надо быть готовым к тому, что философия и философский ширпотреб окажутся похожими друг на друга, «как шампиньон и бледная поганка»[38 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 28.].
Каковы приметы опасных подобий философии, претендующих на овладение юными умами (шире говоря – приметы философии как идеологии)? Ильенков обозначает по крайней мере две из них.
Первая – это культивирование благих упований, которого подлинная философия никогда себе не позволяет.
В царстве официозного диамат-истмата молодой человек, который решил заняться философией, раньше всего встретит «бездумный оптимизм». Эвальд Васильевич находит для него разъяснение, поразительное по простоте и точности: «оптимизм до первой беды»[39 - Там же. С. 19.]. Напомню, что формула эта была предъявлена вскоре после оглашения новой программы КПСС, погружавшей всю советскую идеологию в атмосферу беспросветно благостных обещаний.
Другая стойкая примета расхожих подобий философии – это позиция и стиль ментора, вкладывающего в головы людей готовое и расфасованное знание. Критика менторства проходит сквозь все наследие Э.В. Ильенкова, и, пожалуй, никто другой в отечественной философии ХХ в. не проводит ее с такой же страстью и таким же упорством. Десятки фрагментов ильенковского текста смотрятся как экспликации (порой совершенно неожиданные) замечательной метафоры Плутарха: учитель должен не просто влить свои знания в ученика, как воду в сосуд; он должен своим факелом зажечь в ученике его собственный огонь.
Важнейшее измерение менторства – пристрастие к формальной логике.
Сегодня, из десятых годов XXI в., отзывы Ильенкова о формальной логике смотрятся как негативная логическая характеристика догматизированного марксизма и даже идеологического языка вообще. Эвальд Васильевич видит в формальной логике питомник и оператор умственной канцелярщины, формальный каркас просвещения, выхолощенного до авторитарного просветительства. Как и другие тогдашние защитники «диалектической логики», он считает единственно законным делом «формальных логиков» то, что, в общем-то, является всего лишь факультативным их занятием (логическое редактирование готового знания)[40 - Формальная логика «изучает законы и формы следования одной готовой мысли (суждения) из других» (Копнин П.В. Диалектика // Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960. С. 177).]. Ильенков просто отказывается замечать важнейшую, критико-аналитическую интенцию логики – ее способность развенчивать и выбраковывать софистические умственные построения и стихийно вызревшие (чаще всего романтические) спекуляции. Он как бы откладывает эту работу на будущее – на время, которое наступит по завершении сколько-то успешной антидогматической атаки.
Критикуя формальную логику, Ильенков талантливо актуализирует гегелевское наследие. И то же надо сказать обо всем его публицистическом осуждении менторства: оно выстроено на фундаменте теории образования, очерченной в «Феноменологии духа». Последнее давно зафиксировано в нашей историко-философской литературе. Мне хотелось бы привлечь внимание к другой, малоизученной и редко обсуждаемой теме – к вопросу об отношении Ильенкова к Канту.
Непримиримое отношение к менторству, столь выразительно высказанное в «социально-педагогических» сочинениях Ильенкова, не могло конституироваться без глубокой симпатии к ключевым кантовским понятиям.
Философия как идеология тяготеет к тому, чтобы найти и взрастить среди людей «чистых репродуктивов»[41 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 22.]. «Традиционная философия в лице лучших своих представителей», к каким бы направлениям и партиям они ни принадлежали, остается верной великому предостережению Гераклита: «Многознание уму не научает». Она, пишет далее Эвальд, ищет и взращивает в людях автономию мышления – «“силу суждения”, как назвал когда-то эту способность Кант»[42 - Там же. С. 21.]. Ильенков видит здесь основную дефиницию ума. «Ум, – заявляет он, – резонно определить как способность суждения (курсив мой. – Э.С.)»[43 - Там же. С. 25.].
Меня удивляет и печалит то обстоятельство, что Эвальд, судя по всему, не был знаком со статьей Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». Ни в одном из его сочинений я не встретил ссылки на эту выдающуюся журнальную публикацию 1784 г., породившую десятки интереснейших откликов и по сей день пребывающую в поле актуальной полемики[44 - См. об этом подробнее: Мотрошилова Н.В. История философии: статьи, их роль в науке и в публичном пространстве // История философии в формате статьи. М., 2016. С. 35–70. Ильенкова отчасти оправдывает то обстоятельство, что в русском переводе статья «Ответ на вопрос: “Что такое просвещение”?» появилась лишь в 1966 г., в шестом томе кантовских сочинений.]. Вместе с тем Ильенков как бы рвется навстречу кантовскому тексту, как бы пытается разъяснить его и развить.
В своем манифесте «истинного просвещения» Кант, если помните, ставил всю практику обучения мышлению под известный древнеримский девиз «Sapere aude!» («Имей мужество мыслить сам!»); он предполагал в слушателе и читателе совершеннолетнего реципиента (отстаивал в обучении «презумпцию совершеннолетия», если говорить философско-правовым языком); он утверждал просвещение в противовес просветительству в узком смысле слова, то есть менторству и авторитарному назиданию. Их исходный смысл помечен у Канта глаголом «leiten» («руководить»).
В очерке «Философия и молодость» (и еще в двух-трех публикациях, близких ему по времени и по теме) Ильенков проигрывает все эти кантовские мотивы. «Ум, – заявляет он, – это умение, которое каждый человек может и должен воспитывать в себе сам и которое даром не дается»[45 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 21.].
Обращаясь к богатейшему потенциалу русского языка, Эвальд Васильевич предъявил констатацию, которая наверняка радостно поразила бы Канта: «В русском языке “ум” одного корня со словами “умение”, “умелец”»[46 - Там же.].
«Умение» в понимании Ильенкова – это личностно неповторимый и лишь через личность формируемый задаток. В полном развитии – трудами наработанный талант.
«Ум» – не что иное, как всеобщность умения, способность к самочинности суждения и действия, которую общество должно равным образом предполагать в каждом и без которой талант не развивается ни в ком.
Обсуждая работу А.И. Мещерякова и его коллег, организаторов замечательного загорского эксперимента по формированию высших психических способностей у слепоглухих детей, Эвальд пишет фрагмент, похожий на послание, которое предназначено для отправки из ХХ в. в XVIII, из Москвы в Кенигсберг. Вновь используя удивительную выразительность русского языка, он выявляет глубокую проблемность глагола «руководить» (неслышную в немецком «leiten», к которому привлек внимание Кант). Один из возможных буквальных смыслов глагола «руководить» – «водить чужой рукой». Но это как раз та буквальность, с которой начинается воспитательное ознакомление слепоглухих детей с предметностью. Требуется тысячекратное повторение «руковождения», чтобы встреча с нею произошла и от ребенка поступил первый коммуникативный отклик – первый намек на самостоятельность. «Как только такой намек появился, – восклицал Эвальд, – сразу же ослабляй, педагог, руководящее усилие! В этом первая заповедь педагогики “первоначального очеловечивания”, имеющая принципиальное значение не только для воспитания слепоглухонемого»[47 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 37.].
Да, речь идет о возрастной психологии в целом, универсальную и ключевую проблему которой Кант в своей гениальной статье о Просвещении обозначил понятием совершеннолетие. С публицистической страстью Ильенков откликается на центральную тему нечитанной им публикации Канта: несовершеннолетие по нашей собственной вине. «Неумеренный руководящий нажим взрослого, не считающийся с уже возникшей самостоятельностью ребенка, тормозит процесс психического развития», – предупреждает он. «Не слишком ли часто, мы, взрослые, продолжаем своими руками делать за ребенка и вместо ребенка многое такое, что он уже мог бы делать сам?» Стоит ли после этого удивляться, что воспитателям приходится «всю жизнь опекать воспитанников, водить их за руку»? Стоит ли сокрушаться (или, наоборот, по-диктаторски ликовать) по поводу того, что общество переполнено массой «удоборуководимых»[48 - Там же. С. 38–39.]?
Формирование неповторимого умения в отдельном человеке и развитие ума как всеобщей способности ответственного суждения – таков базис предложенной Э.В. Ильенковым неомарксистской концепции общественного идеала. Заявленная в статье «Философия и молодость», она получает многоплановую развертку в бестселлере «Об идолах и идеалах», появившемся в 1968 г. Пользуясь лексиконом самого Эвальда Васильевича, можно сказать, что он отстаивал «философско-педагогическое» прочтение образа коммунизма, предложенного Марксом. Кантовские понятия «способности», «таланта» и «личности» сделались при этом ключевыми. Коммунистическое общество, отчеканивает Ильенков, – это просто «условия, внутри которых талантливость и одаренность были бы нормой, а не счастливым исключением из нее. Естественным статусом человеческого существования»[49 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 29.]. Коммунистическое равенство имеет в виду прежде всего систему образования, обеспечивающую равный доступ ко всем богатствам культуры и превращение последней «в личное достояние, личную собственность».
Нужно оживить в памяти шестидесятые годы, чтобы увидеть, какое идеологическое напряжение скрывалось за этими формулировками.
Коммунизм, обещанный уже живущему поколению советских людей – поколению, все острее осознававшему проблему пустеющих прилавков, – с идеологической принудительностью превращался в мечту об обществе потребления, хотя бы и коллективистского. Проекты распределения потребительских благ между членами коммунистических коллективов столь же принудительно тяготели к казарменным упрощениям. В «литературе по научному коммунизму», которая после XXII съезда партии росла как на дрожжах, формула «каждому по потребностям» все чаще сводилась к идее пристойного отоваривания трудящихся по рецептам народного государства. Э.В. Ильенков решительно порывает с этим образом мысли.
Формулы «каждому по потребностям» он, насколько мне известно, в печатных своих работах просто не вспоминает, а в частных беседах определяет ее как вульгарно-экономическую.
Сохраняется идеал безгосударственного социального устройства (коммунизм, настаивает Эвальд, – это прежде всего коммунистическое общественное самоуправление).
На место благосостояния в значении потребительского достатка встает приобщение к богатству культуры.
К оппозиции частной и общественной собственности (двух противостоящих друг другу форм обладания) добавляется удивительная категория «личной собственности», коннотацией которой могут быть лишь «освоение» и «достояние». («Личная собственность» – новаторская по характеру категория, которая может с полным основанием называться неомарксистской.)
Коммунистический идеал Ильенкова отдален (дистанцирован) от социализма не в меньшей степени, чем в кантиански корректных программах ранней западноевропейской социал-демократии. Эвальд Васильевич акцентировал эту временную дистанцию с помощью следующей (опять-таки «философско-педагогической») декларации: царство благосостояния (оптимального удовлетворения человеческих потребностей) наступит не раньше, чем «расширение духовного багажа сделается для большинства людей потребностью и основным жизненным интересом»[50 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 30. (курсив мой. – Э.С.).]. Говоря языком Канта, Ильенков вводил для «коммунистического строительства» формулу условия возможности. Речь шла о глубинной перестройке существующего сознания – о духовной реформации, которая очевидно немыслима в качестве краткосрочного социально-исторического преобразования. Она требует нескольких людских поколений.
Вместе с тем ильенковское прочтение Марксова образа коммунизма ни в коем случае не принадлежало к разряду романтических мечтаний, проектируемых в «туманную даль» и ничего не требующих от уже живущего поколения. Равенство условий для подхватывания и развития таланта; признание ненормальности такого явления, как регулярное воспроизводство умственной односторонности и умственной неразвитости; стремление к преумножению духовно-интеллектуальной личной собственности – все это (пусть под иными названиями) к концу шестидесятых годов уже сознавалось как настоятельная задача обновляющейся системы образования.
Идеал коммунизма, отстаивавшийся Ильенковым, был «сверх-программным» и все-таки обязующим идеалом-ориентиром, но не для «коммунистического строительства», а для начавшейся реформы советской школы. Эвальд вооружал отечественную педагогику неомарксистской философской верой – верой в природную нестесненность человеческого умения, ума и таланта. Развертывая эту веру в форме глубоко оригинального размышления о коммунистическом будущем, он задавал ряд вполне реалистичных (и по сей день значимых) общих установок социальной политики. Одна из них – идея приоритета совершенствующейся системы образования над другими запросами и факторами модернизации.