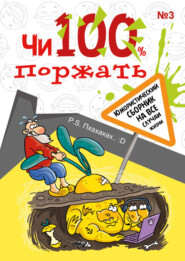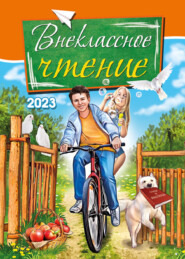По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия и идеология: от Маркса до постмодерна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И конечно же, «философская педагогика» Ильенкова была прямым ориентирующим пособием для живой части «учительского сословия» – для весьма многочисленных в 60-е гг. педагогов-новаторов, лучше, чем кто-либо, видевших ущербность догматизма, бездумного оптимизма и менторства.
А был ли сам Эвальд Васильевич педагогом-новатором? Попытался ли испытать на практике установки, которые убежденно отстаивал?
* * *
В пору работы на философском факультете МГУ Эвальд Васильевич, как я уже упомянул, славился своими незаурядными учебными семинарами. По суждению А.Г. Новохатько, обобщающего впечатления тех, кто их посещал, главное стремление Ильенкова как преподавателя состояло в том, чтобы «придать сознанию [слушателя] сознательный характер».
Эвальд Васильевич учил «грамотно задавать вопросы», «спорить, а не пререкаться», «выявлять противоречия и искать их».
Обращаясь к классическому философскому наследию, он «побуждал к самостоятельному чтению текстов, провоцировал повторное обращение к ним… Обсуждение идей великих мыслителей непременно выливалось в разговор о проблемах, которые тревожат людей сегодня». Ильенков настраивал на то, чтобы участники семинара, не робея, «пытались взглянуть на мучившую их проблему глазами Спинозы или Фихте»[51 - Новохатько А.Г. Феномен Ильенкова // Э.В. Ильенков. Философия и культура. М., 1991. С. 5, 11–13.].
Но, пожалуй, самая выразительная и точная характеристика Ильенкова как преподавателя была найдена Л.К. Науменко: Эвальд Васильевич, читаем мы, «говорил так, словно впервые, здесь, на кафедре, задумался над проблемой». И мыслители прошлого, о которых он рассказывал, «были никак не объектами, а именно субъектами и занимались они одним делом, советуясь, споря, помогая и поправляя друг друга»[52 - Науменко Л.К. Указ. соч.].
Старший преподаватель кафедры ИЗФ, на семинары которого люди приходили для прояснения самых насущных для них вопросов, выводил их из мира начетнической рутины в мир живой и вечно современной философской дискуссии. Для десятков молодых преподавателей, аспирантов и студентов семинары Ильенкова стали первым очагом историко-философской эмансипации от философии как идеологии.
Я не исключаю того, что, выдворив (в 1955 г.) преподавателя Ильенкова, тогдашнее факультетское руководство, если говорить о будущем, лишило Московский университет одного из самых выдающихся мыслителей-педагогов.
Я также глубоко сожалею о том, что в семидесятые годы сам Эвальд Васильевич не попытался выступить в Москве (или в Новосибирске, куда его приглашали) с комплексом свободных лекций о философии.
Инициатива такого философского просвещения («просвещения без просветительства») блестяще удалась Мерабу Мамардашвили.
* * *
О лекциях Мамардашвили, которые в 70–80-х гг. читались в ряде академических и учебных институтов Москвы и Тбилиси и составили бы, если объединить их печатные тексты, увесистый фолиант, ходили и ходят легенды. В метких и ярких суждениях нет недостатка. Вместе с тем бросается в глаза, что оценки большинства почитателей лекционного таланта Мераба подчинены броской метафоре, родившейся где-то в начале 90-х гг.: «грузинский Сократ».
Искусство Сократа – это, как известно, искусство диалога, и многие из вчерашних слушателей мерабовских лекций пытались представить их как образец «диалогического мастерства». В действительности диалоги на лекциях Мамардашвили случались крайне редко (споры возникали уже за стенами лекционной аудитории и порой… длились годами). Формально говоря, Мераб как лектор был моноло-гичен, более того – вызывающе монологичен, хотя речь его не имела никакого отношения к риторике. Сам он определял ее как сознание вслух[53 - См.: Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. С. 32, 57.]. Это было вынесенное на публику кабинетное одиночество, когда лектор предъявляет слушателям самоё «работу думания», «мысль в ее исполнении»[54 - Там же. С. 30.].
Было бы неверно утверждать, будто Мераб не готовился к лекциям. Основательно готовился – я был тому свидетелем. Вместе с тем его лекции никак нельзя назвать заготовленными. Он позволял своей мысли течь непредвиденно и, случалось, только в аудитории впервые находил решение прежде задуманной проблемы. Но как раз это зажигало в слушателе встречную мысль, вызывало эффект понимания, которого Мамардашвили прежде всего добивался. «Помочь акту мысли родиться – вот дело философии, выполнив которое она может отойти в сторону и замолчать», – зафиксировал он в «Записной книжке (1970)»[55 - Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. М., 2016. С. 97.].
Важной составляющей этого прилюдного умственного поиска было обращение к классическим философским текстам. Великие мыслители вызывались на помощь «попроблемно» и в качестве «вечных современников»: никакое положение «на лестнице времени», никакая «кумуляция учений» во внимание не принимались. И оказывалось, что именно такое обращение с наследием обеспечивает максимальное воздействие на мировоззренчески обеспокоенного слушателя и наилучшим образом утоляет пробудившийся в нем философский интерес.
Мераб не стремился обзавестись школой – учениками и последователями. Скорее заботился о том, чтобы с его помощью каждый из слушателей отыскал среди философов-классиков своего собственного, неповторимо мудрого собеседника и учителя.
В организации своих оригинальных лекционных курсов Мамардашвили был несомненным наследником Ильенкова. Замечательная характеристика Эвальда Васильевича как преподавателя, вышедшая из-под пера Л.К. Науменко и только что мною процитированная, может быть без единой поправки наложена и на Мераба Константиновича.
Ильенков и Мамардашвили сходятся, далее, в определении главных примет философии как идеологии. Первой из них Ильенков, если помните, считал «бездумный оптимизм», «оптимизм до первой беды». У Мамардашвили этому соответствует беспощадная критика надежд, энтузиастических состояний, романтичных мобилизующих упований (как оказалось – профилактическая прививка от перестроечной эйфории).
Сильвана Давидович (итальянский театральный и литературный критик) свидетельствовала: Мамардашвили ненавидел слово «надежда». Он ассоциировал надежду с ощущением, что завтра придет нечто такое, что избавит тебя от необходимости сейчас, сию минуту сделать то, что ты должен сделать для реализации своей судьбы.
Вторую стойкую примету философии как идеологии Ильенков видел в менторстве. В лекциях и публикациях Мамардашвили мы находим проработанный аналог этой темы, хотя осмысляется она в терминах, никогда не использовавшихся Ильенковым и ильенковцами.
Менторство в понимании Мераба зиждется на гипостазировании рациональных очевидностей. Таково важнейшее измерение «классической рациональности». На мой взгляд, в критико-полемическом построении Мамардашвили это понятие изоморфно понятию «формальная логика» у Ильенкова. Поначалу (1970–1971) «классическая рациональность» была предъявлена как парадигма «классической [буржуазной] философии».
Речь шла о характерной для всей эпохи Просвещения уверенности в том, что, «выделяя рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, мыслящий индивид одновременно усматривает и основные, фундаментальные характеристики мира “как он есть”»[56 - Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и современная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопоставления) // М.К. Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб., 2010. С. 136. Будучи одним из авторов этой статьи, я выделяю и цитирую только фрагменты, написанные М.К. Мамардашвили. Общую историко-философскую оценку статьи я оставляю на будущее, соглашаясь с ее исходной характеристикой, данной Н.В. Мотрошиловой, – см.: Мотрошилова Н.В. Отечественная философия 50–80 гг. ХХ в. и западная мысль. М., 2012. С. 269–274.].
Сама того не подозревая, классическая философия XVII–XVIII вв. готовила себя к превращению в идеологию, ибо конституировалась как абсолютная инстанция единоразумного «самосознания вообще»[57 - См.: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. С. 136–140.].
Рождалась «убежденность в том, что голова интеллектуала есть особое, богом освященное место, где мир раскрывает свои последние тайны, претворяется в знание, представительное и абсолютное»[58 - Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. С. 152.]. В итоге само общество мыслилось как разделенное «на сознательное меньшинство и бессознательную массу, опекаемую этим меньшинством от лица “Истины”, “Добра”, “Красоты”, “Человека”, “Истории”, “Прогресса”»[59 - В статье с прекрасным названием «Маркс без марксизма (Мераб Мамардашвили в 60-е гг.)» Виктория Файбышенко выразит это так: «классическая модель сознания, прозрачного для самого себя и потому могущего судить мир» (Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. С. 90). Ср.: Mannheim K. Ideologie und Utopie. Bonn, 1929. S. 6–7.].
Эти тексты Мамардашвили (пожалуй, самые впечатляющие и яркие в отечественной философской публицистике начала 70-х гг.) – тексты, восстанавливающие против элитарной опеки, звучали как «второй голос» к гневной мелодии Ильенкова, осуждавшего догматическое наставничество. Работая над ними, Мераб нашел простое и точное определение самого идеологически-философского дискурса: «Мысль производится абсолютно и однозначно – за других и для других – и транслируется пассивному приемнику, осваивающему готовые, завершенные духовные образования»[60 - Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. C. 169.].
Читая это, нельзя было не подумать о «философской педагогике», которую вынашивал Эвальд Васильевич.
Но не только о ней. Встретившись с выражением «мышление за другого», квалифицированный историк философии не мог не вспомнить о Канте и его статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?».
Рассуждая об опекунстве, Кант-публицист иронически восклицал: «Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, думающая за меня (курсив мой. – Э.С.) то я не нуждаюсь в том, чтобы утруждать себя». Рядом с «книгой, думающей за меня», он ставил «духовника, совесть которого заменяет мою»[61 - Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. I. Трактаты и статьи (1764–1796). М., 1994. С. 127.].
Так же, как и Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили в начале 70-х еще не знает статьи «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». И так же, как Ильенков, всем смыслом своих текстов рвется к основной идее этой статьи – идее автономии и умственного совершеннолетия. В восьмидесятых он встретит русское издание статьи как давно ожидаемую, в нем самом уже созревшую философскую декларацию. Текст Канта он проаннотирует поразительно кратко и точно, эталон-но для мирового кантоведения: «Просвещение есть чисто негативное понятие, т. е. понятие, не обозначающее какую-либо совокупность позитивных знаний, которые можно было бы просто распространять и передавать[62 - Я позволю себе так разъяснить эту важную констатацию Мамардашвили: просвещение, а не просветительство.]. Просвещение, говоря словами Канта, это взрослое состояние человечества, когда люди способны думать своим умом и поступать, не нуждаясь для этого во внешних авторитетах и не будучи водимыми на помочах. Так спрашивается: просвещены ли мы?»[63 - Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С. 149.].
* * *
Э.В. Ильенков и М.К. Мамардашвили едины в понимании «истинного просвещения» (термин Канта) и роли философа в раздувании и поддержании этого социокультурного критико-идеологического очага. Последнее чрезвычайно важно.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в отстаивании этого единого понимания Мамардашвили более решителен, более радикален.
В 70-е гг. Эвальд Васильевич считал, например, вполне допустимым, чтобы ильенковцы участвовали в преподавании официального, кафедрального диамата, шаг за шагом – пусть прикровенно и с хитростями – отвоевывая пространство для разъяснения и утверждения своей теоретической программы.
Мераб Мамардашвили настоятельно рекомендовал своим приверженцам отказаться от обучения студентов кафедральному диамату и истмату. Насущный хлеб следует зарабатывать преподаванием истории философии и логики или в журналах, издательствах и НИИ. Читать же философию позволительно только в кружках или в формате спецкурсов, которые могут посещать те, кто действительно этого желает.
В 1989 г. он обнародовал полный смысл этой давно продуманной позиции. В ситуации, когда кафедральный диамат-истмат обнаружил свою полную теоретическую негодность – когда стали срочно лепиться проекты его «коренной перестройки», – Мераб заявил, что вся эта «философская учеба» никакой перестройки не заслуживает. На вопрос «что с этим делать?», говорил он, «я бы ответил так: “Ничего не делать!” Только начни – и тотчас будешь вовлечен… в реанимацию окоченевших, отживших представлений, и ни во что это не выльется, кроме очередной схоластики и дробления костей. Делать же нужно свое дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования. И чем больше появится людей с личностным опытом философствования, читающих свободные философские курсы (курсив мой. – Э.С.), тем скорее оздоровится атмосфера в стране, долгое время находившейся под давлением унифицированных идеологических структур»[64 - Мамардашвили М.К. Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть // Вопр. философии. 1989. № 7. С. 115–116.].
Расхождение между Ильенковым и Мамардашвили яснее всего обозначилось в обсуждении вопроса о судьбе идеологий.
Эвальд Васильевич не ставил под сомнение марксистский «формационный» стандарт: идеологии возникают вместе с делением общества на классы и будут жить до тех пор, пока существуют классовые конфликты; по мере приближения к бесклассовому обществу они отомрут.
Мераб Константинович уже в начале 70-х публично высказал иную точку зрения. То, что «ложное сознание есть продукт деления на классы… и появляется при делении общества на классы», говорил он, «мне не кажется правильным». Работы позднего Маркса позволяют увидеть, что он «шире понимал ложное сознание». Маркса интересовала «функциональногенетическая роль [последнего] в общественной структуре». – «Понятие “ложного сознания”, с точки зрения Маркса, применимо и к доклассовому обществу, традиционному или ритуально-фетишистскому». Конечно, ложное сознание еще не выделено здесь в «особое социальное образование»[65 - Мераб, мне думается, имеет здесь в виду его доктринальное и институциональное («надстроечное») оформление.]. Но ведь «в случае примитивного общества мы говорим о сознании [просто] как о языке реальной жизни». «Термин “ложное сознание” в смысле идеологии, – заключает Мамардашвили, – гораздо шире, чем общество, имеющее классовое деление»[66 - Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. С. 51.].
Эта констатация сразу наводила на мысль о том, что идеологии выходят за рамки классового общества в пространство не только прошлого, но и будущего. На редколлегии центрального философского журнала, в сложнейшей идеологической обстановке начала 70-х гг., Мераб Константинович не мог этого озвучить. Однако участники заседания (Б.А. Грушин, Ю.А. Замошкин, В.А. Карпушин) хорошо расслышали непрозвучавшую тему.
* * *
Где-то к 1975 г. в советском обществе иссякла надежда на приближение бесклассового общества и отмирание идеологий. Стало ясно, что «конца идеологий» придется ждать… без конца. Социального устройства, не нуждающегося в идеологии, не увидит не только «нынешнее поколение советских людей», но и поколения грядущие, которые, скорее всего, мало будут от него отличаться. «Конец идеологий» лежит за пределами социально предвидимого будущего. Он не более, чем «мечта отцов», революционеров-ленинцев, и как таковой уже не может войти ни в какие программы реального действия (экономического, социального, политического) даже в значении ориентира.
Этот декаданс социальных ожиданий был по-разному воспринят и пережит Ильенковым и Мамардашвили.
Сознание того, что идеология (в частности и прежде всего догматизированное марксистское учение) вовсе не собирается сходить с исторической сцены, было одним из ферментов тотального отчаяния Ильенкова, завершившегося трагически и страшно[67 - 21 марта 1979 г. Эвальд Васильевич покончил с собой.].
Мамардашвили сумел преодолеть резиньяцию и помог другим справиться с нею. Он добился этого ценой отказа от марксизма, которым вдохновлялся на протяжении двух десятилетий.
Знаменательно, что от марксистской неоортодоксии философов-шестидесятников Мераб отошел «по кантианской тропе». Совершившаяся в нем «умоперемена» отчетливее и ярче всего запечатлена в спецкурсе о философии Канта, зачитанном в Тбилиси и в Москве в конце 70-х гг. и опубликованном (уже после смерти Мераба Константиновича) под названием «Кантианские вариации». Слово «вариации» он употреблял в том же смысле, какой вкладывают в него музыканты-импровизаторы («вариации на темы Шуберта», «вариации на тему Бизе»).
Одна из тем спецкурса (неслаженного, эскизно неряшливого, но на редкость выразительного) – кантовское «als ob» («как если бы»): обсуждение вопроса о возможности отстраненно-условного (в пределе – иронического) отношения к концептуальным построениям и поведенческим актам.
Но об этом чуть позже. Сперва я хотел бы привлечь внимание к тому, что в конце 70-х гг. Мамардашвили основательно проработал проблему стоического отстранения от объективно-принудительных форм общественного сознания. Под отстранением он понимал непримиримое отвержение идеологий, считающееся, однако, с необходимостью непредвидимо длительного сосуществования с ними – сосуществования мирного, отвечающего максимам терпимости (толерантности)[68 - Об отношении непримиримости и интолерантности, о терпимости как добродетели непримиримых см.: Соловьев Э.Ю. Толерантность как новоевропейская универсалия // Демоны мира и боги войны. Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. Киев, 1997. С. 97–113.].
В сущности говоря, деидеологизация трактовалась Мамардашвили как общая эмансипация сознания, принципиально не отличающаяся от любой другой эмансипации, то есть от непредвидимо длительной борьбы за гражданские права, которую приходится вести в государстве, еще далеко не являющемся правовым.
Еще раз просмотрев книгу «Как я понимаю философию», оживив в памяти слышанные мною лекции Мераба, припомнив нашу работу над когда-то нашумевшей «тройственной статьей»[69 - Имеется в виду: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч.], наконец, наши личные беседы, я вижу, что в 70-е гг. Мамардашвили немало потрудился и над своего рода «моральным кодексом», отвечающим позиции стоического отстранения.