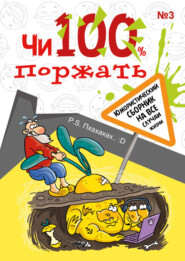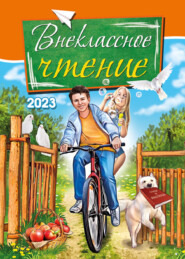По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия и идеология: от Маркса до постмодерна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но и философские учения, резюмированные в их целостности, искусно вовлекаются в идеологические сооружения и даже закладываются в фундамент последних. Таковы, скажем, десятки проектов благополучного общественного устройства, вышедших в XIV–XV вв. из-под пера политологов-схоластиков. Все они с достаточным основанием претендовали на то, чтобы их считали «доподлинно аристотелевскими по истоку и по духу».
Очевидно, наконец, что и сами философы, относимые нами к разряду великих или выдающихся, то и дело оказывались в положении инициаторов и вдохновителей влиятельных идеологий. На мой взгляд, это случалось прежде всего в тех случаях, когда философия грешила просветительским самомнением и претендовала на верховенство и господство над любым иным (нефилософским) сознанием и мышлением.
Позволю себе воспроизвести один из фрагментов моей основной публикации, где говорится о Мерабе Мамардашвили и его трактовке «классической рациональности». Мне кажется, главный мотив этого фрагмента остался нерасслышанным.
Философия европейского Нового времени гипостазирует рациональные очевидности. Она, говорит Мераб Константинович, уверена в том, что, «выделяя рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, мыслящий индивид (а в этот момент он и есть философ. – Э.С.) одновременно усматривает основные, фундаментальные характеристики мира “как он есть”».
Сама того не подозревая, классическая философия XVII–XVIII вв. готовит себя к превращению в идеологию, ибо конституирует себя как высшая и абсолютная инстанция единоразумного «самосознания вообще». У философов, продолжает Мамардашвили, рождается «убежденность в том, что голова интеллектуала есть особое, богом освященное место, где мир раскрывает свои последние тайны, претворяется в знание, представительное и абсолютное». В итоге само общество начинает мыслиться как разделенное «на сознательное меньшинство и бессознательную массу, опекаемую этим меньшинством от лица Истины, Добра, Красоты […]». Философия трактуется как место, где «мысль производится абсолютно и однозначно – за других и для других – и транслируется пассивному приемнику, осваивающему готовые, завершенные духовные образования»
.
Эта замечательная формулировка одновременно определяет и дискурс философии, которая как бы пребывает в нарциссическом состоянии, в приступе самолюбования; и дискурс идеологии, претендующей на авторитарность и нестесненное кафедрально-митинговое доктринерство. Перед нами, если угодно, «философская идеология», или «философия как идеология» в момент ее реально-исторического первообнаружения.
Самоуверенность философии, подчиненной парадигме «классической рациональности», проявляется не только в ее высокомерном отношении к «низовому», еще не просвещенному мышлению; причудливым образом она сказывается и на ее обращении с иными формами развитой интеллектуальной жизни, скажем, в религии, искусстве или эмпирическом научном исследовании.
* * *
Здесь, мне думается, надо прежде всего вспомнить об отношении философии к религии и науке. В Западной Европе XIV–XV вв. философия возложила на себя бремя систематизации религиозного мировоззрения. Философски искушенные богословы (речь идет прежде всего об освоенности античного наследия) посвятили себя задаче построения «единственно истинной теологии» (в идеале – строго рациональной). И вот именно она (как продуманный кодекс догматики) стала первой в истории масштабной, систематичной, институционально обустроенной церковно-религиозной идеологией. В начале XVI столетия это идеология индульгентного бога, социально-утилитарная подоплека которой уличается повсеместно.
В Новое время философия возлагает на себя бремя организации научного мировоззрения. Взяв за эталон послегалилеевское естествознание и «логику здравого смысла», она стремится стать «наукой над науками», «наукой наук», универсальной «наукой о мире в целом» (наиболее выразительным примером этой позиции является, пожалуй, гольбаховская «Система природы»). Основной конфликт, пронизывающий идейную жизнь, усматривается в антагонизме науки и религии: секуляризация общественного сознания философски замыкается на различные версии научного атеизма. Одновременно (как бы в насмешку над секуляризацией) рождаются причудливые варианты «светских религий», начиная с салонных культов Разума и Природы, кончая почитанием своего рода «святых семейств», составленных из политических и литературно-публицистических звезд.
В испытаниях Просвещения «философия как наука» все чаще тяготеет к формату науки о прогрессе, которая на деле функционирует как вновь родившаяся религия прогресса. Ее духом (духом религии без трансцендентного) пронизана вся публицистика «юридического сословия, подготовлявшего французскую революцию» (Ф. Энгельс). Что касается концептуализации нового идейного поветрия, то важнейшим ее жанром становится стадиальная проработка предзаданного проекта всеобщей истории. Эскизная и эклектичная у Кондорсе или Гердера, она доводится до доктринальной завершенности в философии истории Гегеля, в Марксовой теории формаций (по началу именовавшейся просто «наукой истории»), в «позитивной науке» О. Конта и «позитивной социологии» Г. Спенсера, пытавшегося наложить на эволюцию общества спекулятивно трактуемые «законы естественного отбора».
Уже к середине XIX столетия над всей сферой социального и гуманитарного знания довлеет историцизм (секулярный культ истории, которая развивается по плану, отлично знает, куда ей идти, и располагает полными гарантиями конечного успеха). Прогрессистские и историцистские философские доктрины становятся главными генераторами масштабных, искусных, долгосрочно действенных светских идеологий. Из этих доктрин черпают рациональную аргументацию все сколько-нибудь влиятельные идейно-политические движения XIX века (либералы, как и консерваторы, монархисты, как и республиканцы, правые, как и левые радикалы).
Идеологи упрекают друг друга в непрогрессивности – в непонимании «объективных тенденций общественного развития». Никто не сомневается, что таковые существуют, хотя трактуются они каждым по-своему. Критика идеологий все более напоминает серию пенальти, забиваемых двум разным вратарям в одни и те же ворота. Тема философской подлинности и идентичности просто исчезает: она вытеснена в сферу интеллектуальной эзотерии (в раздумья, скажем, Шопенгауэра или Кьеркегора). Философы «высокого рейтинга» то и дело отказываются считать себя философами и не без энтузиазма говорят о конце философии как о важнейшей примете времени.
Идеологии историцистского толка по сей день впечатляют своей продуманностью, теоретичностью и вдохновенностью. У гуманитариев, травмируемых продукцией современного информационно-пропагандистского противоборства (продукцией, в которой, как отчеканил В.М. Межуев, на место идей поставлены компроматы), они вызывают ностальгические чувства. Их хочется признать классическими и в этом статусе возродить.
В действительности это и невозможно, и неоправданно. Уже на рубеже XIX–XX вв. идеологии прогрессистского и историцистского толка обнаружили свою теоретическую уязвимость. В 30–40-х гг. минувшего столетия они были ассимилированы тоталитарными режимами и переварены в их котлах.
В мои задачи здесь не может входить анализ пропагандистско-идеологической практики тоталитаризма и покаянно-критических расчетов с этой практикой во второй половине XX в. Замечу лишь, что существенной компонентой этого расчета, сопровождавшегося стремлением к максимальной деидеологизации культуры, стало повышенное внимание к специфике философии как вида духовной деятельности, к ее отличию от науки, религии или искусства.
* * *
Тема самопонимания (осознанного своеобразия, подлинности и идентичности философского мышления) стала одной из ключевых сразу после Второй мировой войны.
Пионером в ее разработке надо признать Карла Ясперса. В 1950 г. прозвучало его «Введение в философию (двенадцать лекций на радио)». Далее на свет появились «Великие философы», «Философская вера в ее отношении к откровению», «Что такое философия?», «Небольшая школа философского мышления (курс из тринадцати лекций)», «Всемирная история философии. Введение», «Истина и оправдание. Философия для практики».
Ясперс – классический представитель экзистенциальной аналитики, решительный защитник перманентной тождественности подлинно философского мышления, которая сохраняется на протяжении тысячелетий, несмотря на все, сколь угодно впечатляющие, идеологические утилизации философского знания. Не могу не отметить, что сочинения, посвященные этой теме, как правило, адресованы широкому читателю. Они далеки от кабинетно-академического дискурса и выполнены Ясперсом в формате просвещения, решительно отличаемого от просветительства.
В 60-е гг. тема своеобразия философствования как мышления напряженно обсуждается другими представителями экзистенциальной философии, приверженцами феноменологии и обновляющейся герменевтики. Англо-американская аналитическая философия откликается на нее исследованиями, выясняющими возможности и границы философского познания в этическом и экзистенциальном регистре.
Что касается отечественной философской литературы, то вопрос «Как я понимаю философию?» зазвучит в ней лишь в 70–80-х гг. Напрямую, в его отрезвляющей буквальности, он будет форсирован такими оригинальными, все более читаемыми (и все более чтимыми) мыслителями, как Э.В. Ильенков и В.С. Библер, М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский, П.П. Гайденко и О.А. Седакова, В.В. Бибихин и А.В. Ахутин. Думаю, любой из этих авторов всерьез и с одобрением принял бы следующую шутку: в нынешнем, глубоко идеологизированном мире вопрос «Как я понимаю философию?» – это основной философский вопрос.
У меня нет возможности сколько-нибудь обстоятельно проговорить данную тему. Протягивая уже выпростанную нить, я хотел бы всего лишь напомнить один из наказов Мераба Мамардашвили. Сегодня, как никогда прежде, говорил он, философы должны сосредоточить внимание на богатейшей по смыслу тавтологии: философия есть философия, а не что-либо иное – не просто понятийно укомплектованное наличное мировоззрение и не один из подвидов науки, религии, пророчества или художнической фантазии.
Принимая этот наказ, я, однако, считаю необходимым тут же добавить: разъяснение и отстаивание тавтологии «философия есть философия» не могут быть успешными, если не позаботиться о том, чтобы и другие формы духовной деятельности, в подвиды которых философия то и дело зачисляется, проверяли себя на подлинность и идентичность. Это особенно важно применительно к науке и религии. Философия как теория сознания (определение М.К. Мамардашвили), или теоретическая рефлексия (уточняющее определение В.К. Шохина) обязана, правомочна и способна пробуждать и методологически обеспечивать интерес ученого сообщества к научности науки и (сколько бы непривычно это ни звучало) интерес сообщества верующих к религиозности религии. Философия в праве и способна быть модератором в борьбе науки с псевдонаукой и в борьбе религии с суевериями и лжеверием.
Последнее заявление еще и сегодня, спустя 30-летие, прошедшее со времени нашего отказа от доктрины научного атеизма, многим покажется вызывающе странным. Удивляться этому не приходится. Советское религиоведение, если оно и касалось борьбы веры с суевериями и лжеверием, тут же выдвигало на первый план преследование ересей и неприглядную карательную практику инквизиции. Вне поля зрения оставалась многовековая независимая критика суеверий и лжеверия, то и дело заявлявшая о себе как компонента радикального свободомыслия. В предреформационной и реформаторской литературе XV–XVI вв. она все чаще обращается против господствующей церковной доктрины. Заповедь «Не сотвори себе кумира!», пейоративы фарисейства, манихейства и язычества, понятие лжепророчества приобретают предельно общий, парадигмальный смысл. По своему морально-этическому складу независимые радетели строгой веры все больше походят на будущих защитников строгой науки, а их работа по преодолению неподлинной, непроясненной, принудительно исповедуемой и, наконец, суррогатной веры приобретает характер преемственного усилия, простирающегося до сегодняшнего дня (достаточно вспомнить, например, о современной протестантской неоортодоксии).
* * *
Прорабатывая программу научного атеизма, Ленин настаивал на установлении прочного союза философии и естествознания. Сегодняшнее философское сообщество имеет все основания провозгласить другой лозунг: против идеологий – в союзе с наукой и религией.
Сразу замечу, что в этой формуле выражение «союз» существенно отличается по смыслу от ленинской его трактовки. Оно не имеет в виду какого-либо программно-целевого сплочения. Речь идет скорее о возможном партнерстве, участники которого работают над несовместимыми преемственно-целостными контентами внутри одного и того же ситуационно обусловленного социокультурного контекста.
Это касается как позиции философии в отношении науки и религии, так и взаимоотношения последних. Наука и религия (такова важнейшая философская рекомендация) должны отказаться от хитроумных взаимоиспользований и взаимоуподоблений, от поиска разного рода симбиозов и синкрезисов. Отношение, к которому им обеим следует стремиться, правильнее всего определить как взаимодополнительность (комплементарность). Именно на этом пути строгое знание и строгая вера в их преемственной подлинности могут противостоять суррогатному верознанию, в царстве которого вера сплошь и рядом выдается (или принимает себя) за надежное знание, а исторически относительные истины (чаще всего ожидания) задаются в качестве абсолютных. Оставаясь строго различенными и даже непримиримыми формами духовного опыта, наука и религия могут, тем не менее, добиться согласия в противостоянии стихийному потоку многообразных, сменяющих друг друга идеологических образований. Они не образуют партии единомышленников или орденского братства, но у них общий враг.
Мобилизующие социальные утопии и милитаристские проекты очищения от скверны, которые вынашивает религиозный фундаментализм; футурология сверхчеловека и мечта об общине, способной воскрешать умерших; антропософия и теософия; астрология и хиромантия – все это (и не только это) в равной степени неприемлемо как для приверженцев строгой науки, так и для защитников строгой веры. Их сотрудничество в режиме толерантности и взаимодополнительности является, на мой взгляд, одним из непременных условий углубления деидеологизации и изживания ее иллюзий.
В.М. Межуев
Философия как идеология[82 - Впервые опубликовано: Межуев В.М. Философия как идеология // Филос. журн. 2017. Т. 10. № 4. С. 171–180.]
В основу данной статьи положен доклад на общеинститутском семинаре ИФ РАН, посвященный доказательству прямой принадлежности философии ко всей сфере идеологии (наряду с религией, моралью, правом и пр.). Под идеологией здесь понимается мир идей – отчужденная от человека и идеально представленная система его общественных отношений. Вся классическая философия строилась на идее свободы человека как разумного существа от всех форм его личной зависимости. Зародившись в Античности, эта идея нашла всеобщее признание в Новое время, в эпоху становления «буржуазного (или гражданского) общества». (В этом смысле часто используемый применительно к ней термин «буржуазная философия» вполне оправдан.) Данная идея послужит истоком для всех классических идеологий Нового времени – консерватизма, либерализма и социализма, доживших, пусть и в измененном виде, до наших дней. Но чем может быть философия за пределами буржуазного общества? Для Маркса, например, конец буржуазной эпохи означал одновременно и конец идеологии, а вместе с ней всей философии, на смену которой должна прийти наука. Критика идеологии является, с этой точки зрения, уделом не философии, а науки. В действительности же вопреки прогнозу Маркса подобная критика стала не концом философии, а ее переходом в новое качество – к постклассическому типу философствования, далекому и от науки, и от идеологии. Современные идеологи в большинстве своем утратили связь с культивируемой философией идеей индивидуальной свободы. Последнюю будут искать теперь в глубинах собственной экзистенции, вынесенной за пределы разума и любого социума. Сама же философия все больше обретает характер интеллектуального общения частных лиц, свободного от привязанности к какой-либо общественно значимой идеологии. Она становится как бы идеологией лично для себя (каждый сам себе философ) или для узкого круга близких лиц.
Ключевые слова: философия, идеология, наука, критика, свобода, практика, духовное производство, идея, общественные отношения, свободное время.
Свое выступление я назвал в продолжение доклада Э.Ю. Соловьева «Философия как критика идеологий» (его первая часть напечатана в «Философском журнале»)[83 - Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Ч. I // Филос. журн. 2016. Т. 9. № 4. С. 5–17. К моменту выступления В.М. Межуева была опубликована только первая часть статьи Э.Ю. Соловьева, подготовленная на основе его доклада. Вторую часть см.: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Ч. II // Филос. журн. 2017. Т. 10. № 3. С. 5–31 (примеч. редакции ФЖ).]. Эрих Юрьевич не нуждается в комплиментах, его философская репутация предельно высока, и потому без излишнего славословия и намерения в чем-то его оспорить я остановлюсь лишь на том, что в его докладе осталось для меня не совсем понятным. При этом многое из сказанного им не вызывает у меня никаких возражений. И все же хотелось бы большей ясности в том, что он называет, во-первых, философией, во-вторых, критикой, в-третьих, идеологией.
Я так и не понял, какую философию в качестве критики идеологии он имеет в виду? Любую или какую-то особую? Примером такой философии служит ему прежде всего философия неопозитивистов и англосаксонских аналитиков. Но в каком смысле их можно назвать философами? Ведь их критика идеологии как раз и была направлена против философии в ее традиционно классическом понимании (как метафизики), сводила ее к логико-семантическому анализу языка науки и менее всего была продиктована логическими противоречиями и нестыковками политической пропаганды в наших СМИ, с чего начинает Эрих Юрьевич и что послужило ему главным поводом для его обращения к философии. Позитивистская и аналитическая философия действительно утрачивают значение идеологии, сохраняя за собой право быть лишь «служанкой науки» (подобно тому, как она когда-то была «служанкой богословия»), то есть ее логико-методологическим обоснованием. Другим примером философской критики идеологии служит ему философский скептицизм кантовского типа, пытающийся очистить опытное знание от всего сверхопытного и умопостигаемого. В философском словаре Канта нет понятия «идеология», но, на мой взгляд, его никак нельзя причислить к ее критикам хотя бы потому, что любая философия (даже «желающая стать наукой») имеет дело с идеями. Само название статьи Канта по философии истории «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» указывает на прямую связь философии с идеями.
Кто же еще из философов может считаться критиком идеологии? Аристотель критиковал теорию идей Платона, но разве Платон был менее философом, чем Аристотель? Оба были идеологами античного мира, хотя и с противоположных позиций. Равно и критика Локком «врожденных идей» Декарта также не выводила его за пределы идеологии. Более того, именно эта критика и породила термин «идеология». Он был введен в научный оборот французским мыслителем начала XIX в. А. Дестют де Траси – последователем сенсуалистической гносеологии Локка – для обозначения учения о происхождении идей из чувственного опыта. Данное учение охватывало собой всю систему знаний об основах морали, политики, права. Философия, имеющая дело с идеями в самых разных областях знания, и мыслилась как преимущественно идеология в ее высшей фазе развития.
Чуть позже данный термин обрел еще один смысл, – более уничижительный – обозначая все то, что не является наукой и не обладает поэтому значением истинного, общеобязательного знания. Идеолог – не ученый, а носитель определенной системы идей, выражающей интересы определенного класса или какой-то социальной группы. В таком значении идеология и стала предметом критики, но не философской, а научной.
Первым и наиболее радикальным критиком идеологии был, как известно, Карл Маркс, но к идеологии он относил и всю философию, ставя перед собой задачу заменить ее наукой – в первую очередь исторической наукой, названной им материалистическим пониманием истории. «Немецкой идеологией» он вместе с Энгельсом назвал всю известную им немецкую философию того времени, стремясь подвести под ней и под своим собственным философским прошлым окончательную черту. На место философии, согласно Марксу, должна прийти не просто наука, а наука в сочетании с особым типом революционной практики, только и способной покончить с любой идеологией, со сведением истории людей к истории идей. Философию истории, которую Кант при всем своем скептицизме никак не отвергает, Маркс посчитал последним прибежищем философского идеализма, следовательно, и самой идеологии. Но о Марксе разговор особый.
Столь же неясно для меня, что Эрих Юрьевич понимает под «критикой». В чем смысл этой критики – в отрицании любой идеологии или в ее замене на более приемлемую? Пример с критикой «товарного фетишизма» Марксом, на которую он ссылается, не кажется мне слишком убедительным. Феномен «товарного фетишизма», на мой взгляд, не относится к разряду идеологических явлений, а порожден «объективной видимостью» существования общественного свойства товара (стоимости) в качестве его вещественного, природного свойства. Эта видимость исчезает под воздействием не философской, а научной, исторической критики товарного производства и его практического устранения. Само слово «критика» означало для Маркса не голое отрицание, а признание любого существования в качестве не вечной («естественной»), а исторически конечной величины, имеющий свое начало и конец. Она есть перевод вечного в конечное, в исторически преходящее. Идеология – из того же ряда исторических явлений: она имеет свое начало и свой конец.
Но тогда что Эрих Юрьевич называет идеологией? Что ее может заменить в сфере сознания и политики? Идеологию, видимо, следует отличать от того, что принято называть информационной войной и пропагандой. Если идеология – необходимый элемент любой политики в демократическом обществе, то пропаганда – орудие в руках тех, кто хочет упрочить и сохранить свою власть на неопределенно длительный срок. Пропаганду часто называют также идеологической, но у того, что она выдает за идеологию, нет и не может быть никакой альтернативы в общественном сознании. При всей нелюбви Э.Ю. Соловьева к советской идеологии, называвшей себя единственно верной, все же не философия стала главной причиной ее поражения. От советской идеологии, претендовавшей на идейную монополию, естественно, отвернулись (хотя далеко не все), но ведь сама идеология, пусть с иными значениями, никуда из нашей жизни не исчезла. И можно ли обойтись без нее в наше время? Здесь есть смысл вновь обратиться к Марксу, хотя его критика идеологии с позиции науки также не во всем безупречна, о чем писал Карл Манхейм в своей книге «Идеология и утопия»[84 - Манхейм К. Идеология и утопия / Пер. с нем. М.И. Левиной // К. Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. C. 7–276.].
Не без влияния Маркса у нас принято противопоставлять идеологию науке. Если наука имеет характер объективной истины, то идеология выдает за нее чей-то субъективный интерес. Будучи, согласно Марксу, «классовым сознанием», она стремится представить его как «всеобщее знание» Частное она выдает за всеобщее, то есть за науку. В этом состоит ложь любой идеологии. В классовом обществе идеология – одна из форм классового господства, превращающая, по словам Маркса, мысли господствующего класса в господствующие мысли.
Маркс, разумеется, не отрицал важной роли идеологии в человеческой истории, ее практической значимости для определенных классов, но делал исключение для пролетариата, который, будучи «всеобщим классом», выражающим общечеловеческий интерес, обязан и мыслить всеобщим образом, то есть научно. Соответственно учение, выражающее интересы пролетариата, может быть только наукой. Таким, согласно Марксу, и было его собственное учение.
По иронии истории учение, претендовавшее при своем возникновении на преодоление всяческой идеологии, чуть позже превратилось в идеологию по преимуществу, правда, с добавлением эпитета «научная». Все остальные идеологии объявлялись «буржуазными» и, следовательно, антинаучными. Кому могло прийти тогда в голову, что вскоре у нас и сам марксизм будет причислен к научно бесплодным, ложным и даже вредным идеологиям? Что же предопределило неудачу главной претензии марксизма – быть не идеологией, а наукой?
Причина, конечно, заключена в самом марксизме, попытавшемся сочетать несочетаемое – научность и классовость, истину и интерес, пусть и пролетарский. Своим учением Маркс претендовал как бы на двойной синтез – на его соединение с рабочим движением, с одной стороны, и наукой – с другой, то есть на создание чего-то вроде «пролетарской науки». В этой двойственности – исходное противоречие марксизма, сыгравшее роковую роль в его истории. Рабочий класс оказался совсем не тем, чем он мыслился в начале ХIХ в., – не столько классом, сколько профессией. Уже ближайшие соратники и ученики Маркса истолкуют его учение как прежде всего идеологию своей партии. В российском варианте превращение учения Маркса сначала в партийную, а затем государственную идеологию было доведено до логического конца, причем за счет даже тех элементов научности, которые в нем содержались. И все же именно Маркс, несмотря на свой явный просчет в отношении исторической роли пролетариата, ближе остальных мыслителей подошел к пониманию сути и причин возникновения идеологии.
Из поля зрения советских философов – даже тех, кто посвятил себя изучению и пропаганде теоретического наследия Маркса, – фактически выпало то, что образует важную отличительную черту этого наследия. Разговор о сознании вообще и идеологии в частности Маркс переводит из плоскости отражения сознанием бытия, на чем особенно настаивал Ленин, в плоскость его производства людьми в определенных общественных обстоятельствах. Маркса менее всего можно назвать теоретиком познания, гносеологом и даже логиком, во что его превратили советские философы, даже лучшие из них, причем не без влияния ленинской теории отражения. Сознание интересует Маркса не в плане отражения им действительного – природного и общественного – мира (подобное наивно-материалистическое понимание сознания было отвергнуто им с самого начала), а в плане его производства людьми, подобно тому, как они производят полезные для себя вещи. Производство сознания (представлений, идей и пр.) и производство вещей (предметов потребления и орудий труда) образуют единый процесс общественного производства, который в ходе своего общественного разделения распался на два относительно самостоятельных вида производства – материальное и духовное. Если в начале истории оба они тесно переплетены друг с другом и трудно различимы, то в результате общественного разделения труда производство идей (духовное производство) отделяется от производства вещей (материальное производство), образуя огромный мир идей (Маркс назовет их «идеологически составными частями духовного производства»), включающим в себя все формы общественного сознания за вычетом лишь научных понятий и представлений. Но что объединяет эти два вида общественного производства? Для философов всегда было загадкой, как мир идей согласуется с миром вещей. Декарт превратил эти миры в самостоятельные субстанции, регулируемые Богом, Спиноза – в атрибуты единой субстанции, то есть самого Бога. Маркс предложил решить ту же проблему не метафизически (то есть философски), а сугубо практически: достаточно преодолеть общественное разделение материального и духовного труда, и вопрос, так долго мучивший философов, отпадет сам собой. По этой логике, все философские вопросы не имеют чисто научного решения, решаются не теоретически, а только практически, посредством изменения общественного бытия человека. Соответственно никакая наука сама по себе без определенного типа общественной практики не может устранить идеологию.
Как же согласуются между собой вещи и идеи, иными словами, материальное и идеальное? Этот вопрос в свое время послужил поводом для полемики между Э.В. Ильенковым и М.А. Лифшицем о природе идеального. На эту тему до сих пор спорят их единомышленники. Оба, естественно, выводили идеальное из материального, но Ильенков из материальной (предметной) деятельности людей, а Лифшиц из самой природы. Для Ильенкова идеальное заключено «в самих предметах», как они созданы человеческим трудом (в этом он усматривал свое отличие от Гегеля, для которого идеальное – продукт исключительно духовной деятельности), для Лифшица идеальное создается самой природой. Но вопрос о связи идей и вещей за пределами материальной деятельности (например, в деятельности того же философа) повисал в воздухе. Не материальная же деятельность создает философские идеи. А вместе с ним повисал в воздухе и вопрос о происхождении идеологии. Как связаны друг с другом вещи (товары) и идеи, деньги и логика, которую Маркс называл «деньгами духа»? Хотя Лифшиц и Ильенков считали себя и были марксистами, они так и не вышли за пределы чисто философской постановки этого вопроса, как бы ее ни называть – онтогносеологией или диалектической логикой. Какая логика может объяснить происхождение идей (идеального) из вещей (материального)? Для самого Маркса связь между тем и другим существует в силу того, что в форме производства вещей и идей люди одновременно производят свои общественные отношения.
Здесь мы подходим к тому, что Маркс считал своим главным открытием. Что люди производят полезные для себя вещи – продукты питания, одежду, жилище, домашнюю утварь, орудия охоты и труда, знали задолго до Маркса, и в том не было никакого открытия. Маркс открыл способность труда производить не просто вещи, а отношения между людьми в форме вещей, то есть самих людей как общественных существ. В письме к Анненкову от 1846 г., содержащем критику Прудона, Маркс писал: «Г-н Прудон очень хорошо понял, что люди производят сукно, холст, шелковые ткани, и не велика заслуга понять так мало! Но чего г-н Прудон не понял, так это того, что люди сообразно своим производительным силам производят также общественные отношения, при которых они производят сукно и холст»[85 - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27. М., 1962. С. 408.].
К этому Маркс добавляет: «Еще меньше понял г-н Прудон, что люди, производящие свои общественные отношения, соответственно своему материальному производству, создают также идеи и категории, то есть отвлеченные, идеальные выражения этих самых общественных отношений»[86 - Там же. С. 409.]. Тем самым вещи и идеи возникают как прямое следствие способности людей производить свои общественные отношения, но в условиях, когда их труд получает отчужденную от них форму существования, то есть совершается не по их, а по чужой воле.