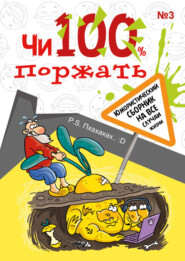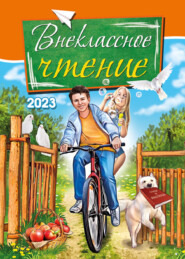По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия и идеология: от Маркса до постмодерна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ситуации материального производства, движимого интересами не самих непосредственных производителей, а частных собственников на средства производства, люди производят свои отношения в форме отношения вещей (товаров), в «вещной форме», как бы скрывающей эти отношения от их глаз. Соответственно, в духовном производстве те же самые отношения воспроизводятся в форме уже не вещей, а идей, в идеальной форме. Сознание как «осознанное бытие», согласно Марксу, означает не отражение сознанием бытия, а существование бытия в осознанной форме, которую оно получает в процессе производства идей. Идея и есть отношение, как бы мысленно освобожденное от своей материально-вещественной оболочки, а идеология – способ «перевода» этого отношения с языка вещей на язык идей. «Отношения, – писали Маркс и Энгельс в “Немецкой идеологии”, – становятся в юриспруденции, политике и т. д. – в сознании – понятиями…»[87 - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955. С. 76.]. «Отношение для философов равнозначно идее. Они знают лишь отношение “Человека” к самому себе, и потому все реальные отношения становятся для них идеями»[88 - Там же. С. 64.]. И еще четче: «…отношение, то, что философы называют идеей…»[89 - Там же.].
Любое общественное отношение, коль скоро оно отчуждено от человека, от него прямо не зависит, получает в сознании форму идеи, разумеется, не только философской. Характер этой идеи прямо зависит от типа заключенного в них отношения. Отношение непосредственно личной зависимости на ранних этапах истории (рабство, крепостничество) и отношение личной свободы при сохранении вещной зависимости при капитализме предстают в разных идеологических обличиях. Классическая философия Нового времени – это идеология периода освобождения индивида от всех форм его личной зависимости при сохранении его вещной зависимости от тех, кто на правах частного собственника владеет основными средствами производства. Эпитет «буржуазная» в отношении этой философии в этом смысле вполне оправдан. Она и есть идеология буржуазного, или гражданского, общества, базовые отношения которого возводятся ею в ранг господствующих идей своего времени.
Переход от Средневековья к Новому времени сопровождался, как известно, вторым рождением европейской философии (первое состоялось во времена греческой Античности), положившем начало всем основным идеологиям того времени. Каждая из них содержала в себе определенный «проект модерна», свое видение желаемого будущего. Если родившийся в эпоху Возрождения гуманизм получил свое продолжение в идее коммунизма (Маркс называл коммунизм «практическим гуманизмом»), то философия английского, а затем французского Просвещения сформировала идеологию либерализма и отчасти утопического социализма, а философия романтизма во многом повлияла на идеологию консерватизма. Нельзя не заметить прямой связи классической философии с основными идеологиями послереволюционной эпохи. Само расхождение между гуманистами, просветителями и романтиками в оценке рождавшегося нового общества послужило источником появления этих идеологий.
По замечанию И. Валлерстайна, уже три великие классические идеологии Нового времени – консерватизм, либерализм и социализм, – ставшие своеобразной реакцией на последствия Французской революции, свое главное отличие друг от друга видели в том, «против кого они выступают»[90 - Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 79.]. Только наличие противника придавало им характер идеологии – классово сплачивающей и объединяющей идеи. Консерваторы пытались минимизировать, смягчить последствия Французской революции, либералы принимали их целиком и полностью, социалисты отвергали в силу отсутствия подлинного равенства и социальной справедливости. Если в эпоху Средневековья философия еще находилась во власти религиозного культа, то в процессе становления буржуазного общества она претендует на роль его главной идеологической легитимации. И только радикальное отрицание буржуазного общества со стороны левых сил попыталось придать этому отрицанию характер уже не идеологии, а науки.
В наше время, как пишет тот же Валлерстайн, в результате структурного кризиса капиталистической мироэкономики и ее перехода в какое-то новое качество, сравнимого с крупной «бифуркацией» с неопределенным исходом, – судьба этих идеологий, уже сейчас заметно сблизившихся между собой, оказывается под вопросом. Возможно, им на смену придет какая-то новая идеология или целая серия разных идеологий. «Мы не можем прогнозировать мировоззрение (мировоззрения) системы (систем), которая возникнет на развалинах нынешней. Мы не можем сейчас вести речь о тех идеологиях, которые возникнут, или о том, какими они будут, если они будут вообще»[91 - Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 25.].
И после крушения капитализма Валлерстайн не исключает сохранения между людьми идеологических перегородок. Число идеологий разного уровня, активности и направленности явно возрастает в наше время, что свидетельствует об усложняющейся дифференциации современного мира по разным основаниям. Классификация и характеристика этих идеологий не входит в нашу задачу. Но напрашивается вывод: говорить о конце идеологии в наше время явно преждевременно. Иное дело, что они обретают новое качество по сравнению с тем, чем были раньше. Как правило, классическими. В большинстве своем они уже не так привержены идее индивидуальной свободы, что как раз и свидетельствует о разрыве идеологии с философской классикой.
В ситуации происходящей ныне трансформации буржуазного общества в какое-то новое качество, о чем пишет Валлерстайн, философы как бы уступили свою роль идеологов представителям других профессий – политологам, геополитикам, социальным программистам и пр., а то и просто журналистам и публицистам. Похоже, не философия, а именно идеология, правда, совсем иного качества, вышла победителем. Борьба идей все более сменяется борьбой компроматов, когда бьют уже не по идеям, а по лицам, на смену идеологам пришли пропагандисты, политтехнологи, имиджмейкеры, специалисты по пиару и пр. Голосуют (если вообще голосуют) уже не умом и даже не сердцем, а глазами. Возможно, для современного человека философия, как считают многие философы, вообще утратила какой-либо общественный смысл.
Но чем реально может быть философия в сложившейся ситуации? Провозгласив когда-то своей главной целью (идеей) духовную и правовую свободу индивида (на чем, собственно, и строилась вся классика), она так и не нашла пути его освобождения от вещной зависимости в мире капитала. В итоге свобода каждого в обществе так и осталась всего лишь философской идеей, весьма далекой от экономической реальности. Наступила эпоха «кризиса классической философии». Любые попытки ее продолжения или возрождения, о чем, как я понял, мечтает Эрих Юрьевич, не встречают отклика в мире внеличных и технически высокоразвитых социальных институтов. Теперь свободу предпочитают искать не в рационально организованном социуме, а за его пределами – в потаенных глубинах человеческой экзистенции.
У меня нет здесь возможности дать исчерпывающую характеристику постклассической философии. На мой взгляд, в своей значительной части она демонстрирует отказ от создания какой-либо новой идеологии, обращенной к конкретному классу или партии (при всей возможной политической ангажированности ее авторов), претендуя, скорее, на роль некоторой разновидности интеллектуального чтения для узкого круга потребителей. Свое предназначение подобная литература видит теперь в философской саморефлексии ее авторов, рассчитанной на читательский спрос без сколько-нибудь четкого социального адреса. Каждый волен искать для себя философию по своему вкусу и разумению, что, конечно, расходится с попытками классической философии придать своим выводам и обобщениям характер общезначимой истины. Сегодня каждый сам себе философ, а ныне существующая профессиональная философия все более обретает камерный вид мысленного эксперимента интеллектуала-одиночки, сближаясь в чем-то с элитарным искусством и литературой. Какая философия может претендовать сегодня на роль мобилизующей идеологии нашего времени, способной сплотить вокруг себя достаточно большое число людей?
Разумеется, никакие идеи сами по себе не могут заменить людям реальной жизни. Но можно ли обойтись вообще без идей? Маркс отвергал любую форму фетишизма – не только товарного, но и идейного, наделяющего идеи видимостью самостоятельной жизни. Власть абстрактных идей (то есть выраженных в них общественных отношений) над человеком и есть идеология в точном смысле этого слова. Покончить с ней можно только одним путем – передав эту власть самим людям. Но как это сделать? Маркс, конечно, ошибся в своем прогнозе конца философии после Гегеля. Но постклассическая философия, пытаясь наметить новые пути человеческой эмансипации в мире современной цивилизации, так и не достигла того уровня идеологического влияния на общество, который бы присущ классической философии. Поколебать веру в силу идей той же эпохи Просвещения ей удалось, но сменить их на более влиятельную идеологическую систему у нее не получилось. В итоге постклассическая философия утратила роль главного «властителя дум» своего времени, уступив ее тем, кто далек от всякой философии. Идеология в наше время, похоже, уже не нуждается ни в какой философии. Но в таком качестве она становится носителем идеи не индивидуальной свободы, а власти над людьми государства, корпорации или какой-то иной общности – этнической, религиозной, геополитической и пр.
Идеология может окончательно исчезнуть, как уже говорилось, под воздействием не просто ее научной и тем более философской, но ее практической критики, критики делом, освобождающей людей от их вещной зависимости в рабочее время. Последнее становится возможным в результате превращения основного времени их жизни в свободное время, которое Маркс называл подлинным «царством свободы», находящимся «по ту сторону материального производства». На смену «абстрактным индивидам», живущим под властью идей, приходит «свободная индивидуальность», не нуждающаяся ни в какой возвышающейся над ней идеологии. Свободное время превращает идеи в то, чем они являются по своей сути – в отношения самих людей, способных общаться друг с другом в меру своих природных дарований и лично усвоенной культуры. Свободен ведь не тот, кто просто исповедует идею свободы, но кто реально может свободно избирать свой образ жизни и форму общения с другими людьми. На смену всего лишь «осознанному бытию» приходит сознательное бытие.
Освобождение человека от власти идеологии посредством перехода к свободному времени может показаться не менее утопическим решением данной проблемы (при всем желании Маркса представить это решение как строго научный вывод), чем желание устранить идеологию путем ее чисто философской критики. В отличие, однако, от этой критики свободное время позволяет человеку реально преодолеть отчужденный характер своих общественных отношений, превратить их в отношения самих людей и тем самым навсегда покончить с их существованием лишь в форме вещей или идей. Концом идеологии, с этой точки зрения, может быть, следовательно, не философия, якобы призванная заменить ее собой, и даже не сама по себе наука, а такая общественная система, в которой время человеческой жизни принадлежит самому человеку, живущему в нем, и которым он может распоряжаться по собственному усмотрению. Иными словами, власти идей над человеком может противостоять только свобода человеческих отношений.
А.В. Рубцов
Иллюзии деидеологизации
Между реабилитацией идеологического и запретом на огосударствление идеологии[92 - Впервые опубликовано: Рубцов А.В. Иллюзии деидеологизации. Между реабилитацией идеологического и запретом на огосударствление идеологии // Вопр. философии. М., 2018. № 6. С. 66–75.]
1. Как можно говорить об идеологии с позиций философии
Выступлению, предварившему данную статью[93 - Реферат и видеотрансляцию доклада «Иллюзии деидеологизации» на Общеинститутском семинаре Института философии РАН 14 декабря 2017 г. см.: Рубцов А.В. Иллюзии деидеологизации. К концепции «диффузной» и «проникающей» идеологии. Реферат доклада (части 1 и 2): Https://Iphras.Ru/Uplfile/ Root/News/Archive_Events/2017/14_12_2017.Pdf Https://Iphras.Ru/Uplfile/Root/ News/Archive_Events/2017/14_12_2017_2.Pdf. Видеотрансляция: Https://Www. Youtube.Com/Watch?V=Rhlbn9Gp1Je&App=Desktop.], в рамках Общеинститутского семинара ИФ РАН предшествовали доклады Э.Ю. Соловьева «Философия как критика идеологий»[94 - Тезисы, видеотрансляцию и статьи см.: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Проспект доклада: Https://Iphras.Ru/Uplfile/Root/News/ Archive_Events/2016/07_06_2016_Soloviev.Pdf. Видеотрансляция: Https:// Iphras.Ru/Page24871165.Htm; Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть I // Филос. журн. М., 2016. Т. 9. № 4. С. 5–17; Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть II // Филос. журн. М, 2017. Т. 10. № 3. С. 5–31.] и В.М. Межуева «Философия как идеология»[95 - Видеотрансляцию и статью см.: Межуев В.М. Философия как идеология. Видеотрансляция: Https://Iphras.Ru/27_04_17.Htm; Межуев В.М. Философия как идеология // Филос. журн. М, 2017. № 4. С. 172–180.]. Различия этих подходов напоминают о разнообразии форм суждения об идеологии с позиций философии[96 - См.: Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука. 2003. № 4. С. 8–31; Рубцов А.В., Любимова Т.Б., Сыродеева А.А. Практическая идеология. К аналитике идеологических процессов в политической и социокультурной реальности. М., 2016.].
Такого рода принципиальные различия в подходах часто не отслеживаются участниками полемики, дискутирующими по конкретным поводам, но при этом реализующими «по умолчанию» гораздо более общие интенции, друг с другом плохо совместимые или несовместимые вовсе.
Речь, таким образом, идёт о теневой и латентной, непромысливаемой идеологии, не только задействованной в политике или где-либо ещё, но и стоящей за кадром философствования о чем угодно, в том числе об идеологическом. Даже в очень концентрированных и при этом, казалось бы, вполне теоретических дискуссиях их участниками сплошь и рядом реализуются стратегии фоновой идеологии, аналогичные тем, что работают в системах власти, в масштабах социума и государства – с теми же иллюзиями деидеологизации и эффектами идеологической дрессуры, манипуляции сознанием аудитории, оппонента, а часто и своим собственным. То, что власть посредством идеологии проделывает с массой, человек легко повторяет в споре или в общении с самим собой – самовнушением, самооправданием, рационализацией, идеализацией и пр. «Сознание для других» реализуется в «другом себе» по тем же лекалам. Схемы господства и подчинения реализуются в том числе и как схемы идейного господства над собой – и (или) подчинения себе, своим же собственным внушениям и концептуализации. Полемика уподобляется идеологическому микросоциуму.
В этом плане вышеозначенные доклады одновременно и схожи внешне, и различны по установкам. На первый взгляд, это полемика внутри одного интеллектуального тренда и поколения, одной философской культуры. Но вместе с тем, в ней реализованы разные установки в зазоре между чистой теорией и живой реальностью, а тем самым и разное конституирование самого предмета. Не случайно В.М. Межуев начинает свой доклад с заявления о том, что в тексте Э.Ю. Соловьева «Философия как критика идеологий» ему непонятны «всего» три момента: что такое «философия», что такое «идеология» и что такое «критика». Даже если это всего лишь литературный «арабеск», проблема есть, и она много шире семантических неурядиц.
Речь не о формальных определениях ключевых понятий дискуссии. Гуманитариям, чувствительным к симуляции «строгой научности», вообще свойственно избыточное доверие к возможностям лексических, формальных дефиниций. Однако эти процедуры, как известно из логической семантики и теории определения, далеко не всемогущи. В любом случае они упираются в альтернативу «дурной бесконечности», когда приходится вводить все новые ранее не определённые термины, и «порочного круга», в котором понятие рано или поздно определяется через самоё себя. Не менее приемлемыми и даже необходимыми считаются и другие типы определений: операциональные, остенсивные, контекстуальные[97 - «В лексических определениях мы поясняем язык через язык. Поэтому в их рамках невозможно избежать определённого замкнутого круга. Свидетельством этого являются одноязычные словари. Как отмечает К.И. Льюис, ряды лексических определений отличаются между собой лишь величиной кругов, к которым они ведут, то есть числом операций определения, в результате которых в определяющем появляются термины, для которых ранее были построены другие лексические определения. Попытка избежать порочного круга в лексических определениях приводит к другой крайности – к так называемой дурной бесконечности. Выход из этой альтернативы состоит в допущении внелингвистических – остенсивных и операционных – определений, в рамках которых некоторое число терминов, так называемый “минимальный словарь”, усваивается познающим субъектом с помощью непосредственного соотнесение этих терминов с воспринимаемыми наглядными (“остенсивными”) или поведенческо-праксеологическими ситуациями или контекстами. Семантическая теория в конечном итоге должна опираться на поведение и праксеологию» (Попа К. Теория определения. М., 1976).].
Известную неопределенность понятий вообще не надо излишне, а тем более специально драматизировать. Из представленных в дискуссии контекстов достаточно ясно, о какой философии, идеологии и критике идёт речь. Вопрос скорее в том, насколько эти трактовки актуализированы в плане их соответствия расширенному смысловому объему проблемы, как она представлена теоретически и особенно практически здесь и сейчас – в наше время и в наших условиях. В новой ситуации этого смыслового объема может элементарно не хватать. Речь, таким образом, даже не о конкуренции частных трактовок и соревновании дефиниций, но об изменениях в задачах, смыслах и самих формах существования философии и идеологии в постсовременном контексте. Не исключено, что в условиях постмодерна вообще уже нет той «вечной» философии, которая поддерживает этот спор и эту борьбу, и нет той привычной открыто торжествующей идеологии, с которой эта философия продолжает мужественно бороться.
Более того, предметный анализ показывает, что этой прежней, хорошо различимой и организованной идеологии все меньше уже и в самой политике. Идеологическое сохраняется, но в новых ипостасях и других организованностях. В результате можно писать очень разумные, неотразимые и даже отчаянно острые тексты, но с практической точки зрения это будут ковровые бомбардировки оставленного плацдарма. При этом позиции «нового идеологического» окажутся незатронутыми.
Фундаментальное различие в самих интенциях философствования обнаруживается и в более общем, в том числе отечественном опыте. Строго говоря, это вообще два разных типа интеллектуальной работы – исследователей и исследований. Либо это подчёркнуто академические и отвлечённые спекуляции от автора к автору, от мысли к мысли и из книги в книгу (философия как самодостаточная эволюция идей и представлений). Либо, наоборот, погружение в «злобу дня» и отталкивание от той или иной жизненной проблемы, «внешней» по отношению к собственно философской теории. Вечный спор между «правильным» и «полезным»[98 - В своё время у нас эта «практическая», а в известном смысле и политическая ориентация философии усиленно продвигалась И.Т. Фроловым, всей стратегией тогдашнего журнала «Вопросы философии». Поскольку трудно было рассчитывать, что научная идеология так легко впустит на свою территорию практическую философию, предпринимались в основном обходные манёвры: «философия и актуальные проблемы современности», «философия человека» и пр. В наше время одним из наиболее продуктивных примеров «философской работы» является биоэтика, основы которой в России заложил Б.Г. Юдин, продвигавший это активно развивающееся направление как на отечественной почве, так и во взаимодействии с международными биоэтическим сообществом. Такая деятельность менее ориентирована на «написание книги», но предполагает систематическое и концептуально, методически выверенное взаимодействие как с философской и научной средой, так и с практикующей биомедициной, межгосударственными институциями, законодательной и исполнительной властью, гуманитарными и религиозными организациями. В последнее время Б.Г. Юдин формулировал эту позицию следующим образом: «философия как гуманитарная экспертиза». Здесь философия фундаментальных апорий вплоть до критичных переходов жизни и смерти неотделима от идеологии живой, реальной деятельности.].
Различия исходных установок, условно говоря, универсализма и вмешательства обычно хорошо видны, хотя чаще их списывают на особенности профессионального этоса и личного темперамента. Иногда приходится даже слышать, что такого рода прямо актуализированная интеллектуальная и коммуникационная деятельность, при всем к ней уважении, вообще не есть философия. При этом не учитывается, что здесь проявляется гораздо более общая тенденция в философии постмодерна и, в частности, постсовременного прагматизма. Ричард Рорти считал, что философия в традиционном смысле слова все более ограничивает свои универсалистские претензии на высшее интегративное знание, компенсируя такого рода «потери» непосредственным подключением ко всему комплексу актуальных жизненных проблем (Рорти называл этот «смазыванием поверхностей»). Таким образом, у этой актуализированной и внедряющейся, проникающей философии есть своя идеология, и у этой идеологии есть своя профессиональная, авторитетная философия[99 - Подробнее см.: Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.,1997.].
2. Обусловленность, рефлексия и контексты
Такого рода интенции решающим образом влияют на выбор отношения к идеологии с позиций либо отвлеченно-«теоретической», либо актуально-ориентированной, «практикующей» философии. Э.Ю. Соловьев так комментирует жанр своего текста: «Это ни в коем случае не теория идеологий (занятие социологическое). Это ориентирующая схема контридеологической аналитики, которую философское просвещение, если оно еще возможно, должно противопоставить нынешнему массированному наступлению на разумность»[100 - Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть I // Филос. журн. 2016. Т. 9. № 4. С. 6.]. Даже если сомневаться в корректности именно социологической прописки теории идеологии, эта актуализированная контридеологическая позиция по-человечески, граждански совершенно понятна и обусловлена хорошо узнаваемым политическим контекстом. Здесь как раз предельно ясно, чем аналитик озабочен в конфликте философии и идеологии и с чем он считает необходимым разобраться в концепции и в жизни. Доклад В.М. Межуева в этом отношении, наоборот, более тяготеет к универсалистской традиции – классический «метанарратив». То, что Д.Б. Дондурей в своей редакторской практике называл «взглядом из окна», здесь если и присутствует, то явно на втором плане. Надо иметь особую принципиальность, чтобы в таких отвлечениях говорить об идеологии в Москве 2017 г. Это как рассуждать о небе над головой, когда на голову падает крыша.
Конфликтное взаимопревращение и взаимопроникновение философии и идеологии вынуждает признать, что у нас нет ни малейших оснований не исследовать позиции друг друга точно так же, как мы исследуем подноготную всех других идеологий, являющихся для нас предметом критического анализа. Тем более интересно, когда даже ученики Маркса в анализе идеологий представляются друг другу ничем земным не замутненными источниками чистых идей. Аналитические техники «Немецкой идеологии» или «18 брюмера…» применяются к чему угодно, но не к друг другу и не к самим себе. Будто из вежливости, из поля зрения анализа и самоанализа исключаются интересы и скрытая ангажированность, предрассудочные формы, объективации, не зависящие от сознания, и пр.
Вместе с тем у нас нет никаких прав на привилегированное положение, которое выводило бы из-под такого рода критики и самокритики. Ничто не отменяет необходимости отслеживать в любом философствовании об идеологии своей собственной идеологической установки, формирующейся под воздействием внешнего живого контекста.
В реальности все ещё сложнее. В отношении коллег мы «физически» не можем и методологически не имеем права об этом не думать, но и каким-то образом ограничены в возможности откровенного публичного высказывания. На этой констатации приходится остановиться из опасения этических и межличностных напряжений, хотя именно здесь скрыты мотивы выбора между «башней из слоновой кости» и «смазыванием поверхностей». Ничего личного – только напоминание о возможностях аналитической антропологии и социологии, продуктивной бесцеремонности биографического анализа и т. п.
Тем более значим анализ контекста, в который погружена дискуссия ближайшей предысторией и близкими обстоятельствами. Если прошлые поколения могли сказать о себе «все мы вышли из сталинской шинели», то и сейчас следы переживания советских реалий часто решающим образом влияют на отношение к идеологии вообще и на характер работы с самим этим предметом.
3. Идеологическая идиосинкразия и мнимости идеократии
Потребность в коррекции представлений об идеологии в нашем случае задана крутыми изменениями в транзите от советской к постсоветской модели и особенно новейшими мутациями всей сферы идеологического. Однако начинать приходится с анализа пусть отчасти условной, но все же достаточно внятной идеократии советского издания.
Важный признак – главенствующее положение идеологии в структуре мифа-основания государства. Генсек явно или подспудно выступает как идеолог – если успевает дотянуть до этого статуса. В своё время был подготовлен циркуляр, предлагавший в номенклатурных изданиях впредь именовать Маркса, Энгельса и Ленина «основоположниками» – позиция «классика» освобождалась для Брежнева. Далее по списку: секретарь по идеологии как второй человек в государстве, позиции идеологического отдела ЦК, сравнимые разве что с орготделом; место идеологии в экономике, управлении и политике, в самосознании общества и т. д., включая систему образования и политпросвещения. На идеологии держалась презентация страны в мире – вся «мягкая сила» глобальной экспансии, от соцлагеря до мирового коммунизма и освободительного движения в целом. Издательство «Прогресс» не случайно попало в «Книгу рекордов Гиннесса».
Вместе с тем нельзя не учитывать ряда принципиальных условностей такого рода идеократии. В строгом понимании идеократия, подобно бюрократии, обычно интерпретируется как «власть текста». Что не исключает в такого рода системах и прямо противоположного – реализации отношений господства и подчинения в форме «власти над текстом». У политиков и идеологов, как и у чиновников любой позиции в бюрократической вертикали, это принято скрывать. Классический пример – имитационная борьба советского режима с тем, чего не было: с «догматизмом» в идеологии и «бюрократизмом» в управлении. По большому счёту это была спаренная кампания[101 - Подробнее об этом см.: Рубцов А.В. Между «творческим догматизмом» и «демократической бюрократией» // Бюрократия и общество. М., 1991. С. 156–170.].
В отличие от рациональной бюрократии по Веберу, этот тип «власти стола» реализуется не в слепом повиновении норме, а, наоборот, в свободе манипуляции (норма как «надел кормления»). Помимо коррупционной составляющей в этой власти важен статус чиновника, самооценка его лично, группы и всего класса, вплоть до политических возможностей. Отсюда болезненная реакция на нормы прямого действия (тем более не ведомственные, а законодательные) при клонировании и активной эксплуатации норм открытых, отсылочных, неоднозначно интерпретируемых.
Эта схема взаимоотношения с каноническим текстом воспроизводилась и в идеологии. Решающими были процессы «расширенного воспроизводства» идеологии в социальном пространстве и историческом времени («расширенное воспроизводство сознания» – термин из недописанной книги «Бытие сознания», которую мы в своё время готовили под руководством Б.А. Грушина).
Если говорить о социальном пространстве, то речь идёт о тщательно скрываемых мутациях смысла «одной и той же» идеологии в социальной стратификации общества. Аутентичное воспроизводство смыслов считается в феноменологической социологии залогом социальной интеграции: люди могут жить вместе, только потому что как-то понимают друг друга. Но опыт советской идеократии говорит о парадоксально иной возможности – «интеграции через непонимание» в рамках особого рода «негативной герменевтики». В таких сборках идеологические клише по-разному понимаются («расширенно воспроизводятся») сознанием власти и всей идеологической клиентеллы (партноменклатуры, системы аппаратов, творческой и научно-технической интеллигенции, колхозно-пролетарских масс) – и эти комфортные для каждой страты мутации смысла скрепляют социум именно своим несовпадением. Если бы эти разные и разделенные сознания вдруг стали прозрачны друг для друга, результатом был бы раскол, если не социальный взрыв. Дезинтеграция как следствие неожиданного и функционально недопустимого «взаимопонимания»[102 - Подобные схемы могут иметь в определенных культурах почти универсальный характер. В постсоветский период они воспроизводились, например, в бизнесе, когда люди сначала вступали в совместное дело на легком дружеском недопонимании – а потом со стрельбой выясняли семантику понятий.].
Не меньшее значение для идеологической интеграции имели изменения смысла во времени – реинтерпретации марксистско-ленинской идеологии в советской истории. Партия якобы боролась с догматизмом, хотя сама же его насаждала внизу и не слишком ему следовала наверху. Эти мутации смысла в одной форме позволили стране прожить почти век с «одной и той же» философией, когда другие народы и страны за это время протестировали и сменили целый ряд существенно отличающихся друг от друга философией, интеллектуальных парадигм и светских религий. Ненаписанная история этой великой мутации заслуживает тем большего внимания, что именно она позволяла обслуживать номинально единой идеологией существенно разные политические, культурные, социальные, экономические, технологические и даже репрессивные практики. Нерушимая «монолитность» и «преемственность» идей при непревзойденной динамике смыслов и их превращений ставит вопрос даже не о количестве пережитых «марксизмов-ленинизмов», а о самом мифе их единства в немыслимых для единой идеологии трансформациях.
Пожалуй, единственное, что в этой истории совпадает с тем, что видно на поверхности, это реакция значительной части общества на засилье идеологии в советский период, особенно на излете. Эта оскомина сохраняется в нынешнем сознании философов, аналитиков и широких масс интеллигенции. У среднестатистического российского интеллигента, как у перефразированного Ганса Йоста, при слове «идеология «рука сама тянется к пистолету». Но наряду с этим сейчас заново выводится порода энтузиастов, готовых беззаветно отдаться идеологической работе и борьбе на службе новой идеократии. Как можно в таком контексте и с таким бэкграундом относиться к идеологии аналитически отстранённо – проблема, требующая специального анализа.
4. Деидеологизация или мимикрия?
Реалии деидеологизации с крушением советской системы достаточно общеизвестны: это тектонические изменения, имевшие последствия ментальные, концептуальные, политические, организационные и практические (на уровне обыденного сознания и структур повседневности). Все это уже отчасти было на закате брежневизма и в затакте «перестройки» и «нового мышления». Особенно впечатляют эти изменения в позициях идеологии, если иметь в виду две ипостаси идеологического: о чем говорят – и о чем не говорят, не дают говорить («идеологически несуществующее», «прореживание дискурса»). Слова и тексты, впервые или заново введённые в обращение, формировали принципиально новую идеологическую картину мира с другой её «историей» и «географией», с другим «пантеоном». Отдельно можно говорить о формирования «рынка идеологий» на месте идейного «госплана» и «госснаба».
Но сейчас гораздо интереснее исследовать не очевидное, а именно иллюзии и мнимости всей этой деидеологизации. При внимательном анализе эти изменения оказываются существенно менее масштабными и глубокими, чем принято считать. Идеологии не стало там, где мы привыкли её видеть – в атрибутах и символике государства, в системах её презентации и самопрезентации, в наблюдаемых структурах ограничения и контроля. Однако в оценках габаритов и качества этого процесса остаётся целый ряд весьма неоднозначных, а то и просто иллюзорных позиций.
Иллюзия первая: «Мы отменили старую идеологию».
На самом деле были отменены: государственная монополия на производство, интерпретацию и распространение идеологии, основные практики контроля и идеологических репрессий, официальная идеологическая символика. Идеология была демонтирована более как официальная риторика, система институтов и символов, чем как глубоко укорененная сборка идей и представлений. В сознании общества и в коллективном бессознательном, в толщах социальной жизни, в стереотипах индивидуального и массового поведения – везде остались неудаленные метастазы. Сейчас становится все более очевидным, что идейная демобилизация – не издание декрета о роспуске идеократии, а долгая, трудная работа – интеллектуальная, нравственная, организационная, политическая. У нас же сделали, как всегда: с людей сняли униформу, но не отучили ходить строем, а идеологическое оружие роздали всем желающим, в том числе разного рода теоретизирующим экстремистским формированиям. Сейчас все более очевидно, что старая идеология в глубинных её чертах готова к реанимации уже и самим государством, постепенно поднимающим на щит «советское» и даже достижения сталинизма. Велик риск, что скоро придётся фиксировать отсутствие следов деидеологизации не только «девяностых», но и конца «восьмидесятых». В этом процессе важно соотнести силу массированной идеологической индоктринации – и спонтанную, глубинную готовность массы отдаться новому воодушевлению.
Иллюзия вторая: «Идеология – это ложное сознание, которое отменить можно».
Подобные представления в проектах и мифах деидеологизации навеяны той самой идеологией, которая противопоставляла «ложному сознанию» сознание «истинное» и «научное», якобы свободное от искажающей идеологичности. Однако уже в интеллектуальной ситуации конца XX в. эта жесткая альтернатива выглядела устаревшей. Ряд фундаментальных методологических проектов показал, что эффект «теоретической веры» до конца не устраним даже из точной, позитивной науки, не говоря о знании гуманитарном и социальном. После афронта, случившегося с идеей «наука – сама себе философия», постклассическая методология относится к «идеологии внутри науки» не просто терпимо, но как к важной составляющей выработки, оформления и передачи знания. Что же касается постнеклассической науки, то ее диалог с обществом теперь ведется не с позиций «священной коровы», но с претензией на равноправие и с требованием публичного оправдания необходимости и самой возможности исследований. В этом смысле он оказывается идеологичным в самом банальном смысле этого слова.
Наконец, любой антиидеологизм при строгом рассмотрении сам на поверку оказывается идеологией на уровне метаязыка, то есть метаидеологией, часто весьма развернутой и рационализированной. На этом фоне идея изъять идеологию из общественной жизни и естественного, повседневного оборота сознания выглядит и вовсе утопичной. Здесь достаточно сослаться на «эффект Пигасова» из тургеневского «Рудина»:
– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?
– Нет – и не существует.