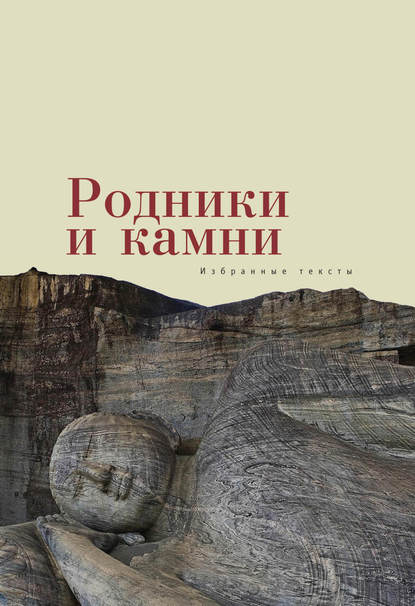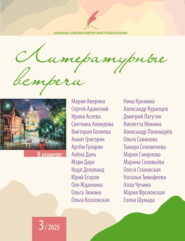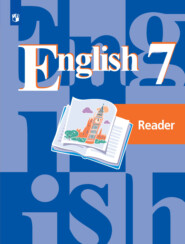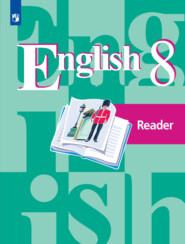По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родники и камни (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если труд и талант составляют две половины творчества, то память – его третья половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», – тогда эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание – единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту – и это тоже часть традиции – присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику – Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist».
Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.
VIII
Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции – и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, – в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, – но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература – дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.
Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.
Это – творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать – в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (unus in hoc nemo est populo, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем – вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.
IX
Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, – что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.
Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, – нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.
X
Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было). В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.
Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу – а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а в огромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события – всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, – пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.
Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее – настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.
XI
Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе – изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» – общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.
Ergo quod vivo durisque laboribus obsto, Nee me souicitae taedia lucis habent, Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes, Tu curae requies, tu medicina venis. Tu dux et comes es…[2 - Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, – тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник… – Овидий.]
To, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным – писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадёжней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить – или это всё та же заносчивость отщепенцев? – можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?
XII
Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция – это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:
Над нами небо – голубым горбом, За нами память – соляным столбом, Горит, объятый пламенем, Содом, Наш нелюбимый, наш родимый дом.
Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.
Париж и всё на свете
I
…Итак, я поселился «на Холме», a la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, – и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для полоскания белья, – кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», – когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, – то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, – и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacre-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.
II
О Париже сказано всё, как о любви – всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, – и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, – говорят, оттуда видно четыре штата, – в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать – по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, carrefour des lettres et des arts, как кто-то назвал его, – с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сиживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, – по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов – кто только не рылся в них, – по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?
III
Париж не меняется – по крайней мере, так утверждает молва, – и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках – всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, – повторение сказанного тысячу раз.
Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж – город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.
В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера – короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла – с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый – выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.
IV
Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» – после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей…
Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, – а мячик меж тем всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе – суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.
Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.
Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: некто. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, – он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, – мутный вихрь увлёк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.
V
Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа – «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, – это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига – всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, – им овладевают сомнения, рука не поднимается, – нет, он решительно не в силах».
De te fabula narratur – сказано о нас с тобой, приятель.
И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.
Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.
Король умер – да здравствует король!
VI
Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками – то ли прощаются, то ли зовут к себе.
Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от frango, ломаю)? Обломок чего-то; нечто начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.
Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. Мерное, последовательное повествование – достоянье других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.
Век миновал, «наш» век, – не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния – для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается круг, называемый petitio principii: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.
Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?
VII
От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти – старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение – механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Старение – потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.
Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. Словно великий Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за что попало.
Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.
VIII
Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции – и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, – в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, – но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература – дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.
Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.
Это – творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать – в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (unus in hoc nemo est populo, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем – вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.
IX
Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, – что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.
Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, – нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.
X
Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было). В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.
Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу – а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а в огромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события – всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, – пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.
Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее – настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.
XI
Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе – изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» – общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.
Ergo quod vivo durisque laboribus obsto, Nee me souicitae taedia lucis habent, Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes, Tu curae requies, tu medicina venis. Tu dux et comes es…[2 - Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, – тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник… – Овидий.]
To, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным – писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадёжней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить – или это всё та же заносчивость отщепенцев? – можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?
XII
Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция – это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:
Над нами небо – голубым горбом, За нами память – соляным столбом, Горит, объятый пламенем, Содом, Наш нелюбимый, наш родимый дом.
Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.
Париж и всё на свете
I
…Итак, я поселился «на Холме», a la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, – и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для полоскания белья, – кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», – когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, – то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, – и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacre-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.
II
О Париже сказано всё, как о любви – всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, – и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, – говорят, оттуда видно четыре штата, – в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать – по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, carrefour des lettres et des arts, как кто-то назвал его, – с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сиживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, – по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов – кто только не рылся в них, – по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?
III
Париж не меняется – по крайней мере, так утверждает молва, – и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках – всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, – повторение сказанного тысячу раз.
Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж – город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.
В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера – короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла – с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый – выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.
IV
Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» – после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей…
Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, – а мячик меж тем всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе – суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.
Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.
Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: некто. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, – он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, – мутный вихрь увлёк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.
V
Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа – «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, – это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига – всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, – им овладевают сомнения, рука не поднимается, – нет, он решительно не в силах».
De te fabula narratur – сказано о нас с тобой, приятель.
И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.
Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.
Король умер – да здравствует король!
VI
Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками – то ли прощаются, то ли зовут к себе.
Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от frango, ломаю)? Обломок чего-то; нечто начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.
Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. Мерное, последовательное повествование – достоянье других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.
Век миновал, «наш» век, – не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния – для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается круг, называемый petitio principii: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.
Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?
VII
От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти – старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение – механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Старение – потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.
Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. Словно великий Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за что попало.