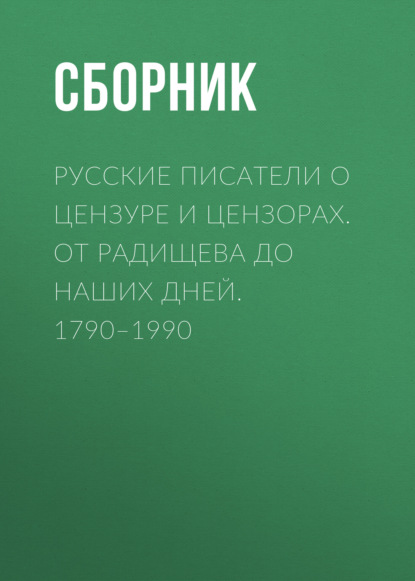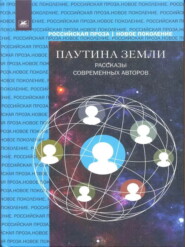По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
25 марта (6 апреля) 1855
Герцен А. И. Собр. соч. Т. XII. М., 1957. С. 269–271.
1853–1863
Десять лет тому назад, в конце февраля, было разослано объявление об открытии в Лондоне Вольной русской типографии.
В мае месяце вышел первый отпечатанный в ней лист[77 - Первая листовка под названием «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» вышла на самом деле в конце июня.], и с тех пор станок русский работал не останавливаясь.
Тяжелое время было тогда: Россия словно вымерла, целые месяцы проходили, и не было в журналах ни слова об ней; изредка появлялась весть о смерти какого-нибудь дряхлого сановника, о благополучном разрешении от бремени какой-нибудь великой княгини… еще реже доходил до Лондона сдавленный стон, от которого сердце сжималось и ломилась грудь; частных писем почти вовсе не было, страх приостановил все связи…
В Европе было иначе, но не лучше. Наступало пятилетие после 1848 года – и ни малейшей полоски света… темная, холодная ночь облегала со всех сторон…
С средой, в которую я был заброшен, я становился все далее.
Невольная сила влекла меня домой. Были минуты, в которые я раскаивался, что отрезал себе пути возвращения, – возвращения в эту Сибирь, в этот острог, перед которым шагал двадцать восьмой год, в своих ботфортах, свирепый часовой со «свинцовыми пулями» вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед! Как омуты и глубокие воды тянут человека темной ночью в неизвестную глубь – тянуло меня в Россию.
Нет, казалось мне, столько сил не могут быть задавлены так глупо, иссякнуть так нелепо… И мне представлялись живее и живее народ, печально сторонящийся и чуждый всему, что делается, и гордая кучка, полная доблести и отваги, декабристов, и восторженно юношеский круг наш, и московская жизнь после ссылки. Передо мной носились знакомые образы и виды: луга, леса, черные избы на белом снегу, черты лиц, звуки песен, и… и я верил в близкую будущность России, верил, когда все сомневались, когда не было никакого оправдания вере.
Может, я верил оттого, что не был сам тогда в России и не испытывал на себе оскорбительного прикосновения кнута и Николая, может, и от другого, но я крепко держался за мое верование, чувствуя, что когда я и его выпущу из рук, у меня ничего не останется.
Русским станком я возвращался домой, около него должна была образоваться русская атмосфера… могло ли быть, чтоб никто не откликнулся на это первое vivos voco?[78 - Зову живых (лат.). Эти слова стали постоянным эпиграфом к «Колоколу». В первую годовщину издания «Колокола» А. И. Герцен писал: «Живые – это те рассеянные по всей России люди мысли, люди добра всех сословий, мужчины, женщины, студенты и офицеры, которые краснеют и плачут, думая о крепостном состоянии, о бесправии в суде, о своеволии полиции, которые пламенно хотят гласности, которые с сочувствием читают нас» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. XIII. М., 1958. С. 298).]
Но «жив человек» на самом деле не торопился отвечать.
Весть о том, что мы печатаем по-русски в Лондоне, – испугала. Свободное слово сконфузило и обдало ужасом не только дальних, но и близких людей, оно было слишком резко для уха, привыкнувшего к шепоту и молчанию; бесцензурная речь производила боль, казалась неосторожностью, чуть не доносом… Многие советовали остановиться и ничего не печатать; один близкий человек за этим приезжал в Лондон[79 - Этим человеком был знаменитый русский артист, которому Герцен посвятил специальный очерк «Михаил Семенович Щепкин» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. XVII. М., 1959. С. 269–273). Герцен вспоминает, что осенью 1853 г. он получил письмо из Парижа, что «…такого-то числа Щепкин едет в Лондон через Булонь. Я испугался от радости… В образе светлого старика выходила молодая жизнь из-за гробов; весь московский период… и в какое время… десять раз говорил я о страшных годах между 1850–1855, об этом пятилетнем безотрадном искусе в многолюдной пустыне. Я был совершенно одинок в толпе чужих и полузнакомых лиц… Русские в это время всего меньше ездили за границу и всего больше боялись меня. Горячечный террор, продолжавшийся до конца Венгерской войны, перешел в равномерный гнет, перед которым понизилось все в безвыходном и беспомощном отчаянии. И первый русский, ехавший в Лондон, не боявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович. <…> Когда улеглось нервное раздражение, я мало-помалу заметил что-то печальное, будто какая-то затаенная мысль мучила честное выражение его лица. И действительно, на другой день мало-помалу разговор склонился на типографию, и Щепкин стал мне говорить о тяжелом чувстве, с которым в Москве была принята моя эмиграция», особенно появление книги «Развитие революционных идей в России». «Какая может быть польза от вашего печатания? – спрашивал Щепкин. – Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III отделение будет всё читать и помечать, вы сгубите бездну народа. Сгубите ваших друзей…» Герцен так ответил на такую просьбу: «Я знаю, что вы меня любите и желаете мне добра. Мне больно вас огорчить, но обманывать я вас не могу: пусть говорят наши друзья, что хотят, но типографию не закрою; придет время – они иначе взглянут на рычаг, утвержденный мною в английской земле. Я буду печатать, беспрестанно печатать… Если наши друзья не оценят моего дела, мне будет очень больно, но это меня не остановит, оценят другие, молодое поколение, будущее поколение». В конце очерка Герцен приводит забавный эпизод: впоследствии, когда начал выходить «Колокол», Щепкин пригрозил директору Императорских театров тем, что напишет туда по поводу задержки выплаты жалованья артистам.]. Это было тяжело. На это я не готовился. «Не они, откликнутся другие!» – и я шел своей дорогой, без малейшего привета, без теплого слова, т. е. без теплого слова из России; в Лондоне был человек, который понял иначе смысл нашего станка, – один из благороднейших представителей польского изгнания. Преждевременно состарившийся, болезненный Станислав Ворцель встрепенулся при вести о русской типографии, он помогал мне делать заказы, рассчитывал число букв, устроивал станок в польской типографии. Я помню, как он взял у меня со стола первый корректурный лист и, долго рассматривая его, сказал мне, глубоко тронутый: «Боже мой! Боже мой! До чего я дожил, вольная русская типография в Лондоне! Сколько дурных воспоминаний последнего времени стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей!»
Угасая, святой старик видел успех типографии и перед смертью благословил еще раз наш труд своей умирающей рукой.
Этот первый лист, о котором идет речь, был обращен к «русскому дворянству» и напоминал ему, что пора освобождать крестьян, и притом с землею – или быть беде. Второй был о Польше[80 - Первый лист – «Юрьев день! Юрьев день!». Второй – «Поляки прощают нас!»].
Крестьянское дело и польский вопрос сами собой легли в основу русской пропаганды. И вот с тех-то пор, любезный Чернецкий, мы десятый год печатаем с вами без устали и отдыха и имеем уже порядочную биографию нашего станка и порядочный ворох книг… Дайте вашу руку на новое десятилетие и не сердитесь, что я повторяю всенародно то, что я вам сто раз говорил наедине. Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это, в лице вашем польская помощь и участие в нашем деле не перемежались… Спасибо вам!.. …И тем больше спасибо вам, что начала наши были темны и бедны. Три года мы печатали, не только не продав ни одного экземпляра, но не имея возможности почти ни одного экземпляра послать в Россию, кроме первых летучих листов, отправленных Ворцелем и его друзьями в Варшаву, – все печатанное нами лежало у нас на руках или в книжных подвалах благочестивого Paternoster row.
Мы не уныли с вами… и печатали себе да печатали.
Книгопродавец с Berner street[81 - Paternoster row, Berner street – названия лондонских улиц.] как-то прислал купить на 10 ш<иллингов> «Крещеной собственности», я это принял за успех, подарил его мальчику шиллинг на водку и с несколько буржуазной радостью отложил в особое место этот первый гафсоврен[82 - Полсоверена.], выработанный русской типографией.
Сбыт в деле пропаганды так же важен, как и во всяком другом. Даже простой, материальный труд нельзя делать с любовью, зная, что он делается напрасно. Заставьте лучших в мире актеров играть в пустой зале – они будут играть прескверно.
Консистории, знающие по обязанности своего сана тонкость нравственных пыток, приговаривают попов за воровство, пьянство и другие светские слабости толочь воду.
Но не все же мы толкли воду с вами, Чернецкий, – пришел праздник и на нашей улице.
Он начался торжественно.
Утром 4 марта я вхожу по обыкновению часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Теймс»[83 - Английская газета «Таймс».], читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia»[84 - «Смерть императора России» (англ.).].
He помня себя, бросился я с «Теймсом» в руке в столовую, я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету… Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал.
Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон, я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то он умер!» Энгельсон по своему обыкновению прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.
Я велел подать шампанского, никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая, я не видал ни одного человека, который бы не дышал легче, узнавши, что это бельмо снято с глаза человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии.
В воскресенье дом мой был полон с утра: французские, польские рефюжье[85 - беженцы (фр.).], немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, уходили с сияющим лицом, день был ясный, теплый, после обеда мы вышли в сад. На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвал их к решетке и, сказав им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво и конфеты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре! – кричали мальчишки. – Impernikel is dead! Impernikel is dead!»[86 - «Имперникель умер».] Гости стали им тоже бросать сикспенсы и трипенсы, мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнеме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали: «Impernikel is dead! Уре!»
Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать «Полярную звезду». «“Да здравствует разум!” – невольно сорвалось с языка в начале программы. – Полярная звезда скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел, и “Полярная звезда” явится снова в день нашей Великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями». Начало царствования Александра II было светлой полосой.
Вся Россия легче вздохнула, приподняла голову и, будь воля, прокричала бы от всей души с твикнемскими мальчишками: «Impernikel is dead! Hourray!»
Под влиянием весенней оттепели и на наш станок в Лондоне взглянули ласковее. Наконец-то нас заметили. «Полярная звезда» требовалась десятками экземпляров, а в России ее продавали по баснословным ценам от 15 до 20 руб. с<еребром>. Знамя «Полярной звезды», требования, поставленные ею, совпадали с желанием всего народа русского, оттого они и нашли сочувствие. И когда, обращаясь к только что воцарившемуся государю, я повторял ему: «Дайте свободу русскому слову, уму нашему тесно в цензурных колодках; дайте волю и землю крестьянам и смойте с нас позорное пятно крепостного состояния; дайте нам открытый суд и уничтожьте канцелярскую тайну судеб наших!» – когда я прибавлял к этим простым требованиям: «Торопитесь притом, чтоб спасти народ от крови!», я чувствовал, я знал, что это вовсе не мое личное мнение, а мысль, которая тогда носилась в русском воздухе и волновала каждый ум, каждое сердце; ум и сердце царя и крепостного крестьянина, молодого офицера, вышедшего из корпуса, и студента, какого бы он университета ни был. Как бы ни понимали вопрос и с какой бы стороны его ни брали, все видели, что петровское самодержавие совершило свои судьбы, что оно достигло предела, после которого надобно или правительству переродиться, или народу погибнуть. Если были исключения, то это только в корыстных кружках нажившихся негодяев или на сонных вершинах выжившего из ума барства.
Полпрограммы нашей исполнено самим государем. Но – русский в этом человек – он остановился на введении и изобрел переходное время, тормоз постепенности – и думал, что все сделано.
С той же откровенностью, с которой русский станок в Лондоне обращался в 1855 году к государю, обратился он спустя несколько лет к народу и говорил своим читателям: «Вы видите, правительство признало справедливость наших требований, но исполнить признанного не умеет, оно не может выбиться из рутинной колеи казарменного порядка и бюрократической формы. Оно дошло до конца своего разуменья и пятится, и дает в сторону, и само путается в каком-то прошнурованном и приведенном в канцелярский порядок хаосе… Оно теряет голову, делает жестокости, делает ошибки, явным образом боится… Страх, соединенный с властью, вызывает озлобленный отпор, – отпор без уваженья, без обдуманности. Отсюда один шаг до восстания.
От правительства больше собственного сознания правоты того, что требуют, ждать нечего. Дело переходит в ваши руки, не будьте вялы и неспособны, как оно, пусть выборные всего народа разберут дело и обсудят, что чиноположить и как предотвратить кровавый взрыв негодования и досады»[87 - Это отрывок из статьи Н. П. Огарева «Под новый год», перефразированный Герценом.].
Нет, живая связь между Россией и ее небольшой ведетой[88 - сторожевым постом (итал.).], самые ругательства борзых и гончих публицистов второй руки и Третьего отделенья, которыми охотятся на нас карлы просвещенья[89 - Намек на маленький рост министра просвещения А. В. Головнина.] и roues[90 - плуты (фр.).] внутренних дел, еще больше удостоверяют нас, что станок наш не отчуждился от России. Возвратимся к нему. Требование на «Полярную звезду» почти совсем не распространялось на прежде напечатанные книги. Только «Тюрьма и ссылка» кой-как расходилась, да маленькие брошюрки, вроде «Крещеной собственности» и «Юмора». В мае месяце 1856 года вышла вторая книжка «Полярной звезды», она разошлась, увлекая за собой все остальное. Вся масса книг тронулась. В начале 1857 г. не было больше в типографии ничего печатного, и Трюбнер предпринял на свой счет вторые издания всего напечатанного нами[91 - Н. Трюбнер вообще принес большую пользу русской пропаганде, и имя его не должно быть забыто в «Сборнике русской типографии». Сверх вторых изданий «Полярной звезды» и всех наших книг, Н. Трюбнер предпринял сам целый ряд новых изданий на русском языке: Стихотворения Н. Огарева, Записки Екатерины II, Записки кн. Дашковой, Записки Лопухина, кн. Щербатов и Радищев и пр. (Прим. А. И. Герцена.)][92 - Николас Трюбнер – английский книгоиздатель и книготорговец, сочувствовавший Герцену.].
Работы было столько, что небольшой станок наш не мог удовлетворять требованиям, и в 1858 один из наших товарищей-изгнанников, Зенон Свентославский, открыл при своей типографии русское отделение. В нем началось печатание трюбнеровских изданий. С половины 1857 года издержки типографии стали покрываться, к концу 1858 был небольшой избыток, и около того же времени открылись две или три русские типографии в Германии. Наш станок чувствовал себя дедом. Время опыта, искуса нашего станка прошло, время слабых бесплодных усилий и безучастия со стороны России миновало. В начале 1857 года Огарев предложил издавать «Колокол». 1 июля 1857 г. вышел его первый лист. С изданием «Колокола» начинается второй возраст нашего станка. <…>
Герцен А. И. Собр. соч. Т. XVII. С. 74–81. Впервые статья, подводящая итоги десятилетней работы типографии, напечатана в качестве предисловия к сборнику: Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне. Сборник ее первых листов, составленный и изданный Л. Чернецким. Лондон, 1863. (Л. Чернецкий – польский эмигрант, заведующий Вольной русской типографией Герцена.)
Из «Былого и дум»
<…> Весной 1856 приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола». Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усвоивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслию. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.
Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную звезду». «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного ценсурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение; были письма, от которых слезы навертывались на глазах… Но и не одно молодое поколение поддержало нас…
«“Колокол” – власть», – говорил мне в Лондоне, horribile dictu[93 - страшно вымолвить (лат.).], Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу… И прежде его повторяли то же и Т<ургенев>, и А<ксаков>, и С<амарин>, и К<авелин>, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П.[94 - Василий Петрович Боткин.], постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфлями… <…>
Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка Кочубея», подстрелившего своего управляющего. Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Б<утко>в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится, «жалуйтесь государю, делайте что хотите, пожалуй, пишите себе в “Колокол” – мне все равно». Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте, – таких анекдотов мог бы я рассказать десяток…
…Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же, – говорил он, – мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?» Совет обеспокоился и как-то между «Бутковым и государем» келейно потолковал, как бы унять «Колокол». Бескорыстный Муравьев советовал подкупить меня; жираф в андреевской ленте, Панин, предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими «мертвыми душами» роль Мижуева[95 - Мижуев – персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».], усомнился в моей продажности и спросил Панина:
– Какое же место вы предложите ему? – Помощника статс-секретаря.
– Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет, – отвечал Горчаков[96 - Упомянуты министры и другие государственные деятели того времени: А. М. Горчаков, М. Н. Муравьев, В. Н. Панин.], и судьбы ««Колокола» были предоставлены воле Божией.
А воля Божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденций из всех частей России. Всякий писал, что попало: один – чтобы сорвать сердце, другой – чтобы себя уверить, что он опасный человек… но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики и обличение ежедневных мерзостей.
Такие письма выкупали десятки «упражнений <…>
Герцен А. И. Собр. соч. Т. ХI. М., 1957. С. 300–302.
В нашей книге представлена лишь небольшая часть текстов Герцена, затрагивающих проблему свободы слова. Ею пронизаны роман «Былое и думы», знаменитая книга «О развитии революционных идей в России»; множество статей и заметок, посвященных репрессиям печатного слова в России, систематически публиковалось в «Колоколе» и других изданиях.
А. И. Герцен и Н. П. Огарев