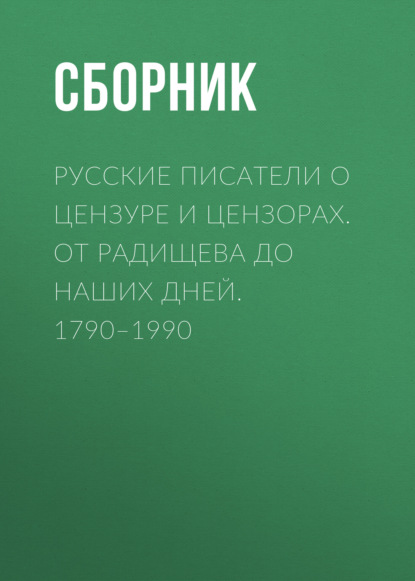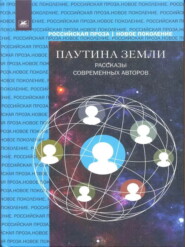По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать[58 - Не смел отечество назвать… – В эпоху Павла I запрещены были к употреблению тринадцать слов; среди них слово «отечество», вместо которого предписывалось писать и говорить «государство».],
И в рабстве ползали и люди и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец…
Исправься ж: будь умней и примирися с нами.
«Всё правда, – скажешь ты, – не стану спорить с вами:
Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно – а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На всё есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам[59 - Бентам Иеремия (1748–1832) – английский законовед. Его сочинения выходили в русском переводе в 1805–1811 гг.], Руссо, Вольтер,
А нынче и Миллот[60 - Миллот – Милло Клод-Франсуа-Ксавье (1726–1785), аббат, французский историк XVIII в.; его новый перевод «Всеобщей истории» был издан в русском переводе со значительными цензурными искажениями.] попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети…»
Жена и дети, друг, поверь – большое зло:
От них всё скверное у нас произошло.
Но делать нечего; так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно,
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря[61 - Хоть умного себе возьми секретаря… – В басне Крылова «Оракул» говорится о судьях, «которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь».].
1822
При жизни автора, как и другие публикуемые далее произведения, не печаталось и распространялось в многочисленных списках. Впервые опубликовано в «Собрании сочинений» Пушкина, подготовленном П. В. Анненковым (СПб., 1857). Учитывая цензурные требования, напечатано под названием «Первое послание к Аристарху», причем с исключением ряда стихов и слов «глупец и трус». В полном виде впервые напечатано в 1858 г.
в Лондоне в герценовской «Полярной звезде».
«Послание… направлено против цензора А. С. Бирукова, по выражению Пушкина – “трусливого дурака”, отличавшегося излишней боязливостью и строгостью, “соединенной с неразумением силы языка”» (Пушкин А. С. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 2. М., 1926. С. 30). Адресат этого памфлета все же шире. Бируков, так же как и Красовский, воспринимались в литературной среде скорее как фигуры собирательные, их имена фигурировали как нарицательные для обозначения трусливого и глупого цензора.
Письма Пушкина друзьям из ссылки наполнены вопросами: «Верно не лезет сквозь цензуру?», «Не запретила ли цензура?» и т. п. Пушкина особенно раздражала «целомудренность» российской цензуры, граничившая с крайним пуританизмом. В том же 1822 г. в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей» он задавал себе такой вопрос:
Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?
10 октября 1824 г. он пишет Вяземскому из Михайловского: «Я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя – или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского». Бируков («гонитель давний мой») придирчиво отнеся к тексту «Кавказского пленника» (1821), потребовав в числе прочего замены выражения «небесный пламень».
Поручив в 1823 г. Вяземскому издать «Кавказского пленника» по возможности без цензурных искажений, он пишет 14 октября из Одессы в Москву:
«Не много радостных ей дней
Судьба на долю ниспослала.
Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей – ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала. То ли дело. Ночей, ибо днем она с ним не видалась – смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? Которые из 24 часов именно противну духу нашей цензуры?..» «Имябоязнь» и «словобоязнь», столь присущие логократическим режимам, где царствуют одни только «слова, слова, слова…», очень хорошо были знакомы поэту. Посылая свои «бессарабские бредни», среди них послание «К Овидию», он пишет Бестужеву: «Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и до?лжно обмануть, ибо она очень глупа – по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по Тавриде), повторяю вам, она ужасно бестолкова, но, впрочем, довольно сговорчива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и всё будет слажено». Уловка вполне удалась: Бестужев напечатал «К Овидию» в «Полярной звезде» на 1823 г. без подписи, поставив вместо нее две звездочки.
Второе послание цензору
На скользком поприще Т<имковского>[62 - Тимковский Иван Осипович (см. Перечень цензоров) не разрешил «Русалку», но позволил напечатать семнадцать стихотворений Пушкина в 1817–1820 гг. и «Руслана и Людмилу».] наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе я правила, и мыслей образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной
Заветные слова божественный, небесный[63 - Заветные слова божественный, небесный… – см. ранее о цензоре А. И. Красовском, запретившем в «Стансах к Элизе» Олина строчку «Улыбку уст твоих небесную ловить» и эпитет «божественные» в применении к гуриям.],
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж Господа Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменило
И нрава твоего кичливость усмирило?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою,
Но, подразнив тебя, я переменой сею
Приятно изумлен; гордиться не посмею.
Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков наук уже правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
Осиротелого венца Екатерины
От хлада наших дней укрыл он лавр единый[64 - Венца Екатерины… лавр единый… – подразумевается Г. Р. Державин.].
Он с нами сетовал, когда святой отец[65 - Святой отец – упомянутый выше предыдущий министр народного просвещения и духовных дел кн. Александр Николаевич Голицын, которого современники называли «святошей».],
Омара[66 - Омар – калиф, сжегший, по преданию, Александрийскую библиотеку (см. примеч. к «Дому сумасшедших» А. Ф. Воейкова).] да Гали прияв за образец,
В угодность господу, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша[67 - Спасая Бантыша – В. Н. Бантыш-Каменский, старший сын известного историка.],
И помогал ему Магницкий[68 - Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1855) – реакционный деятель александровского времени, злейший обскурант, в качестве попечителя учебного округа (1819–1826) устроивший погром Казанского университета за «безбожное направление».] благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин-дурачок[69 - Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) – входил в «Арзамас», затем, в качестве директора Петербургского университета (1819–1823), его разгромил.],
Креститель Галича[70 - Креститель Галича – так иронически назван Кавелин, возбудивший в 1821 г. дело против профессора Петербургского университета А. И. Галича (лицейского профессора Пушкина) за его «атеистические» лекции и книгу «История философских систем». Галич вынужден был признать свое учение «ложным и вредным», сам же Кавелин повел его в церковь, где священник читал над ним молитву и кропил его святой водой (отсюда: «креститель Галича»).], Магницкого дьячок.
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать[58 - Не смел отечество назвать… – В эпоху Павла I запрещены были к употреблению тринадцать слов; среди них слово «отечество», вместо которого предписывалось писать и говорить «государство».],
И в рабстве ползали и люди и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец…
Исправься ж: будь умней и примирися с нами.
«Всё правда, – скажешь ты, – не стану спорить с вами:
Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно – а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На всё есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам[59 - Бентам Иеремия (1748–1832) – английский законовед. Его сочинения выходили в русском переводе в 1805–1811 гг.], Руссо, Вольтер,
А нынче и Миллот[60 - Миллот – Милло Клод-Франсуа-Ксавье (1726–1785), аббат, французский историк XVIII в.; его новый перевод «Всеобщей истории» был издан в русском переводе со значительными цензурными искажениями.] попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети…»
Жена и дети, друг, поверь – большое зло:
От них всё скверное у нас произошло.
Но делать нечего; так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно,
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря[61 - Хоть умного себе возьми секретаря… – В басне Крылова «Оракул» говорится о судьях, «которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь».].
1822
При жизни автора, как и другие публикуемые далее произведения, не печаталось и распространялось в многочисленных списках. Впервые опубликовано в «Собрании сочинений» Пушкина, подготовленном П. В. Анненковым (СПб., 1857). Учитывая цензурные требования, напечатано под названием «Первое послание к Аристарху», причем с исключением ряда стихов и слов «глупец и трус». В полном виде впервые напечатано в 1858 г.
в Лондоне в герценовской «Полярной звезде».
«Послание… направлено против цензора А. С. Бирукова, по выражению Пушкина – “трусливого дурака”, отличавшегося излишней боязливостью и строгостью, “соединенной с неразумением силы языка”» (Пушкин А. С. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 2. М., 1926. С. 30). Адресат этого памфлета все же шире. Бируков, так же как и Красовский, воспринимались в литературной среде скорее как фигуры собирательные, их имена фигурировали как нарицательные для обозначения трусливого и глупого цензора.
Письма Пушкина друзьям из ссылки наполнены вопросами: «Верно не лезет сквозь цензуру?», «Не запретила ли цензура?» и т. п. Пушкина особенно раздражала «целомудренность» российской цензуры, граничившая с крайним пуританизмом. В том же 1822 г. в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей» он задавал себе такой вопрос:
Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?
10 октября 1824 г. он пишет Вяземскому из Михайловского: «Я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя – или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского». Бируков («гонитель давний мой») придирчиво отнеся к тексту «Кавказского пленника» (1821), потребовав в числе прочего замены выражения «небесный пламень».
Поручив в 1823 г. Вяземскому издать «Кавказского пленника» по возможности без цензурных искажений, он пишет 14 октября из Одессы в Москву:
«Не много радостных ей дней
Судьба на долю ниспослала.
Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей – ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала. То ли дело. Ночей, ибо днем она с ним не видалась – смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? Которые из 24 часов именно противну духу нашей цензуры?..» «Имябоязнь» и «словобоязнь», столь присущие логократическим режимам, где царствуют одни только «слова, слова, слова…», очень хорошо были знакомы поэту. Посылая свои «бессарабские бредни», среди них послание «К Овидию», он пишет Бестужеву: «Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и до?лжно обмануть, ибо она очень глупа – по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по Тавриде), повторяю вам, она ужасно бестолкова, но, впрочем, довольно сговорчива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и всё будет слажено». Уловка вполне удалась: Бестужев напечатал «К Овидию» в «Полярной звезде» на 1823 г. без подписи, поставив вместо нее две звездочки.
Второе послание цензору
На скользком поприще Т<имковского>[62 - Тимковский Иван Осипович (см. Перечень цензоров) не разрешил «Русалку», но позволил напечатать семнадцать стихотворений Пушкина в 1817–1820 гг. и «Руслана и Людмилу».] наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе я правила, и мыслей образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной
Заветные слова божественный, небесный[63 - Заветные слова божественный, небесный… – см. ранее о цензоре А. И. Красовском, запретившем в «Стансах к Элизе» Олина строчку «Улыбку уст твоих небесную ловить» и эпитет «божественные» в применении к гуриям.],
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж Господа Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменило
И нрава твоего кичливость усмирило?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою,
Но, подразнив тебя, я переменой сею
Приятно изумлен; гордиться не посмею.
Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков наук уже правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
Осиротелого венца Екатерины
От хлада наших дней укрыл он лавр единый[64 - Венца Екатерины… лавр единый… – подразумевается Г. Р. Державин.].
Он с нами сетовал, когда святой отец[65 - Святой отец – упомянутый выше предыдущий министр народного просвещения и духовных дел кн. Александр Николаевич Голицын, которого современники называли «святошей».],
Омара[66 - Омар – калиф, сжегший, по преданию, Александрийскую библиотеку (см. примеч. к «Дому сумасшедших» А. Ф. Воейкова).] да Гали прияв за образец,
В угодность господу, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша[67 - Спасая Бантыша – В. Н. Бантыш-Каменский, старший сын известного историка.],
И помогал ему Магницкий[68 - Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1855) – реакционный деятель александровского времени, злейший обскурант, в качестве попечителя учебного округа (1819–1826) устроивший погром Казанского университета за «безбожное направление».] благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин-дурачок[69 - Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) – входил в «Арзамас», затем, в качестве директора Петербургского университета (1819–1823), его разгромил.],
Креститель Галича[70 - Креститель Галича – так иронически назван Кавелин, возбудивший в 1821 г. дело против профессора Петербургского университета А. И. Галича (лицейского профессора Пушкина) за его «атеистические» лекции и книгу «История философских систем». Галич вынужден был признать свое учение «ложным и вредным», сам же Кавелин повел его в церковь, где священник читал над ним молитву и кропил его святой водой (отсюда: «креститель Галича»).], Магницкого дьячок.