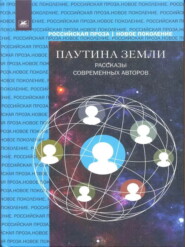По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С. Ю. Витте
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жил С. Ю. исключительно работой и государственными делами – только для работы и службы.
Когда я знал С. Ю. министром финансов, он вставал рано и уже около девяти утра приходил в кабинет одетый, пил чай и просматривал газеты, а с десяти, если не раньше, начинал принимать доклады. Ровно в 12 час<ов> он приходил в столовую, где тотчас подавался завтрак из двух блюд, опоздания не допускалось ни на минуту, о чем М. И. всегда предупреждала меня, когда я приглашался к завтраку, добавляя, что С. Ю. не выносит опозданий и в случае таковых раздражается. Вообще он был до щепетильности точен в распределении своего времени. Ел С. Ю. очень жадно, как рабочий, и быстро – «глотал» пищу. Сидел он за столом как-то боком, точно мимоходом, ел неопрятно, часто пускал в ход пальцы и не злоупотреблял салфеткой, почему его домашний пиджак был всегда в жирных пятнах. Пил он мало – какое-то легкое шипучее вино, которое ему подавали отдельно в полубутылках. Очень заботясь о своем здоровье, всегда придавал значение пище в смысле соответствия с требованиями гигиены. Всегда ел какой-то особенный хлеб и непременно после завтрака фрукты, которые он получал с Черноморского побережья, и любил указывать, что он поддерживает отечественное плодоводство. Завтрак продолжался 20–25 минут, после фруктов он немедленно закуривал папиросу в малоаппетитном прокуренном деревянном мундштуке, тотчас залпом выпивал кофе и в 12
/
уходил к себе, предоставляя гостей, если таковые были, жене. Если бывало какое-либо дело к С. Ю., то во время завтрака можно было коротко переговорить с ним и обыкновенно тут же получить ответ. Если у меня было дело к С. Ю., я говорил об этом М. И., и тогда она приглашала меня к завтраку, чтобы сберечь время С. Ю. и мое. Я так не раз подготовлял почву для получения кредитов на свои ученые работы, свои учреждения и на Красный Крест. С. Ю., дав свое согласие принципиально, требовал только самой краткой памятной записки, иногда для доклада государю, и дело проходило с неимоверной быстротой.
Редко С. Ю. засиживался за завтраком, когда он ехал в какое-нибудь заседание, начинавшееся обыкновенно около двух часов, и тогда он любил побеседовать на злобы дня, но больше говорил сам или рассказывал. Иногда в чайное время, около 5 часов, между докладами и совещаниями, С. Ю. на минутку заходил к жене, а в 7 часов снова появлялся к обеду, после которого проводил около часа, до 8
/
–9 час<ов> в гостиной жены. Иногда играл одну партию в карты, если были партнеры, и снова уходил к себе, чтобы работать до поздней ночи. Развлечений С. Ю. не признавал, в театрах, кажется, почти никогда не бывал, искусством и литературой не интересовался, читал он только то, что ему было нужно в данную минуту, и то читал больше во время путешествий за границу, дома для этого у него не было времени. Науку он глубоко почитал, но теоретически – на деле благодаря своему властному характеру и самоуверенности был склонен спорить о научных вопросах, которых не понимал, и высказывать свое мнение. Однако, надо отдать ему справедливость, что он иногда все же признавал [необходимость] учиться тому, что он не знал. Так, он, как говорили, при назначении на пост министра финансов пригласил к себе известного тогда банкового деятеля Ротштейна и брал у него уроки по банковому делу. Далее, в противоположность большинству наших сановников, он вел знакомство с наиболее выдающимися профессорами и специалистами политической экономии и государственного права, совещался с ними, старался использовать их знания и не страшился их политического направления и степени их «политической благонадежности». Так, имел сношения с Чупровым, Посниковым, Ковалевским и мн<огими> др<угими>. Боюсь, что это не мешало ему держаться своих точек зрения, кои не всегда соответствовали науке. Обращался он, сколько я помню, к профессорам и тогда, когда он взялся читать политическую экономию или, как он говорил, учение о государственном хозяйстве, наследнику престола в<еликому> к<нязю> Михаилу Александровичу, для которого он составил программу и даже написал что-то вроде руководства «курса». Так или иначе, но С. Ю. по крайней мере делал вид, что, как человек с университетским образованием, уважает представителей науки, интересуется их взглядами на некоторые задачи управления государством и не относился к ученым с полупрезрительной улыбкой, как это делали некоторые его коллеги, как, напр<имер>, И. Л. Горемыкин.
Был ли С. Ю. серьезно образован? Думаю, что не ошибусь, если скажу нет. Иногда он делал впечатление человека много знающего, но это было, в сущности, не результатом знаний и его способности схватывать суть вопроса, его ума и таланта. Помню, напр<имер>, как, будучи уже не у дел, он после поездки своей в Англию с увлечением рассказывал мне свои наблюдения над системой учения и воспитания в английских школах. Слушая его, можно было подумать, что он предался изучению этого вопроса и действительно по существу ознакомился с ним и пришел к известным выводам, но, в сущности, из дальнейшего разговора мне нетрудно было прийти к заключению, что знакомство с вопросом основывалось на нескольких разговорах в Англии, на просмотре нескольких книжек и, главное, на вышеуказанной способности ума С. Ю. – это было очередное увлечение заинтересовавшим его вопросом, и только. Иногда С. Ю., как говорили его недруги, выдавал свое невежество с головой и руками. Беседовать и спорить с С. Ю. было трудно и не всегда приятно, хотя большей частью интересно. Неприятно, потому что он сразу схватывал мысль собеседника, не давал ему договорить, а начинал возражать сам, подчас несколько «третируя» своего собеседника, а тем более противника. Если же он считал последнего не достойным возражений, то демонстративно и почти оскорбительно молчал или делал вид, что слушает, но, в сущности, не слушал, а, видимо, думал о другом. Нередко в суждениях своих он бывал резок и неприятен, чем озлоблял против себя многих, но не обижался, если противник ответил ему тем же, и напротив, относился к такому противнику с уважением и становился мягче. Я думаю, что в очень демократическом парламенте С. Ю. имел бы больше успеха, чем в старом Государственном совете.
<…> При всем своем уме и увлечениях большими политическими и государственными вопросами С. Ю. был лично тщеславен и честолюбив. Так, напр<имер>, будучи типично штатским человеком, совершенно ничего не понимая в военном деле и не интересуясь им, он очень гордился тем, что состоит по должности министра финансов шефом пограничной стражи. В прежнее время министр финансов был, в сущности, шефом пограничной стражи только denomine, командовал ею совершенно самостоятельно корпусной командир, но С. Ю. принимал свое «шефство» всерьез и входил довольно близко в дела управления корпусом. Надо отдать справедливость шефу, что поставлен был корпус очень хорошо, особенно в отношении снабжения, обмундирования и санитарной части по сравнению с армейскими корпусами, что, впрочем, отчасти зависело от возможности легко увеличивать материальные средства корпуса, лучше обеспечивать офицеров и т. п., так как ведь отпускаемые кредиты зависели от шефа, т. е. он распоряжался русскими финансами – то, что военному министру нелегко было провести в армии, то легко и просто проходило в военной части, состоявшей на попечении министра финансов.
Вместе с тем одной из характерных черт С. Ю., как мы еще увидим, была какая-то неустойчивость С. Ю. в некоторых его взглядах и мнениях. Он менял их очень легко и часто, как в делах крупных, так и в мелочах – безусловно, он поддавался иногда не только моменту, но и влиянию других, напр<имер> жены.
Как-то раз я заехал к больной М. И. случайно в парадной военной форме, в высоких сапогах, эполетах, при оружии и т. п. и, вероятно, имел довольно марциальный[101 - Воинственный, бравый.] вид. Во время моего визита в спальню пришел С. Ю. и увидел меня у кровати больной в таких доспехах, выразил свое удивление, зачем врачей так милитаризуют: «Для чего вам эти сапоги, шпоры, шашки и т. д.? Врач и военный должен быть прежде всего врачом, а все это придает врачу вид офицера…» – говорил он. Я объяснил ему, что офицерская форма военному врачу необходима потому, что среди офицеров военный врач должен быть членом военной семьи, для нижних чинов офицерский мундир нужен для того, чтобы нижние чины подчинились ему, так как в военной среде форме придают большое значение, штатский в этой среде полноправным не считается. «Я думаю, – возразил С. Ю., – что врач должен завоевывать свое положение не формой, а внушением к себе доверия и уважения своей врачебной деятельностью». Я не стал спорить и замолчал. Вскоре после этого я встретил как-то медицинского инспектора пограничной стражи Шапирова в казачьей папахе и спросил его, почему он носит папаху. Б. М. Шапиров, всегда стремившийся походить на настоящего генерала, хотя это ему плохо удавалось, ответил мне: «Я стремлюсь к возможности приравнять своих врачей к офицерам и просил С. Ю. исходатайствовать нам право носить такой же головной убор, как у офицеров пограничной стражи, и С. Ю. испросил это изменение нашей формы у государя». Меня это очень удивило, так как ведь это совершенно противоречило вышеприведенному мнению Витте. Однако мое удивление еще более увеличилось, когда я увидел в спальне М. И. большой портрет С. Ю. в военной форме, в папахе, с шашкой, что очень мало к нему шло. Оказалось, что С. Ю. исходатайствовал себе право носить форму пограничной стражи, но с узкими погонами для гражданских чинов, как у врачей. Правда, в этой форме С. Ю. появлялся редко, только в случаях, когда он появлялся перед строем, но, видимо, он сам и М. И. очень гордились этим правом С. Ю. носить военную генеральскую форму, иначе они не поставили бы на видном месте портрет С. Ю. в этой форме. Я ни разу не видел С. Ю. военным и не могу себе представить его штатскую, неуклюжую фигуру в военной форме… Думаю, что он не был особенно величествен… чтобы не сказать больше. Я слышал, что при своих поездках по России он принимал почетные караулы, рапорты офицеров, здоровался с людьми и т. п. Одним словом, этот крупный государственный человек «играл в солдатики» и, вероятно, вызывал нередко улыбку у своих офицеров. Так как С. Ю. вел очень сидячий образ жизни, то врачи посоветовали ему ради моциона верховую езду. Мысль эта ему понравилась, и он взялся за это так же серьезно и деловито, как он брался за все. Он выписал себе крупного, хороших кровей hunter'a, который мог бы нести его вес, взял себе учителя верховой езды и выучился ездить как следует. Летом, живя на даче на Елагином острове, С. Ю. чуть ли не ежедневно делал большие прогулки верхом, но странно было то, что выезжал он в военной форме и в сопровождении офицера из нижних чинов пограничной стражи – видимо, он был доволен, что выезжал как настоящий военный генерал. <…>.
Здесь я хотел бы сказать несколько слов о подруге жизни С. Ю. – Матильде Ивановне, несомненно имевшей на него большое влияние. Недаром же новые золотые, выпущенные вместо полуимпериалов при Витте, называли «матильдами». М. И. по своей внешности не могла быть названа женщиной красивой, ни даже хорошенькой. На мой взгляд, можно было только сказать, что она не некрасива. Элегантности в ней тоже не было, не было и национально-еврейского типа, который бросался в глаза у ее сестер, и говорила она без акцента, но несколько на южный лад. <…> Было у М. И. «что-то» – «un je ne sais quoi»[102 - Нечто необъяснимое (франц.).], что очень нравилось мужчинам, но мужчинам известного типа и возраста. Я лично никогда не находил ее привлекательной как женщину, но многие не были моего мнения. Она несомненно была очень умна, большей частью тактична и выдержана и этим своим «savoir vivr<e>»[103 - Житейская мудрость (франц.).] тактом и чисто женским «чутьем» умела во многом сглаживать шероховатости мужа в его отношениях с людьми. Образования она была, я думаю, очень невысокого, но это не было заметно – природный ум и здравый смысл заменили его. Ее такт скрывал недочеты воспитания. Конечно, она собиралась быть светской женщиной и сумела этого достичь в известной мере настолько, что позже графский титул не шокировал в ней никого. Как я уже сказал, М. И. была верным другом мужа и близко принимала к сердцу все, что касалось его. Я не думаю, чтобы С. Ю. делился с нею своими мыслями касательно его государственных дел, но о перипетиях своей службы и о своих отношениях с людьми он не только говорил с нею, а даже с ней советовался. Не сомневаюсь, что он нередко поручал ей добыть ему некоторые сведения от знакомых и сблизить его с нужными ему людьми, и она умела делать это очень тонко, часто исправляя сделанные им промахи. Главной целью ее жизни было доставить мужу спокойную и приятную семейную жизнь и этим упрочить его привязанность. <…> Никогда я не видел даже намека на ссору между супругами или семейную сцену, хотя я думаю, что характер С. Ю. не всегда был приятен для совместной жизни. Вероятно, она умела угодить ему и как женщина, ибо С. Ю. ее обожал, был ей предан «как собака» и не мог без нее обходиться. Видимо, М. И. была одна из тех редких женщин, которые умеют объединять роли жены и любовницы. Одним словом, они жили, что называется, «душа в душу». М. И. сумела внушить мужу и любовь к ее дочери, и С. Ю. относился к своей приемной дочери как к родной. Так же хороши были и отношения Веры Сергеевны к мужу ее матери, что так редко бывает.
Я не сомневаюсь, что М. И., пользуясь привязанностью к ней мужа, во многих отношениях влияла, конечно, подчас сдерживая его порывы, смягчала его нрав и вообще проводила то, что хотела, но так ловко, с такой [нрзб.], что он этого не замечал. Если М. И. говорила, что С. Ю. сделает то или другое, дает свое согласие и т. п., то это так и бывало.
Если у М. И. и были отрицат<ель>ные стороны, то это были черты ее национальности: она была человек очень личный, в ней имелась известная склонность к интригам, и она, может быть, бессознательно тяготела к представителям своей национальности. Если С. Ю. и был действительно иудофилом больше, чем это было желательно для русского министра финансов и государственного человека, то это было, несомненно, выражение влияния жены, недаром же еврейство с большим почтением и великими надеждами взирало на «свою», взобравшуюся на такую высоту.
Если я позволил себе так подробно остановиться на характеристике М. И., то только потому, что муж и жена были настолько спаяны «воедино», что тот, кто ближе знал С. Ю., не мог себе даже представить его без нее.
Первые годы замужества за С. Ю. в холодной, казенной обстановке министерского дома были для М. И. нелегки. Все ведение дома, все хозяйство, все домашние заботы лежали исключительно на ней, причем ей бывало трудно справиться и в материальном отношении. С. Ю. был [нрзб.] не скуп, но – как это ни странно – не знал цену деньгам и даже приблизительно стоимость той обстановки, в которой он жил. Своих средств у С. Ю. вначале не было. 20 числа он приносил свое жалованье жене и не спрашивал, как она справляется с этими сравнительно незначительными средствами, совершенно не входя в хозяйственные вопросы.
М. И. часто жаловалась мне, что справляться ей очень трудно и она принуждена изворачиваться сама, как знала, проживая даже ее собственный капитал. Так, по крайней мере, она мне говорила. Лишь позже, после конверсий и заграничных займов, за которые С. Ю. получил известный процент, средства его улучшились, и М. И. стало легче. В городе много говорили, будто она играла на бирже и, конечно, с большим успехом, но я этого не думаю. Если она без ведома мужа что-либо и наживала, то это было, сколько я могу себе представить, вполне легально и незначительно. Не думаю, чтобы я ошибался в этом отношении, во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь мог сказать на основании фактов, чтоб С. Ю. или М. И. занимались аферами или обогащением себя, пользуясь служебным положением С. Ю., – у него было слишком много врагов и недоброжелателей, и поэтому я не сомневаюсь, что всякое некорректное отношение его или М. И. к денежным делам, несомненно, очень скоро всплыло бы наружу. Если у М. И. после смерти мужа и образовалось довольно крупное состояние, то это было результатом полученных С. Ю. прежних денежных наград и проценты, причем эти капиталы были увеличены умелым помещением их. Так я смею думать и навряд ли ошибаюсь.
В эти первые годы замужества М. И. ей жилось тяжело и в нравственном отношении – скучно, тревожно и одиноко. В доме бывали только мужчины, коллеги и подчиненные мужа, женщины игнорировали М. И. В то время у четы Витте изредка бывали полуофициальные обеды, но они были скучны, довольно натянуты и без претензий, в чем я имел случай убедиться лично. Навряд ли эти приемы могли развлекать и удовлетворять М. И. Близких знакомых и друзей у М. И. кроме нескольких мужчин, не было. Были, правда, всегда ложи в театрах, но не было ни приятельниц для совместного посещения театров, ни интересных кавалеров. Она проводила целые дни и вечера одна или в сообществе своей дочери и нескольких «прихлебателей», которых она прикармливала. Петербургский «свет» относился к М. И. отрицательно, частью с завистью, частью со злорадством, и ее «травили» не только женщины, но подчас и некоторые мужчины. Она это знала, понимала, и ее самолюбию приходилось испытывать нередко болезненные уколы, от чего она немало страдала душой, как сама мне говорила в минуты откровенности, иногда даже со слезами в глазах.
Припоминаю, как в одном доме И. Л. Горемыкин, тогда еще товарищ министра юстиции, говорил при мне, что он никогда не допустит знакомства своей жены с М. И., добавляя, что бывать «у той женщины» зазорно не только дамам, но и уважающим себя мужчинам. На другой день я заехал в сумороках[104 - Т. е. в сумерках (обл.).] к М. И. Человек доложил, что у них гости, и пошел обо мне доложить. Через несколько секунд я увидел через открытую дверь, как по полутемной зале из комнат М. И. прошмыгнул Горемыкин. Войдя к М. И., я спросил ее, часто ли у нее бывает Горемыкин. «Очень часто, – ответила она, – он повадился бывать у меня в это время в надежде встретить С. Ю., который ему нужен, но который избегает принимать Горемыкина; этот господин обивает у меня пороги, а в городе вешает на меня собак, боится встретить у меня кого-либо и убегает тайком, как только ко мне кто-нибудь приедет в то время, как он у меня. Я отлично его понимаю, и мне это страшно в нем противно».
В другой раз М. И., показывая мне визитную карточку одной очень высокопоставленной дамы, добавила: «Сегодня я удостоилась большой чести, мне отдали визит графиня В<орон-цо>ва<-Дашкова>, которой я сделала визит, потому что граф бывает у моего мужа по своим делам и на днях зашел ко мне с С. Ю.» Я этому не удивился, ибо знал, что граф продает очень выгодно одно свое имение в Крестьянский банк для поправления своих несколько расстроенных дел. Через несколько дней я встретил графиню В<оронцо>ву<-Дашкову> в Гатчине у императрицы-матери. За завтраком графиня громко рассказывала императрице, смеясь, как она на днях ловко избегла знакомства с m-me Витте. «На днях она была у меня, – говорила графиня, – но, к счастью, не застала меня и оставила карточку. Я не знала, как мне быть, и несколько дней придумывала способ выйти из этого положения, но ничего не могла придумать, ибо не отдать визит я не считала возможным и портить отношения между Витте и моим мужем я не хотела (еще бы! – подумал я). На днях я, катаясь по набережной, встретила идущую пешком m-me Витте, и мне пришла в голову богатая мысль. Я приказала кучеру сейчас же повернуть и ехать к Витте, которой наверное не было дома. Я отдала карточку и теперь надеюсь, что этот кошмар кончен». Все смеялись и находили, что графиня очень находчива, но я, кажется, один знал причину, почему графиня не могла не отдать визита М. И., ибо банк уплатил ее мужу, как говорили, 3
/
миллиона за имение, которое стоило максимум 1
/
–2 миллиона[105 - Интересно, что через несколько лет дочь графини В<оронцо>вой<-Дашковой>, графиня Ш<еремете>ва, была одной из самых близких приятельниц М. И. – Примеч. авт.].
Большой неприятностью для М. И. являлась невозможность представиться ко двору, и она, и С. Ю. под ее влиянием, делали все возможное, чтобы достичь этого. Как-то раз М. И. сказала мне, что, по ее мнению, ее приему при дворе главным образом препятствует императрица-мать, что благодаря этому ее положение очень неприятное, особенно жаль ей своей дочери, которая во всяком случае ни в чем [не] повинна, [но лишена] ее удовольствия бывать на придворных балах и поэтому – во многих частных домах. На днях М. И. посетил велик<ий> кн<язь> Алексей Александрович и обещал ей убедить императрицу Марию Федоровну принять М. И., после чего она, несомненно, будет принята и молодой императрицей. Через несколько дней я был у императрицы в Гатчине, и в разговоре императрица что-то упомянула о М. И., я воспользовался случаем и затянул этот разговор, от которого у меня осталось впечатление, что она, в сущности, была бы не прочь принять г-жу Витте, но… «Я вчера говорила с моим beau-fr?re'ом[106 - Деверем (братом мужа).] Алексеем Александровичем (которого императрица очень любила за его сходство с государем Александром III) и спросила его мнение о m-me Витте, которую он знает. Он сказал мне, что бывает у нее, но <…> никогда не допустит, чтобы я ее приняла. [Есть особы, с которыми императрицы не должны встречаться], – сказала она мне. Вы видите, что это мнение моего beau-fr?re'а, знатока женщин, и что я здесь ни при чем».
Я замолчал и никогда больше о М. И. у императрицы не заикался, ибо понял, что дело непоправимо, о чем я, конечно, М. И. не сказал ни слова. После Портсмутского договора и пожалования Витте графского титула М. И. первой приняла императрица Александра Федоровна, а потом и государыня Мария Федоровна.
[После этого я как-то спросил императрицу-мать: «Vous avez vu m-me Witte, madame?» – «Qui»[107 - «Видели ли вы мадам Витте, ваше величество?» – «Да» (франц.).], – ответила государыня коротко и сухо. Хорошо зная императрицу, я понял, что она была недовольна моим вопросом.][108 - Текст в квадратных скобках вычеркнут автором.] <…>
IV
Нередко мне приходилось беседовать с С. Ю. по поводу винной монополии, за которую на Витте сыпалось столько обвинений. С. Ю. вполне справедливо сознавал, как и все, всю безнравственность обогащения казны за счет развращения народа перед войной, но он пока не находил другого способа сводить государственную роспись до тех пор, пока при большем развитии экономического состояния страны не найдутся другие источники. Однако несомненно, что С. Ю. был прав, когда говорил, что монополия была менее безнравственным приемом, чем система акциза и откупа с их развращающими народ кабаками, ведь бесспорно, что С. Ю. мы были обязаны уничтожением кабака и введением винных лавок, в которых не давали водки под залог вещей и нельзя было найти притона всем порокам, как это бывало в кабаках. По праздникам водка не продавалась, и, наконец, народу давали по крайней мере чистый спирт вместо той отравы, которой торговали кабаки. Правда, что тем не менее количество потребителей спирта росло и увеличивало доходы казны, но все же принимались меры, чтобы по возможности ослабить [нрзб.] зло и об них С. Ю. действительно искренне заботился и этим, скрепя сердце, как он не раз мне говорил, гордился. Вместе с тем С. Ю. заботился о принятии мер, способствующих трезвости, как это ни поразительно, и выдавал большие суммы с этой целью комитету народной трезвости, сплотившемуся под руководством принца А. П. Ольденбургского. Таким образом, был построен и широко оборудован народный дом, открыты чайные, столовые, буфеты, театры для народа. Правда, все это было каплей в море по сравнению с морем водки, заливавшей Россию, но все же при С. Ю., как-никак, для этого делалось больше, чем раньше. С точки зрения чисто коммерческой все дело торговли спиртом было поставлено очень широко и солидно, в чем я мог убедиться во время войны, когда мы в провинциальных городах на фронте, подыскивая лучшие помещения для санитарных учреждений, чаще всего реквизировали винные склады Министерства финансов как лучшие здания в городах. <…>
Теперь я приведу два очень интересных разговора с С. Ю., которые у меня были с ним в 1900 и в 1905 гг. и которые представляют собой большую ценность, потому что они тогда же немедленно были записаны мной дословно.
V
4 августа 1900 г. я был вызван к министру финансов С. Ю. Витте по известному мне делу. Оказалось, что 1 августа С. Ю. был у императрицы Марии Федоровны и хотел сообщить мне приятную новость, что по просьбе государыни он выдает мне 19 000 руб. на светолечебный кабинет при моей клинике.
Поблагодарив его и дав ему интересовавшие сведения по деятельности Красного Креста на Дальнем Востоке, я воспользовался случаем и спросил С. Ю.:
– Не можете ли вы сказать мне конфиденциально, посылать ли нам наш краснокрестный персонал на Восток? Не время ли остановиться? Ведь дело, по-видимому, налаживается? Что вы думаете? От военного министра ведь этого не узнать.
– Ничего сказать вам не могу, – ответил С. Ю., – я лично думаю, что ваш персонал придет тогда, когда все будет кончено. Со взятием Пекина военным действиям конец. В общем, мое мнение таково, насколько я себе его представляю, так как дело ведь не в моих руках, – эту картинную войну ведет и желает вести Куропаткин. Чего он хочет – я не понимаю. Долго ли у него будет охота продолжать кампанию, я не знаю. Если говорят об умиротворении, то там скоро нечего будет делать; если же искренне желать воевать, то с Китаем можно воевать и 10 лет и разорить Россию. Это ужасный человек, этот Куропаткин. Может быть, он хороший корпусной командир, и то для войны с «дикими», с [нрзб.], с сартами, и не военный министр, не государственный человек. От него не знаешь, что ждать. Что там будет с Кореей и Японией – я не знаю, но с Китаем нам нечего делать. К сожалению, государь меня не спрашивает. Он вообще за все время ни разу не собрал совещания, и три министра говорили ему врозь, а Куропаткин, толкуя о «моменте», о славе и т. п., сбивает его с настоящего пути.
– А что вы думаете про назначение Вальдерзее? – спросил я.
– По-моему, это очень умный шаг, – говорил С. Ю. – Если будет плохо, то все будут обвинять немцев, а не нас. Ламздорф это отлично устроит; я вообще им очень доволен. Да ведь эту войну, как я уже вам сказал, выдумал и вызвал Куропаткин. Я умолял не начинать войны в Маньчжурии и справился бы с Ренненкампфом и нашей пограничной стражей. Как только пустили войска, так и пошла катавасия. Югович предупреждал ведь, что прибытие войск вызовет брожение и разгром жел<езной> дороги, так оно и вышло. Но ведь Куропаткину это все равно. Они ведь в конце концов разорят бедную Россию.
– Сколько мне известно, вы ведь сначала были против захвата Порт-Артура и постройки Амурской дороги? – заметил я.
– Конечно, – продолжал С. Ю. – Я вполне разделял и разделяю мнение, что у нас на Востоке много дела, что там у нас, как и в Сибири, большие интересы, но ведь нельзя в 3 года сделать то, на что требуется 25 и больше лет. Ведь Сибирь только в зародыше. Ведь прежде дорога должна была идти на Владивосток. Когда взяли Порт-Артур, то я, не сочувствуя этому захвату, настоял на перемене направления, на путь через Маньчжурию, ибо без этой дороги Порт-Артур не имел смысла. Лучше было взять порт в Корее, но я тогда не мог переубедить молодого государя, которому захотелось в один миг сделать невозможное, и это под влиянием графа Муравьева, которого, слава Богу, господь прибрал, хотя и поздно.
– Совершенно согласен с вами, – перебил я С. Ю., – можно ли думать о солидном порте, о военном влиянии, когда дорога не готова и нет даже телеграфа (тогда пользовались иностранными кабелями, кажется, датским).
– Ну, конечно, – продолжал горячо Витте, – я понимаю, что сначала необходимо построить Сибирскую дорогу, постепенно перевезти войска, немного устроить Сибирь, сибирские города, дать немного культуры Сибири, а потом уже думать о порте на Тихом океане. Но ведь для этого нужно 10–20 лет, а не два года. Вот и запутались и разоряем Россию. Но я ничего сделать не мог. Скажу вам, пожалуй, откровенно почему. Когда немцы взяли Киао-Чао, заговорили о порте для нас. Я был очень против этого, и меня очень поддерживал морской министр. Я был тогда очень прост и говорил то, что думал. Заехал я раз к советнику германского посольства – посла Радолина не было. До этого момента император Вильгельм относился ко мне очень хорошо и не раз выражал мне свои симпатии. Я позволил себе доказывать советнику посольства, что Германия делает ошибку, что захват Киао-Чао может иметь неисчислимые последствия, и очень серьезные, что лучше этого не делать. С того времени император Вильгельм совершенно изменился ко мне и стал относиться ко мне недружелюбно. Вскоре после этого разговора с советником посольства ко мне заехал Радолин. Мы беседовали с ним вот так, как с вами. Я говорил ему как частный человек и в разговоре на его вопросы по китайским делам, говоря о захвате портов, проронил фразу «tout cela finira tr?s mal»[109 - Все это плохо кончится (франц.).]. Радолин телеграфировал об этом разговоре со мной императору Вильгельму, а гр<аф> Муравьев, занимавшийся перлюстрацией, перехватил эту телеграмму и показал ее государю. С тех пор государь от меня отвернулся, не говорит со мной, я с того времени не могу вернуть себе доверие его.
«Что они делают! Да вот финляндский вопрос. Ведь что тоже все наделал Куропаткин. Я согласен, что в некотором отношении Финляндию можно было и следовало прибрать к рукам, но только постепенно и не так, как это делают Куропаткин и этот государственный человек – Бобриков. На днях еще он издал циркуляр, в котором он говорит, что Николай I послал в Финляндию жандармов для насаждения нравственности – а?! – что их там очень часто били и оценили, что потому Николай II, желая усилить это благодетельное влияние на Финляндию удваивает число жандармов, а он – Бобриков – выражает надежду, что финляндцы примут их с такой же любовью. А?! И это пишет генерал-губернатор! Ведь это постыдно! В стране, где не было никаких «шумов», ни проявления нигилизма, ни социализма, где никогда не принимали участия в антимонархическом движении, теперь дама не может собрать в своей гостиной знакомых, не испросив разрешения у «нравственных жандармов». Я понимаю, что немцы наводят порядки или что они что-нибудь ломают, а то государство, которое имеет в столице Клейгельса с его полицией, заводит порядки в такой культурной стране, как Финляндия. Ведь это позор, варварство!
Я заметил, что на меня очень нападали в свите государя, напр<имер>, ген<ерал> Гессе, когда я говорил то же еще два года тому назад и возмущался речами Бобрикова и частыми статьями его клевретов. «Ведь скверно то, – говорил я, – что Бобриков не только говорит несуразности, а как бы с удовольствием купается в этом, дразнит и ожесточает».
С. Ю. продолжал:
– Совершенно верно. А тут еще взяли Плеве. Когда государь спрашивал мое мнение о кандидатах в министры внутренних дел, я, в свою очередь, спросил: «А кто же кандидаты вашего величества?» – «Плеве и Сипягин», – ответил государь. Я могу характеризовать их, но рекомендовать не смею, выбирайте вы. Самый Плеве человек очень умный, ловкий, он честный и отличный администратор, вообще человек вполне подходящий. Но когда был министром Толстой, он был его мнения; когда был Игнатьев, он был его мнения; когда был Дурново (Ив<ан> Ник<олаевич>), Плеве мнения не имел, потому что и у Дурново мнения не было. Сипягин – человек, правда, и не очень умный, может быть, и крайний, – «псовый охотник», как вы его назвали (это я), но это человек дельный, со своими взглядами и не флюгер. Это менее опасно, чем умный, да без принципов. Взяли Сипягина и Плеве доверили Финляндию. Он поднял нос, понюхал, понял, что требуется, и тут же стал гнуть. Чем это кончится?!
– А говорили вы об этом с императрицей Марией Федоровной? – спросил я.
– Да. Она еще дольше идет, чем я, и думает обо всем этом еще гораздо хуже, чем я.
На этом мы разошлись.
5 августа. За завтраком у императрицы Марии Федоровны, конечно, много говорили о Китае. «Qu'on prenne Pе?kin et que ce cauchemar finisse»[110 - Пускай захватят Пекин, только бы этот кошмар закончился (франц.).], – сказала императрица.
На мое замечание в<еликой> к<нягине> Ксении Александровне, что она думает о Вальдерзее, она сказала мне, вероятно, мнение своего мужа: «Одна надежда, что этот противный немец приедет, когда все будет кончено».
Когда я знал С. Ю. министром финансов, он вставал рано и уже около девяти утра приходил в кабинет одетый, пил чай и просматривал газеты, а с десяти, если не раньше, начинал принимать доклады. Ровно в 12 час<ов> он приходил в столовую, где тотчас подавался завтрак из двух блюд, опоздания не допускалось ни на минуту, о чем М. И. всегда предупреждала меня, когда я приглашался к завтраку, добавляя, что С. Ю. не выносит опозданий и в случае таковых раздражается. Вообще он был до щепетильности точен в распределении своего времени. Ел С. Ю. очень жадно, как рабочий, и быстро – «глотал» пищу. Сидел он за столом как-то боком, точно мимоходом, ел неопрятно, часто пускал в ход пальцы и не злоупотреблял салфеткой, почему его домашний пиджак был всегда в жирных пятнах. Пил он мало – какое-то легкое шипучее вино, которое ему подавали отдельно в полубутылках. Очень заботясь о своем здоровье, всегда придавал значение пище в смысле соответствия с требованиями гигиены. Всегда ел какой-то особенный хлеб и непременно после завтрака фрукты, которые он получал с Черноморского побережья, и любил указывать, что он поддерживает отечественное плодоводство. Завтрак продолжался 20–25 минут, после фруктов он немедленно закуривал папиросу в малоаппетитном прокуренном деревянном мундштуке, тотчас залпом выпивал кофе и в 12
/
уходил к себе, предоставляя гостей, если таковые были, жене. Если бывало какое-либо дело к С. Ю., то во время завтрака можно было коротко переговорить с ним и обыкновенно тут же получить ответ. Если у меня было дело к С. Ю., я говорил об этом М. И., и тогда она приглашала меня к завтраку, чтобы сберечь время С. Ю. и мое. Я так не раз подготовлял почву для получения кредитов на свои ученые работы, свои учреждения и на Красный Крест. С. Ю., дав свое согласие принципиально, требовал только самой краткой памятной записки, иногда для доклада государю, и дело проходило с неимоверной быстротой.
Редко С. Ю. засиживался за завтраком, когда он ехал в какое-нибудь заседание, начинавшееся обыкновенно около двух часов, и тогда он любил побеседовать на злобы дня, но больше говорил сам или рассказывал. Иногда в чайное время, около 5 часов, между докладами и совещаниями, С. Ю. на минутку заходил к жене, а в 7 часов снова появлялся к обеду, после которого проводил около часа, до 8
/
–9 час<ов> в гостиной жены. Иногда играл одну партию в карты, если были партнеры, и снова уходил к себе, чтобы работать до поздней ночи. Развлечений С. Ю. не признавал, в театрах, кажется, почти никогда не бывал, искусством и литературой не интересовался, читал он только то, что ему было нужно в данную минуту, и то читал больше во время путешествий за границу, дома для этого у него не было времени. Науку он глубоко почитал, но теоретически – на деле благодаря своему властному характеру и самоуверенности был склонен спорить о научных вопросах, которых не понимал, и высказывать свое мнение. Однако, надо отдать ему справедливость, что он иногда все же признавал [необходимость] учиться тому, что он не знал. Так, он, как говорили, при назначении на пост министра финансов пригласил к себе известного тогда банкового деятеля Ротштейна и брал у него уроки по банковому делу. Далее, в противоположность большинству наших сановников, он вел знакомство с наиболее выдающимися профессорами и специалистами политической экономии и государственного права, совещался с ними, старался использовать их знания и не страшился их политического направления и степени их «политической благонадежности». Так, имел сношения с Чупровым, Посниковым, Ковалевским и мн<огими> др<угими>. Боюсь, что это не мешало ему держаться своих точек зрения, кои не всегда соответствовали науке. Обращался он, сколько я помню, к профессорам и тогда, когда он взялся читать политическую экономию или, как он говорил, учение о государственном хозяйстве, наследнику престола в<еликому> к<нязю> Михаилу Александровичу, для которого он составил программу и даже написал что-то вроде руководства «курса». Так или иначе, но С. Ю. по крайней мере делал вид, что, как человек с университетским образованием, уважает представителей науки, интересуется их взглядами на некоторые задачи управления государством и не относился к ученым с полупрезрительной улыбкой, как это делали некоторые его коллеги, как, напр<имер>, И. Л. Горемыкин.
Был ли С. Ю. серьезно образован? Думаю, что не ошибусь, если скажу нет. Иногда он делал впечатление человека много знающего, но это было, в сущности, не результатом знаний и его способности схватывать суть вопроса, его ума и таланта. Помню, напр<имер>, как, будучи уже не у дел, он после поездки своей в Англию с увлечением рассказывал мне свои наблюдения над системой учения и воспитания в английских школах. Слушая его, можно было подумать, что он предался изучению этого вопроса и действительно по существу ознакомился с ним и пришел к известным выводам, но, в сущности, из дальнейшего разговора мне нетрудно было прийти к заключению, что знакомство с вопросом основывалось на нескольких разговорах в Англии, на просмотре нескольких книжек и, главное, на вышеуказанной способности ума С. Ю. – это было очередное увлечение заинтересовавшим его вопросом, и только. Иногда С. Ю., как говорили его недруги, выдавал свое невежество с головой и руками. Беседовать и спорить с С. Ю. было трудно и не всегда приятно, хотя большей частью интересно. Неприятно, потому что он сразу схватывал мысль собеседника, не давал ему договорить, а начинал возражать сам, подчас несколько «третируя» своего собеседника, а тем более противника. Если же он считал последнего не достойным возражений, то демонстративно и почти оскорбительно молчал или делал вид, что слушает, но, в сущности, не слушал, а, видимо, думал о другом. Нередко в суждениях своих он бывал резок и неприятен, чем озлоблял против себя многих, но не обижался, если противник ответил ему тем же, и напротив, относился к такому противнику с уважением и становился мягче. Я думаю, что в очень демократическом парламенте С. Ю. имел бы больше успеха, чем в старом Государственном совете.
<…> При всем своем уме и увлечениях большими политическими и государственными вопросами С. Ю. был лично тщеславен и честолюбив. Так, напр<имер>, будучи типично штатским человеком, совершенно ничего не понимая в военном деле и не интересуясь им, он очень гордился тем, что состоит по должности министра финансов шефом пограничной стражи. В прежнее время министр финансов был, в сущности, шефом пограничной стражи только denomine, командовал ею совершенно самостоятельно корпусной командир, но С. Ю. принимал свое «шефство» всерьез и входил довольно близко в дела управления корпусом. Надо отдать справедливость шефу, что поставлен был корпус очень хорошо, особенно в отношении снабжения, обмундирования и санитарной части по сравнению с армейскими корпусами, что, впрочем, отчасти зависело от возможности легко увеличивать материальные средства корпуса, лучше обеспечивать офицеров и т. п., так как ведь отпускаемые кредиты зависели от шефа, т. е. он распоряжался русскими финансами – то, что военному министру нелегко было провести в армии, то легко и просто проходило в военной части, состоявшей на попечении министра финансов.
Вместе с тем одной из характерных черт С. Ю., как мы еще увидим, была какая-то неустойчивость С. Ю. в некоторых его взглядах и мнениях. Он менял их очень легко и часто, как в делах крупных, так и в мелочах – безусловно, он поддавался иногда не только моменту, но и влиянию других, напр<имер> жены.
Как-то раз я заехал к больной М. И. случайно в парадной военной форме, в высоких сапогах, эполетах, при оружии и т. п. и, вероятно, имел довольно марциальный[101 - Воинственный, бравый.] вид. Во время моего визита в спальню пришел С. Ю. и увидел меня у кровати больной в таких доспехах, выразил свое удивление, зачем врачей так милитаризуют: «Для чего вам эти сапоги, шпоры, шашки и т. д.? Врач и военный должен быть прежде всего врачом, а все это придает врачу вид офицера…» – говорил он. Я объяснил ему, что офицерская форма военному врачу необходима потому, что среди офицеров военный врач должен быть членом военной семьи, для нижних чинов офицерский мундир нужен для того, чтобы нижние чины подчинились ему, так как в военной среде форме придают большое значение, штатский в этой среде полноправным не считается. «Я думаю, – возразил С. Ю., – что врач должен завоевывать свое положение не формой, а внушением к себе доверия и уважения своей врачебной деятельностью». Я не стал спорить и замолчал. Вскоре после этого я встретил как-то медицинского инспектора пограничной стражи Шапирова в казачьей папахе и спросил его, почему он носит папаху. Б. М. Шапиров, всегда стремившийся походить на настоящего генерала, хотя это ему плохо удавалось, ответил мне: «Я стремлюсь к возможности приравнять своих врачей к офицерам и просил С. Ю. исходатайствовать нам право носить такой же головной убор, как у офицеров пограничной стражи, и С. Ю. испросил это изменение нашей формы у государя». Меня это очень удивило, так как ведь это совершенно противоречило вышеприведенному мнению Витте. Однако мое удивление еще более увеличилось, когда я увидел в спальне М. И. большой портрет С. Ю. в военной форме, в папахе, с шашкой, что очень мало к нему шло. Оказалось, что С. Ю. исходатайствовал себе право носить форму пограничной стражи, но с узкими погонами для гражданских чинов, как у врачей. Правда, в этой форме С. Ю. появлялся редко, только в случаях, когда он появлялся перед строем, но, видимо, он сам и М. И. очень гордились этим правом С. Ю. носить военную генеральскую форму, иначе они не поставили бы на видном месте портрет С. Ю. в этой форме. Я ни разу не видел С. Ю. военным и не могу себе представить его штатскую, неуклюжую фигуру в военной форме… Думаю, что он не был особенно величествен… чтобы не сказать больше. Я слышал, что при своих поездках по России он принимал почетные караулы, рапорты офицеров, здоровался с людьми и т. п. Одним словом, этот крупный государственный человек «играл в солдатики» и, вероятно, вызывал нередко улыбку у своих офицеров. Так как С. Ю. вел очень сидячий образ жизни, то врачи посоветовали ему ради моциона верховую езду. Мысль эта ему понравилась, и он взялся за это так же серьезно и деловито, как он брался за все. Он выписал себе крупного, хороших кровей hunter'a, который мог бы нести его вес, взял себе учителя верховой езды и выучился ездить как следует. Летом, живя на даче на Елагином острове, С. Ю. чуть ли не ежедневно делал большие прогулки верхом, но странно было то, что выезжал он в военной форме и в сопровождении офицера из нижних чинов пограничной стражи – видимо, он был доволен, что выезжал как настоящий военный генерал. <…>.
Здесь я хотел бы сказать несколько слов о подруге жизни С. Ю. – Матильде Ивановне, несомненно имевшей на него большое влияние. Недаром же новые золотые, выпущенные вместо полуимпериалов при Витте, называли «матильдами». М. И. по своей внешности не могла быть названа женщиной красивой, ни даже хорошенькой. На мой взгляд, можно было только сказать, что она не некрасива. Элегантности в ней тоже не было, не было и национально-еврейского типа, который бросался в глаза у ее сестер, и говорила она без акцента, но несколько на южный лад. <…> Было у М. И. «что-то» – «un je ne sais quoi»[102 - Нечто необъяснимое (франц.).], что очень нравилось мужчинам, но мужчинам известного типа и возраста. Я лично никогда не находил ее привлекательной как женщину, но многие не были моего мнения. Она несомненно была очень умна, большей частью тактична и выдержана и этим своим «savoir vivr<e>»[103 - Житейская мудрость (франц.).] тактом и чисто женским «чутьем» умела во многом сглаживать шероховатости мужа в его отношениях с людьми. Образования она была, я думаю, очень невысокого, но это не было заметно – природный ум и здравый смысл заменили его. Ее такт скрывал недочеты воспитания. Конечно, она собиралась быть светской женщиной и сумела этого достичь в известной мере настолько, что позже графский титул не шокировал в ней никого. Как я уже сказал, М. И. была верным другом мужа и близко принимала к сердцу все, что касалось его. Я не думаю, чтобы С. Ю. делился с нею своими мыслями касательно его государственных дел, но о перипетиях своей службы и о своих отношениях с людьми он не только говорил с нею, а даже с ней советовался. Не сомневаюсь, что он нередко поручал ей добыть ему некоторые сведения от знакомых и сблизить его с нужными ему людьми, и она умела делать это очень тонко, часто исправляя сделанные им промахи. Главной целью ее жизни было доставить мужу спокойную и приятную семейную жизнь и этим упрочить его привязанность. <…> Никогда я не видел даже намека на ссору между супругами или семейную сцену, хотя я думаю, что характер С. Ю. не всегда был приятен для совместной жизни. Вероятно, она умела угодить ему и как женщина, ибо С. Ю. ее обожал, был ей предан «как собака» и не мог без нее обходиться. Видимо, М. И. была одна из тех редких женщин, которые умеют объединять роли жены и любовницы. Одним словом, они жили, что называется, «душа в душу». М. И. сумела внушить мужу и любовь к ее дочери, и С. Ю. относился к своей приемной дочери как к родной. Так же хороши были и отношения Веры Сергеевны к мужу ее матери, что так редко бывает.
Я не сомневаюсь, что М. И., пользуясь привязанностью к ней мужа, во многих отношениях влияла, конечно, подчас сдерживая его порывы, смягчала его нрав и вообще проводила то, что хотела, но так ловко, с такой [нрзб.], что он этого не замечал. Если М. И. говорила, что С. Ю. сделает то или другое, дает свое согласие и т. п., то это так и бывало.
Если у М. И. и были отрицат<ель>ные стороны, то это были черты ее национальности: она была человек очень личный, в ней имелась известная склонность к интригам, и она, может быть, бессознательно тяготела к представителям своей национальности. Если С. Ю. и был действительно иудофилом больше, чем это было желательно для русского министра финансов и государственного человека, то это было, несомненно, выражение влияния жены, недаром же еврейство с большим почтением и великими надеждами взирало на «свою», взобравшуюся на такую высоту.
Если я позволил себе так подробно остановиться на характеристике М. И., то только потому, что муж и жена были настолько спаяны «воедино», что тот, кто ближе знал С. Ю., не мог себе даже представить его без нее.
Первые годы замужества за С. Ю. в холодной, казенной обстановке министерского дома были для М. И. нелегки. Все ведение дома, все хозяйство, все домашние заботы лежали исключительно на ней, причем ей бывало трудно справиться и в материальном отношении. С. Ю. был [нрзб.] не скуп, но – как это ни странно – не знал цену деньгам и даже приблизительно стоимость той обстановки, в которой он жил. Своих средств у С. Ю. вначале не было. 20 числа он приносил свое жалованье жене и не спрашивал, как она справляется с этими сравнительно незначительными средствами, совершенно не входя в хозяйственные вопросы.
М. И. часто жаловалась мне, что справляться ей очень трудно и она принуждена изворачиваться сама, как знала, проживая даже ее собственный капитал. Так, по крайней мере, она мне говорила. Лишь позже, после конверсий и заграничных займов, за которые С. Ю. получил известный процент, средства его улучшились, и М. И. стало легче. В городе много говорили, будто она играла на бирже и, конечно, с большим успехом, но я этого не думаю. Если она без ведома мужа что-либо и наживала, то это было, сколько я могу себе представить, вполне легально и незначительно. Не думаю, чтобы я ошибался в этом отношении, во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь мог сказать на основании фактов, чтоб С. Ю. или М. И. занимались аферами или обогащением себя, пользуясь служебным положением С. Ю., – у него было слишком много врагов и недоброжелателей, и поэтому я не сомневаюсь, что всякое некорректное отношение его или М. И. к денежным делам, несомненно, очень скоро всплыло бы наружу. Если у М. И. после смерти мужа и образовалось довольно крупное состояние, то это было результатом полученных С. Ю. прежних денежных наград и проценты, причем эти капиталы были увеличены умелым помещением их. Так я смею думать и навряд ли ошибаюсь.
В эти первые годы замужества М. И. ей жилось тяжело и в нравственном отношении – скучно, тревожно и одиноко. В доме бывали только мужчины, коллеги и подчиненные мужа, женщины игнорировали М. И. В то время у четы Витте изредка бывали полуофициальные обеды, но они были скучны, довольно натянуты и без претензий, в чем я имел случай убедиться лично. Навряд ли эти приемы могли развлекать и удовлетворять М. И. Близких знакомых и друзей у М. И. кроме нескольких мужчин, не было. Были, правда, всегда ложи в театрах, но не было ни приятельниц для совместного посещения театров, ни интересных кавалеров. Она проводила целые дни и вечера одна или в сообществе своей дочери и нескольких «прихлебателей», которых она прикармливала. Петербургский «свет» относился к М. И. отрицательно, частью с завистью, частью со злорадством, и ее «травили» не только женщины, но подчас и некоторые мужчины. Она это знала, понимала, и ее самолюбию приходилось испытывать нередко болезненные уколы, от чего она немало страдала душой, как сама мне говорила в минуты откровенности, иногда даже со слезами в глазах.
Припоминаю, как в одном доме И. Л. Горемыкин, тогда еще товарищ министра юстиции, говорил при мне, что он никогда не допустит знакомства своей жены с М. И., добавляя, что бывать «у той женщины» зазорно не только дамам, но и уважающим себя мужчинам. На другой день я заехал в сумороках[104 - Т. е. в сумерках (обл.).] к М. И. Человек доложил, что у них гости, и пошел обо мне доложить. Через несколько секунд я увидел через открытую дверь, как по полутемной зале из комнат М. И. прошмыгнул Горемыкин. Войдя к М. И., я спросил ее, часто ли у нее бывает Горемыкин. «Очень часто, – ответила она, – он повадился бывать у меня в это время в надежде встретить С. Ю., который ему нужен, но который избегает принимать Горемыкина; этот господин обивает у меня пороги, а в городе вешает на меня собак, боится встретить у меня кого-либо и убегает тайком, как только ко мне кто-нибудь приедет в то время, как он у меня. Я отлично его понимаю, и мне это страшно в нем противно».
В другой раз М. И., показывая мне визитную карточку одной очень высокопоставленной дамы, добавила: «Сегодня я удостоилась большой чести, мне отдали визит графиня В<орон-цо>ва<-Дашкова>, которой я сделала визит, потому что граф бывает у моего мужа по своим делам и на днях зашел ко мне с С. Ю.» Я этому не удивился, ибо знал, что граф продает очень выгодно одно свое имение в Крестьянский банк для поправления своих несколько расстроенных дел. Через несколько дней я встретил графиню В<оронцо>ву<-Дашкову> в Гатчине у императрицы-матери. За завтраком графиня громко рассказывала императрице, смеясь, как она на днях ловко избегла знакомства с m-me Витте. «На днях она была у меня, – говорила графиня, – но, к счастью, не застала меня и оставила карточку. Я не знала, как мне быть, и несколько дней придумывала способ выйти из этого положения, но ничего не могла придумать, ибо не отдать визит я не считала возможным и портить отношения между Витте и моим мужем я не хотела (еще бы! – подумал я). На днях я, катаясь по набережной, встретила идущую пешком m-me Витте, и мне пришла в голову богатая мысль. Я приказала кучеру сейчас же повернуть и ехать к Витте, которой наверное не было дома. Я отдала карточку и теперь надеюсь, что этот кошмар кончен». Все смеялись и находили, что графиня очень находчива, но я, кажется, один знал причину, почему графиня не могла не отдать визита М. И., ибо банк уплатил ее мужу, как говорили, 3
/
миллиона за имение, которое стоило максимум 1
/
–2 миллиона[105 - Интересно, что через несколько лет дочь графини В<оронцо>вой<-Дашковой>, графиня Ш<еремете>ва, была одной из самых близких приятельниц М. И. – Примеч. авт.].
Большой неприятностью для М. И. являлась невозможность представиться ко двору, и она, и С. Ю. под ее влиянием, делали все возможное, чтобы достичь этого. Как-то раз М. И. сказала мне, что, по ее мнению, ее приему при дворе главным образом препятствует императрица-мать, что благодаря этому ее положение очень неприятное, особенно жаль ей своей дочери, которая во всяком случае ни в чем [не] повинна, [но лишена] ее удовольствия бывать на придворных балах и поэтому – во многих частных домах. На днях М. И. посетил велик<ий> кн<язь> Алексей Александрович и обещал ей убедить императрицу Марию Федоровну принять М. И., после чего она, несомненно, будет принята и молодой императрицей. Через несколько дней я был у императрицы в Гатчине, и в разговоре императрица что-то упомянула о М. И., я воспользовался случаем и затянул этот разговор, от которого у меня осталось впечатление, что она, в сущности, была бы не прочь принять г-жу Витте, но… «Я вчера говорила с моим beau-fr?re'ом[106 - Деверем (братом мужа).] Алексеем Александровичем (которого императрица очень любила за его сходство с государем Александром III) и спросила его мнение о m-me Витте, которую он знает. Он сказал мне, что бывает у нее, но <…> никогда не допустит, чтобы я ее приняла. [Есть особы, с которыми императрицы не должны встречаться], – сказала она мне. Вы видите, что это мнение моего beau-fr?re'а, знатока женщин, и что я здесь ни при чем».
Я замолчал и никогда больше о М. И. у императрицы не заикался, ибо понял, что дело непоправимо, о чем я, конечно, М. И. не сказал ни слова. После Портсмутского договора и пожалования Витте графского титула М. И. первой приняла императрица Александра Федоровна, а потом и государыня Мария Федоровна.
[После этого я как-то спросил императрицу-мать: «Vous avez vu m-me Witte, madame?» – «Qui»[107 - «Видели ли вы мадам Витте, ваше величество?» – «Да» (франц.).], – ответила государыня коротко и сухо. Хорошо зная императрицу, я понял, что она была недовольна моим вопросом.][108 - Текст в квадратных скобках вычеркнут автором.] <…>
IV
Нередко мне приходилось беседовать с С. Ю. по поводу винной монополии, за которую на Витте сыпалось столько обвинений. С. Ю. вполне справедливо сознавал, как и все, всю безнравственность обогащения казны за счет развращения народа перед войной, но он пока не находил другого способа сводить государственную роспись до тех пор, пока при большем развитии экономического состояния страны не найдутся другие источники. Однако несомненно, что С. Ю. был прав, когда говорил, что монополия была менее безнравственным приемом, чем система акциза и откупа с их развращающими народ кабаками, ведь бесспорно, что С. Ю. мы были обязаны уничтожением кабака и введением винных лавок, в которых не давали водки под залог вещей и нельзя было найти притона всем порокам, как это бывало в кабаках. По праздникам водка не продавалась, и, наконец, народу давали по крайней мере чистый спирт вместо той отравы, которой торговали кабаки. Правда, что тем не менее количество потребителей спирта росло и увеличивало доходы казны, но все же принимались меры, чтобы по возможности ослабить [нрзб.] зло и об них С. Ю. действительно искренне заботился и этим, скрепя сердце, как он не раз мне говорил, гордился. Вместе с тем С. Ю. заботился о принятии мер, способствующих трезвости, как это ни поразительно, и выдавал большие суммы с этой целью комитету народной трезвости, сплотившемуся под руководством принца А. П. Ольденбургского. Таким образом, был построен и широко оборудован народный дом, открыты чайные, столовые, буфеты, театры для народа. Правда, все это было каплей в море по сравнению с морем водки, заливавшей Россию, но все же при С. Ю., как-никак, для этого делалось больше, чем раньше. С точки зрения чисто коммерческой все дело торговли спиртом было поставлено очень широко и солидно, в чем я мог убедиться во время войны, когда мы в провинциальных городах на фронте, подыскивая лучшие помещения для санитарных учреждений, чаще всего реквизировали винные склады Министерства финансов как лучшие здания в городах. <…>
Теперь я приведу два очень интересных разговора с С. Ю., которые у меня были с ним в 1900 и в 1905 гг. и которые представляют собой большую ценность, потому что они тогда же немедленно были записаны мной дословно.
V
4 августа 1900 г. я был вызван к министру финансов С. Ю. Витте по известному мне делу. Оказалось, что 1 августа С. Ю. был у императрицы Марии Федоровны и хотел сообщить мне приятную новость, что по просьбе государыни он выдает мне 19 000 руб. на светолечебный кабинет при моей клинике.
Поблагодарив его и дав ему интересовавшие сведения по деятельности Красного Креста на Дальнем Востоке, я воспользовался случаем и спросил С. Ю.:
– Не можете ли вы сказать мне конфиденциально, посылать ли нам наш краснокрестный персонал на Восток? Не время ли остановиться? Ведь дело, по-видимому, налаживается? Что вы думаете? От военного министра ведь этого не узнать.
– Ничего сказать вам не могу, – ответил С. Ю., – я лично думаю, что ваш персонал придет тогда, когда все будет кончено. Со взятием Пекина военным действиям конец. В общем, мое мнение таково, насколько я себе его представляю, так как дело ведь не в моих руках, – эту картинную войну ведет и желает вести Куропаткин. Чего он хочет – я не понимаю. Долго ли у него будет охота продолжать кампанию, я не знаю. Если говорят об умиротворении, то там скоро нечего будет делать; если же искренне желать воевать, то с Китаем можно воевать и 10 лет и разорить Россию. Это ужасный человек, этот Куропаткин. Может быть, он хороший корпусной командир, и то для войны с «дикими», с [нрзб.], с сартами, и не военный министр, не государственный человек. От него не знаешь, что ждать. Что там будет с Кореей и Японией – я не знаю, но с Китаем нам нечего делать. К сожалению, государь меня не спрашивает. Он вообще за все время ни разу не собрал совещания, и три министра говорили ему врозь, а Куропаткин, толкуя о «моменте», о славе и т. п., сбивает его с настоящего пути.
– А что вы думаете про назначение Вальдерзее? – спросил я.
– По-моему, это очень умный шаг, – говорил С. Ю. – Если будет плохо, то все будут обвинять немцев, а не нас. Ламздорф это отлично устроит; я вообще им очень доволен. Да ведь эту войну, как я уже вам сказал, выдумал и вызвал Куропаткин. Я умолял не начинать войны в Маньчжурии и справился бы с Ренненкампфом и нашей пограничной стражей. Как только пустили войска, так и пошла катавасия. Югович предупреждал ведь, что прибытие войск вызовет брожение и разгром жел<езной> дороги, так оно и вышло. Но ведь Куропаткину это все равно. Они ведь в конце концов разорят бедную Россию.
– Сколько мне известно, вы ведь сначала были против захвата Порт-Артура и постройки Амурской дороги? – заметил я.
– Конечно, – продолжал С. Ю. – Я вполне разделял и разделяю мнение, что у нас на Востоке много дела, что там у нас, как и в Сибири, большие интересы, но ведь нельзя в 3 года сделать то, на что требуется 25 и больше лет. Ведь Сибирь только в зародыше. Ведь прежде дорога должна была идти на Владивосток. Когда взяли Порт-Артур, то я, не сочувствуя этому захвату, настоял на перемене направления, на путь через Маньчжурию, ибо без этой дороги Порт-Артур не имел смысла. Лучше было взять порт в Корее, но я тогда не мог переубедить молодого государя, которому захотелось в один миг сделать невозможное, и это под влиянием графа Муравьева, которого, слава Богу, господь прибрал, хотя и поздно.
– Совершенно согласен с вами, – перебил я С. Ю., – можно ли думать о солидном порте, о военном влиянии, когда дорога не готова и нет даже телеграфа (тогда пользовались иностранными кабелями, кажется, датским).
– Ну, конечно, – продолжал горячо Витте, – я понимаю, что сначала необходимо построить Сибирскую дорогу, постепенно перевезти войска, немного устроить Сибирь, сибирские города, дать немного культуры Сибири, а потом уже думать о порте на Тихом океане. Но ведь для этого нужно 10–20 лет, а не два года. Вот и запутались и разоряем Россию. Но я ничего сделать не мог. Скажу вам, пожалуй, откровенно почему. Когда немцы взяли Киао-Чао, заговорили о порте для нас. Я был очень против этого, и меня очень поддерживал морской министр. Я был тогда очень прост и говорил то, что думал. Заехал я раз к советнику германского посольства – посла Радолина не было. До этого момента император Вильгельм относился ко мне очень хорошо и не раз выражал мне свои симпатии. Я позволил себе доказывать советнику посольства, что Германия делает ошибку, что захват Киао-Чао может иметь неисчислимые последствия, и очень серьезные, что лучше этого не делать. С того времени император Вильгельм совершенно изменился ко мне и стал относиться ко мне недружелюбно. Вскоре после этого разговора с советником посольства ко мне заехал Радолин. Мы беседовали с ним вот так, как с вами. Я говорил ему как частный человек и в разговоре на его вопросы по китайским делам, говоря о захвате портов, проронил фразу «tout cela finira tr?s mal»[109 - Все это плохо кончится (франц.).]. Радолин телеграфировал об этом разговоре со мной императору Вильгельму, а гр<аф> Муравьев, занимавшийся перлюстрацией, перехватил эту телеграмму и показал ее государю. С тех пор государь от меня отвернулся, не говорит со мной, я с того времени не могу вернуть себе доверие его.
«Что они делают! Да вот финляндский вопрос. Ведь что тоже все наделал Куропаткин. Я согласен, что в некотором отношении Финляндию можно было и следовало прибрать к рукам, но только постепенно и не так, как это делают Куропаткин и этот государственный человек – Бобриков. На днях еще он издал циркуляр, в котором он говорит, что Николай I послал в Финляндию жандармов для насаждения нравственности – а?! – что их там очень часто били и оценили, что потому Николай II, желая усилить это благодетельное влияние на Финляндию удваивает число жандармов, а он – Бобриков – выражает надежду, что финляндцы примут их с такой же любовью. А?! И это пишет генерал-губернатор! Ведь это постыдно! В стране, где не было никаких «шумов», ни проявления нигилизма, ни социализма, где никогда не принимали участия в антимонархическом движении, теперь дама не может собрать в своей гостиной знакомых, не испросив разрешения у «нравственных жандармов». Я понимаю, что немцы наводят порядки или что они что-нибудь ломают, а то государство, которое имеет в столице Клейгельса с его полицией, заводит порядки в такой культурной стране, как Финляндия. Ведь это позор, варварство!
Я заметил, что на меня очень нападали в свите государя, напр<имер>, ген<ерал> Гессе, когда я говорил то же еще два года тому назад и возмущался речами Бобрикова и частыми статьями его клевретов. «Ведь скверно то, – говорил я, – что Бобриков не только говорит несуразности, а как бы с удовольствием купается в этом, дразнит и ожесточает».
С. Ю. продолжал:
– Совершенно верно. А тут еще взяли Плеве. Когда государь спрашивал мое мнение о кандидатах в министры внутренних дел, я, в свою очередь, спросил: «А кто же кандидаты вашего величества?» – «Плеве и Сипягин», – ответил государь. Я могу характеризовать их, но рекомендовать не смею, выбирайте вы. Самый Плеве человек очень умный, ловкий, он честный и отличный администратор, вообще человек вполне подходящий. Но когда был министром Толстой, он был его мнения; когда был Игнатьев, он был его мнения; когда был Дурново (Ив<ан> Ник<олаевич>), Плеве мнения не имел, потому что и у Дурново мнения не было. Сипягин – человек, правда, и не очень умный, может быть, и крайний, – «псовый охотник», как вы его назвали (это я), но это человек дельный, со своими взглядами и не флюгер. Это менее опасно, чем умный, да без принципов. Взяли Сипягина и Плеве доверили Финляндию. Он поднял нос, понюхал, понял, что требуется, и тут же стал гнуть. Чем это кончится?!
– А говорили вы об этом с императрицей Марией Федоровной? – спросил я.
– Да. Она еще дольше идет, чем я, и думает обо всем этом еще гораздо хуже, чем я.
На этом мы разошлись.
5 августа. За завтраком у императрицы Марии Федоровны, конечно, много говорили о Китае. «Qu'on prenne Pе?kin et que ce cauchemar finisse»[110 - Пускай захватят Пекин, только бы этот кошмар закончился (франц.).], – сказала императрица.
На мое замечание в<еликой> к<нягине> Ксении Александровне, что она думает о Вальдерзее, она сказала мне, вероятно, мнение своего мужа: «Одна надежда, что этот противный немец приедет, когда все будет кончено».