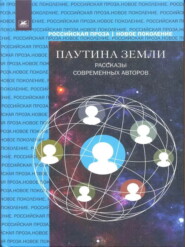По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С. Ю. Витте
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А теперь, Станислав Максимилианович, можете меня поздравить. Я назначен управляющим Министерством путей сообщения.
Мы поцеловались.
В промежуток времени наполнился кабинет сослуживцами С. Ю. Дежурный чиновник успел уже их оповестить. Тут были оба вице-директора департамента Романов и Ягубов, члены Тарифного комитета Ковалевский и Максимов, секретари Зельманов и Циглер фон Шафгаузен, все товарищи Витте еще со времен его службы на Юго-Западных жел<езных> дорогах. Поздравления, объятия, оживленная беседа о планах будущего, о предстоящей работе нового министра.
* * *
Февраль 1892 г. был на исходе. В 17 губерниях Приволжья, Камской области, Урала и Севера гибли люди от голода. Неурожай 1891 г. был катастрофический. Небольшие запасы предыдущего года были давно съедены, от рабочего скота осталось только вспоминание в виде содранной кожи; население кормилось древесной корой, мхом, еловыми шишками, сушеной листвой, лебедой, отрубями с примесью некоторой доли ржи и овса. Трагизм положения усиливался тем, что остальные губернии имели хороший, отчасти блестящий урожай и, тем не менее, были лишены возможности помочь своим братьям. Хлеб отправлялся вместо голодающих в балтийские и черноморские порты для вывоза за границу; в Ревеле, Риге, Либаве, Одессе лежали миллионы пудов хлеба; пароходы грузились день и ночь, чтобы уйти до опубликования ожидаемого запрещения вывоза. На железных дорогах господствовал невероятный хаос; все они были оборудованы исключительно на вывоз; две колеи путей существовали только на линиях, ведущих к портам. Начиная же от Москвы в направлении на восток и север все железные дороги имели лишь одну колею и не смогли, когда к этому явилась необходимость, перевозить сотни тысяч и миллионы пудов в обратном направлении с юга и запада на восток и север. Уже на первых станциях за Москвой получалась закупорка. М<инистерст>во путей сообщения пробовало то тот, то другой паллиатив, но все безуспешно.
Транспортный хаос усиливался с каждой неделей. Трудно и было ожидать другого результата. Принцип замещать министерские посты людьми, единственная заслуга коих заключалась в том, что они успели благополучно пролезть по чиновничьей лестнице до мест, с которых высочайшей воле подобало назначать «главы» министерств, потерпел явное банкротство. Во главе М<инистерст>ва путей сообщения стоял д<ействительный> с<татский> с<оветник> статс-секретарь А. Я. Гюббенет, который товарищем, а затем и министром прошел службу по М<инистерст>ву финансов в Департаменте… счетоводства и славился как отличный бухгалтер. Его предшественник, который более десятка лет до катастрофы в Борках заведовал Министерством путей сообщения, вице-адмирал и генерал-адъютант Посьет, черпал свои железнодорожные познания в службе по морскому ведомству. Управляющими и начальниками движения железных дорог были исключительно питомцы Института инженеров путей сообщения, связанные молчаливым соглашением не допускать к таким должностям никого, кроме вышедших из названного института. Все они были несомненно хорошими строителями, вероятно, и прекрасными техниками, но им не хватало, за малыми исключениями, главного – административн<ых> способностей. Это последнее и было одной из причин, что министр финансов А. И. Вышнеградский[97 - Правильно – И. А. Вышнеградский. – Примеч. ред.], не желая далее покрывать из госуд<арственных> средств всё усиливающиеся дефициты железных дорог, решил устроить у себя особый Департамент железнодорожных дел, во главе которого им был поставлен управляющий железнодорожной сетью в 2 500 верст, не «путеец» и даже не инженер, – Витте.
Хаос на железных дорогах и вызванные им затруднения в снабжении хлебом голодающих вызвали всеобщее возмущение, нашедшее свой отклик в громких статьях печати, требующей с непривычным в России единогласием замены Гюббенета деловитым специалистом-железнодорожником с предоставлением ему диктаторских полномочий. Имя Витте было у всех на устах, не сходило со столбцов печати. Могла ли, однако, бюрократия мириться с назначением в министры человека, ей все еще чуждого, «пришельца со стороны», который еще четыре года до того имел скромный чин коллежского асессора и при назначении в директора департамента перескочил сразу семь ступеней Табели о рангах, сделавшись сразу д<ействительным> с<татским> с<оветником>? С мыслью видеть Витте товарищем министра бюрократия уже начала, хотя и против воли, свыкаться, но на министерском посту?.. Нет! И целые недели обсуждались всё новые и новые комбинации, искали кандидатов в среде членов Госуд<арственного> совета, хватались и за кандидатуру принца А. П. Ольденбургского, выдвигавшего себя самого, где бы какая вакансия ни открывалась. Во всех, однако, комбинациях фигурировало имя Витте как товарища министра и фактического главы железнодорожного управления. Александр III решил рассечь гордиев узел и назначил Витте прямо министром.
* * *
В то время как в кабинете нового министра шли эти разговоры, главари М<инистерст>ва путей сообщения обсуждали положение, созданное сделавшейся только что известной отставкой А. Я. Гюб-бенета. Их, однако, ожидала еще худшая беда. По телефону было передано, что Департамент железнодорожных дел М<инистерств>а финансов празднует назначение Витте преемником Гюббенета. Верхи сразу почувствовали, что их дни в министерстве сочтены. В борьбе между Витте и Гюббенетом, ведшейся с обеих сторон с невероятным ожесточением, не брезгуя личными выпадами и клеветой, принимали деятельное участие все высшие чины министерства. Назначенная уже дуэль между Гюббенетом и Витте была задержана вмешательством вел<икого> кн<язя> Михаила Николаевича. Витте обратился к министру внутр<енних> дел И. Н. Дурново и к издателю «Гражданина» кн<язю> Мещерскому с просьбой быть его секундантами. Вызывающим был Сергей Юльевич. Если Витте в душе желал, чтобы эта дуэль не состоялась, то он не мог сделать лучшего выбора своих секундантов.
Верхи министерства поэтому постановили отправить делегата к новому министру и просить директора канцелярии тайного советника Мицкевича, он же и гофмейстер, принять на себя эту миссию. Через полчаса явился на Б<ольшую> Морскую Мицкевич и просил доложить о себе Сергею Юльевичу. Сразу опустел кабинет.
С. Ю. просил меня настойчиво остаться. Я не мог понять, что может означать это странное и, пожалуй, в данном случае более чем неуместное желание С. Ю.
Войдя в кабинет и увидев там постороннего человека, в то время как он надеялся на конфиденциальную беседу с новым министром, Мицкевич был не менее меня озадачен и не сразу нашелся. Витте не дожидался обращения к нему нового своего подчиненного и, не приглашая его садиться, спросил резким голосом:
– Цель вашего визита?
Мицкевича передернуло. Невежливый тон, нарушение обычных светских форм, присутствие свидетеля нанесенной ему обиды сразу дали ему понять, что ему нет места в министерстве при новом начальнике. Привыкший сдерживаться, светский человек, каким он был, Мицкевич корректным и ровным голосом отчеканил:
– Явился по поручению высших чинов министерства узнать, когда и где будет вашему превосходительству угодно принять их (назвав Витте превосходительством вместо «высокопревосходительства», какое обращение ему, как министру, полагалось, хотя он не был действительным тайным советником, Мицкевич пожелал, в свою очередь, уколоть Витте).
– Завтра в 11 часов я буду принимать в кабинете министра.
– Позволяю себе доложить вашему превосходительству просьбу бывшего министра разрешить ему остаться в министерской квартире еще 8 до 40 дней[98 - Так в оригинале.] до приискания частной квартиры.
Витте как будто задумался несколько секунд, затем, не отвечая на вопрос, процедил тем же резким, враждебным голосом:
– Имеете еще что-нибудь доложить?.. Нет!.. Прощайте!
Не теряя дальнейших слов, Мицкевич вышел из кабинета. Только во время сцены, разыгравшейся в моем присутствии, я понял, чем руководился Сергей Юльевич, задерживая меня в кабинете. Вся эта сцена была у него уже предрешена в момент, когда ему доложили о Мицкевиче. Витте хотелось иметь свидетеля своей мести, свидетеля независимого, не связанного обязательством служебной тайны. Мицкевич имел по своей должности гофмейстера большие связи в высших придворных кругах и не преминул их использовать во вред Витте, будучи душой всех против него интриг. Новый министр не имел мужества или не считал себя еще достаточно сильным, чтобы уволить самому долголетнего службиста, но желал заставить его уйти и избавиться от него косвенно. Мицкевич сам подал тотчас в отставку, а А. [Я.] Гюббенет в тот же день переехал в гостиницу.
* * *
Вечером следующего дня я по приглашению Сергея Юльевича посетил его в министерском кабинете на Фонтанке. Из всех министров того времени министр путей сообщения имел самую красивую квартиру. В его распоряжении был целый дворец, специально пристроенный к зданию министерства и имеющий выход в чудный Юсуповский сад. Мы шагали почти всю ночь взад и вперед по огромному кабинету с высоким куполом и дивными фресками, бродили по длиннейшим коридорам, осматривали достопримечательности дворца, выходили в сад. Ночь была сухая, безветренная и почти теплая, несмотря на февраль. Все время мы обсуждали программу предстоящей деятельности нового министра, его планы к реорганизации железнодорожного движения, меры помощи бедствующему населению голодающих губерний и обеспечению его, пока еще возможно, посевом для следующего урожая.
Уже светало, когда наша беседа перешла на другие вопросы, уже постороннего характера. Сергей Юльевич сообщил о своем намерении жениться вторично. Год тому назад он сделался вдовцом. Ему тяжело одиночество. Мне были известны городские слухи, вертевшиеся около этого брачного плана, и я предвидел, какие уколы самолюбию и тяжелые испытания готовит этот брак С. Ю. Против воли я покачнул головой и на моем лице выразилось, вероятно, ясное сомнение, ибо Сергей Юльевич, усадив меня против себя, стал говорить с непривычной для него горячностью.
– Я люблю эту женщину и хочу, хоть раз в жизни, сделать что-нибудь для своего личного счастья. До сих пор я жил только для своего честолюбия. Сейчас, когда я достиг того, о чем я уже мечтал, будучи начальником дистанции, живя в еврейском местечке, я хочу иметь свой домашний уют. При моем характере и известном вам пренебрежении к светским формам жизни ни одна женщина из высших кругов – а там должен был бы делать свой выбор министр, собираясь жениться, – не может мне обеспечить то, чего я желаю, – домашний очаг. Вы знаете, каким несчастным был мой первый брак. Я не слеп и не скрываю от себя тех осложнений, которые я вызываю своим браком, но я их не пугаюсь и одолею. Пока же мне нужны деньги для брака.
С. Ю. назвал сумму 35 000 рублей, которые требует муж его будущей жены за свое согласие на развод. Я отлично понял, почему Витте мне все это рассказывает, но не мог реагировать на его намек. Моя газета в то время еще не имела своего позднейшего распространения, и я не имел еще материальной базы, создавшейся впоследствии.
Как человек большого ума, С. Ю. не настаивал и перешел на другие темы.
Проппер С. М. Первый день министра: (Листки из воспоминаний) // Сегодня. Рига, 1928. № 272 (7 октября).
Н. А. Вельяминов
Встречи и знакомства
Я знал С. Ю. в течение многих лет – 24 года с момента его появления на петербургском горизонте и до смерти, был врачом-консультантом его и его семьи, на правах врача-друга был принят в его доме, часто беседовал с ним, больше слушал, но иногда удостаивался слышать откровенные его мнения. Он доверял мне как врачу и человеку, спрашивал меня иногда мое мнение о людях и отношениях, которых он не знал и которые он хотел узнать, подчас рассказывал мне исторические эпизоды из своей жизни и деятельности, нередко высказывал мне свои взгляды на государя Николая II и т. д. Одним словом, я знал графа С. Ю. Витте в обстановке его интимной, семейной жизни, хорошо знал его жену, несомненно имевшую на него большое влияние, и поэтому у меня сохранились в памяти и записках некоторые отрывки из отношений с ним, его бесед, его взглядов на людей и события, которые, как кажется, не лишены некоторого исторического интереса и могут служить хотя бы слабыми штрихами в изображении его нравственного облика, который со временем нарисуют более компетентные современники его. <…>
I
В августе 1891 г. я как-то приехал из красносельского лагеря в город и совершенно случайно попал на званый обед к некоему Г. З. Этот Г. З. был холостяк средних лет, по профессии – присяжный поверенный, но никогда не имевший дел в суде, а занимавшийся какими-то «финансовыми делами», и был то, что в тогдашнем Петербурге называли «дельцом» и теперь, пожалуй, назвали бы «спекулянтом». Этот господин был большой гастроном и даже автор кулинарной книги. Ему для его «дел» нужны были дружеские отношения с крупными представителями чиновничества и бюрократии, и он от времени до времени давал у себя «тонкие» обеды, на которые приглашались восходящие светила из бюрократического мира из числа директоров департаментов и других лиц приблизительно того же «ранга», метивших в министры или, по крайней мере, в товарищи и обещавших, во всяком случае, выдвинуться. Бывали на этих обедах обычно только мужчины, но иногда приглашались и две дамы – сестра хозяина, бывшая замужем за одним влиятельным бюрократом, и одна очень интересная и элегантная великосветская женщина. Вот на такой обед с дамами попал и я, как уже сказано, совершенно случайно, в чуждый мне тогда мир. Я никого не знал и держался дам, которые вместе с мужем одной из них и посвящали меня в оценку общественного значения отдельных лиц из гостей Г. З., в числе которых находился и мало кому известный еще новый пришелец С. Ю. Витте.
Я узнал тогда, что «открыл» Витте бывший министром финансов императора Александра III талантливый И. А. Вышнеградский. Последний до того, чтобы стать министром, был председателем правления Юго-Западных жел<езных> дорог, а Витте – управляющий этими дорогами, почему Вышнеградский и имел случай хорошо узнать Витте. <…>
Я сидел за обедом далеко от С. Ю. и не слышал его разговоров; после обеда, как человек деловой, он вскоре уехал, но среди гостей Г. З. вечером только и говорили, что о Витте. Одни его критиковали и были склонны видеть в нем карьериста, другие отдавали дань его уму, знанию дела и готовы были предсказать ему большое будущее. Во всяком случае, уже по этим разговорам среди несомненно более выдающихся и сравнительно еще молодых бюрократов можно было заключить, что Витте человек недюжинный и сразу становится центральной фигурой там, где он появляется. <…>
По своей наружности С. Ю. никакого особенного впечатления не производил, а если и производил, то скорее отрицательное. Это был тогда человек лет под сорок, высокого роста, тогда еще худой, очень некрасивый, с неправильным и неприятным профилем вследствие как бы запавшего носа (потом на всех портретах этот нос подправляли) и умными, хитрыми, скорее добрыми, часто усталыми и тогда «рыбьими» глазами. Его фигура была какая-то неуклюжая, непропорциональная, грубая, «медвежья», как бы срубленная топором, напоминавшая собой старые фигуры человека физического труда и не интеллигента. Светское воспитание в нем совершенно отсутствовало. Одевался он небрежно, неумело, по-провинциальному. В глаза бросались его громадные ноги, обутые в сапоги, как у американского угольщика; длинные руки, как у приматов, с длинными, некрасивыми червеобразными пальцами, всегда желтыми от табачного дыма, с коротко остриженными, как бы обгрызенными ногтями. В общем, это была фигура типичного плебея, хотя он и происходил из интеллигентной дворянской семьи. Он производил впечатление интеллигентного рабочего или управляющего большим заводом или фабрикой, вышедшего из среды рабочих, но никак не петербургского бюрократа. Говорил он с несколько южным акцентом, резко, коротко, но образно, и тогда в нем чувствовался сразу человек большого ума, очень сильной воли, большой энергии, железной работоспособности, но властный, очень самоуверенный и, в сущности, деспот. Во всем его облике чувствовался тип американца, человека самобытного, самородка, selfmademan, человека, выбившегося своим трудом и своими талантами. Вероятно, он так быстро приобрел себе потом такую популярность в Америке, когда он там заключал Портсмутский договор, поэтому же и он сам говорил потом с таким увлечением о своих впечатлениях в Америке, все потому же он так и «шокировал» петербургские «сферы» и элегантных придворных. Языки С. Ю. знал плохо, по крайней мере по-французски он говорил очень плохо, но этим не стеснялся, особенно когда стал большим сановником, – ему было важно, чтобы его понимали, до формы же ему было все равно. Недаром же рассказывали, что за каким-то дипломатическим обедом он вызвал у многих невольную улыбку, когда в горячем споре на французском языке он многократно и громко говорил о Японии, называл ее «le Japonie»[99 - Правильно – le Japon. – Примеч. ред.]. По-немецки он, кажется, совсем не говорил, хотя и носил немецкую фамилию, а английский, сколько я знаю, даже не понимал.
Как умный человек, С. Ю. сознавал дефекты в своем воспитании и сначала старался их корректировать, но это удавалось ему плохо, и потом, став твердо на ноги, он махнул на это рукой.
Очень наблюдательная дама, у которой мы в эту зиму оба обедали, говоря мне о своих впечатлениях касательно С. Ю., передала мне одно наблюдение, которое они сделали и которое было очень характерно для С. Ю. в то время. Непривычный к такой кухне и хорошим поварам, С. Ю., видимо, не знал, как и чем полагается есть некоторые блюда. Так как он сидел за обедом на почетном месте, то ему подавали первому. Он брал кушанье и выжидал, и если не знал, как его брать, то отказывался, но соглашался есть, если хозяйка сама накладывала ему кушанье на тарелку. Он ждал, когда другие начнут есть, тогда он начинал есть сам так, как ели другие. Для такого человека, как С. Ю., эта мелочь была действительно характерна. Позже его учила «манерам» жена, но он поддавался нехотя и так до смерти есть за столом по-европейски не научился.
В ту же зиму С. Ю. быстро пошел в гору по иерархической лестнице, уже в начале 1892 г. он был назначен министром путей сообщения и весной того же года стал исправлять должность в Министерстве финансов вследствие болезни Вышнеградского. Немудрено, что вскоре он сделался наиболее интересным человеком в высшем административном мире Петербурга и заставил очень много говорить о себе. В то время я бывал иногда в доме генерала Н. И. Петрова, начальника штаба Отдельного корпуса жандармов, и там встречал немало влиятельных чиновников, и между ними чаще всего И. Л. Горемыкина, тоже метившего уже в сановники. Там в течение всего 1891/92 г. только и говорили, что о Витте, настолько, что это становилось даже скучным, и когда я принимал приглашение к Петровым, то говорил шутя хозяйке: «Буду, но с условием, чтоб не говорили о Витте». Последнего я часто защищал, за что Н. И. Петров и И. Л. Горемыкин жестоко на меня нападали, доходя даже до резкостей. Разговоры эти о Витте сводились к очень резкой критике деятельности С. Ю., особенно когда он сделался министром. Говорили, что это parvenu, очень невоспитанный, грубый человек, не умеющий держать себя в среде спокойных и уравновешенных государственных людей, что в Государствен<ном> совете, в Комитете министров, в комиссиях он очень резок и даже дерзок, часто показывал свое невежество в государственных делах, свою незрелость в должности министра и т. п. Рассказывали, что после одного горячего спора в Госуд<арственном> совете, в котором Витте был так дерзок по отношению к военному министру, что всегда спокойный П. С. Ванновский настолько обиделся, что хотел даже вызвать Витте на дуэль. Удивлялись, что такого грубилу, необузданного карьериста государь мог призвать на пост министра. Одним словом, говорили о Витте с озлоблением и, что называется, «вешали на нем собак».
В сущности, причины этого недовольства новым министром заключались в другом: его не любили, потому что его боялись. С. Ю. был свежий человек, не привыкший к мертвящему бюрократизму, желавший «творить», делать умное дело, а не писать записки и о них бесконечно совещаться. Благодаря своему уму, своим способностям, большой энергии и удивительной работоспособности, принимаясь за дело, он «брал быка за рога», не любил «миндальничать», стремился быстро достичь намеченной цели, не заботясь о формах и бюрократических традициях. Он рубил топором без пощады, и у нас к этому высшее чиновничество было непривычно – эти приемы «дельца» раздражали чиновников, сердили, озлобляли и даже оскорбляли их. При этом спорить с Витте было нелегко, ибо он всегда хорошо знал во всех деталях вопрос, который он проводил, и в споре требовал того же от своих противников. Витте «работал» сам, а большинство его коллег любили «управлять», но не любили и не умели «работать», т. е. не работали, а служили. В конце концов, Витте завидовали и попросту его побаивались, потому что он был не такой, как другие, предчувствовали, что он постепенно заберет власть в свои руки, и, чтобы противодействовать ему, были сами слишком ленивы и «рычали» из-за угла.
Заняв пост министра путей сообщения, перед переездом в министерскую квартиру С. Ю. женился, и тоже не совсем обычно для сановника, что опять дало почву для разговоров о нем, хотя эта женитьба показывала опять ум, оригинальность и самостоятельность. С. Ю. был вдовец в самом лучшем возрасте мужчины, вероятно – натура страстная или, вернее, сладострастная. Видимо, жить без женщины он не мог, как это часто бывает с людьми, живущими нервной жизнью, и, надо думать, любил женщин опытных, понимающих жизнь. Нелегальная связь была ему неудобна как по его положению, так и потому, что он был слишком занятый человек, чтобы терять время на романтические похождения. Он предпочел иметь женщину дома и семейный очаг. Разведенная со своим мужем Матильда Ивановна, по первому мужу Лисаневич, вероятно, удовлетворяла его требованиям (я умышленно так говорю, ибо не думаю, чтобы С. Ю. был способен спрягать глагол «любить»), и он женился, не стесняясь тому, что по своему происхождению, своему родству и своему прошлому М. И. была не вполне подходяща для министра в то время, особенно для министра, делавшего гигантскими шагами головокружительную карьеру, так как она не была тем, что немцы называют «hoffchig».
Рассказывали, что С. Ю., опасаясь мнения двора и государя, так как М. И. была еврейка, а государь Александр III сильно недолюбливал эту нацию, особенно когда ее представители приближались к верхам управления государством, и желая быть корректным, спросил государя разрешения жениться. Император Александр III, знавший, в чем дело, будто бы ответил: «Мне нужны министры, я имею дело с министрами, но не с их женами, поэтому женитьба ваше дело и меня не касается». Этот quasi-благосклонный ответ, однако, вместе с тем отказал супруге министра всякие пути ко двору, по крайней мере в этом царствовании.
Должен тут же сказать, что Матильду Ивановну я знал близко в течение 23 лет, что она была женой Витте, что каково бы ни было ее прошлое, которое никого не касается, она была примерной женой, верным другом своего мужа, делившей с ним горе и радость, всецело жившей его жизнью, бывшей всегда достойной того положения, которое ей дал С. Ю., и никогда в глазах других не злоупотреблявшей своим положением, но к ней я вернусь еще ниже.
Осенью, в конце августа 1892 г., государь [ездил] на маневры в Польшу и потом в Спалу. Я впервые должен был сопровождать государя, заменяя лейб-хирурга Гирша, и мне было приказано представиться на вокзале перед отходом поезда. На Петергофском вокзале в царских павильонах собрались для проводов весь двор и высшая администрация. Государя ждали, но он против обычая несколько запоздал – говорили, что перед самым отъездом у него происходило важное совещание с некоторыми министрами. Но вот приехал государь с семьей, и за ним появились министр внутр<енних> дел И. Н. Дурново, С. Ю. Витте и никому не известный в Петербурге гофмейстер А. К. Кривошеин, и по зале разнеслась последняя новость: С. Ю. Витте только что назначен министром финансов, а Кривошеин – на его место, министром путей сообщения. Эта новость удивила всех.
Получив еще бол<ьшее> поле деятельности, С. Ю. пошел с этого момента еще более быстрыми шагами к власти. Сколько я знал императора Александра III и Витте, они подходили друг к другу. Государь знал цену Витте, пользовался им, но навряд ли был склонен слишком приближать его к себе и держал его, если можно так выразиться, «в ежовых рукавицах», а такой тяжелый тормоз, как рука Александра III, благотворно влиял на такую необузданную натуру, как Витте. С. Ю., как я не раз мог заключить из его слов, боготворил государя и глубоко его почитал, а С. Ю. почитал только того, кого он боялся. С другой стороны, император Александр III действительно глубоко любил Россию и для ее благополучия считал неизбежной сильную власть. Если правда, что С. Ю. «был, прежде всего, горячий патриот», как думал М. М. Ковалевский, и был по своему характеру человек очень властный, то это была почва, на которой государь и Витте понимали друг друга. Если правда, что С. Ю. «был человеком норова» и представлял собой «странное сочетание государственного деятеля и мечтателя», как думал анонимный его биограф, то ему нужна была иногда твердая, спокойная рука Александра III, налагавшая свое «veto» в моменты «порывов» и «мечтаний» Витте, и поэтому под руководством этого монарха С. Ю. представлял собой очень удачный тип государственного деятеля, редкого по своей продуктивности работника, не выходившего из положенных ему границ.
II
Когда С. Ю. уже женатым переехал в квартиру министра финансов на Мойке, мне приходилось довольно часто бывать в его семье. Сначала домашний врач Матильды Ивановны д<окто>р Б. М. Шапиров привлек меня к лечению ее дочки, тогда еще девушки лет пятнадцати, Веры Сергеевны (она была усыновлена Витте), вышедшей потом за Нарышкина. Потом я участвовал в лечении М. И., оперировал ее и, наконец, приглашался консультантом к самому С. Ю., что уже доказывало известное доверие ко мне с его стороны, так как он не жаловал русских врачей и предпочитал лечиться у заграничных знаменитостей, к которым относился с каким-то подобострастием, не упуская случая приглашать к себе даже без всякой нужды тех из них, которые случайно приезжали в Петербург. В то время я часто бывал в доме Витте, сблизился с ним и с его женой и имел случай наблюдать жизнь, привычки и деятельность С. Ю. Квартира министра финансов была громадная, старого типа казенных квартир для сановников – комнаты были очень большие и высокие, как сараи, а в сущности, очень неуютные и потому носившие именно «казенный» характер.
Половина самого министра состояла из большой приемной залы, кабинета и рядом с ним уборной комнаты. Меблировка кабинета была более чем скромная и простая. Большой канцелярский стол служил письменным столом министра, вокруг стулья для домашних совещаний, на столе ничего, кроме чернильницы и перьев, карандашей и лампы; бумаги – только по текущим делам этого дня. К вечеру все поданные дела должны были быть исполнены, до этого С. Ю. не ложился, и секретарь должен был вечером совершенно очистить стол, поэтому у С. Ю. дела никогда не залеживались, и он за день исполнял колоссальную работу. Как-то раз С. Ю. объяснил мне свою систему работать, указал, что, по его мнению, большой администратор только при такой системе может быть продуктивен. Я воспользовался этим уроком, и, занимая позже крупные административные должности, я заводил в своем кабинете особый стол для служебных дел, не смешивая их с личными делами на письменном столе, и по системе С. Ю. всегда очищал служебный стол к вечеру, часто с благодарностью вспоминая советы С. Ю. Кроме этого рабочего стола в кабинете С. Ю. имелись по стенкам шкапики для секретных дел, записок, материалов и т. п., а у одной из стен на открытых, очень простых полках располагалась небольшая библиотека, как у студента. Несколько портретов на стенах – вот и вся обстановка рабочей комнаты министра финансов Российского государства, ворочавшего миллионами, если не миллиардами. В общем, вся эта донельзя простая обстановка придавала комнате не характер частного кабинета обеспеченного государственного человека, а характер служебного кабинета в канцелярии и была очень характерна для хозяина этого помещения – ясно было при входе в него, что здесь прежде всего дело. Форма, комфорт, даже намек на роскошь для С. Ю. не существовали. Матильда Ивановна часто жаловалась мне на неуютность кабинета, в котором С. Ю. проводил всю жизнь, но добавляла, что все ее попытки устроить С. Ю. более уюта и удобств всегда встречали с его стороны протесты, и он по этому поводу даже сердился.
Такой же скромной и даже убогой была уборная С. Ю. – quasi-туалетный стол без важных приборов, но с массой баночек и бутылочек с медикаментами, очень примитивный умывальник рыночной работы, шкаф для белья и платья и ванна. В бельевом шкафу было так мало белья и такое поношенное, что когда С. Ю. одевался более нарядно, то мало проворный и неопытный камердинер искал крахмальную рубашку «получше». Вмешательство жены здесь тоже не допускалось, и сам С. Ю., не будучи скуп, был удивительно нетребователен и как будто любил такую жизнь «по-студенчески». Мне казалось даже, что услуги камердинера его тяготили – он их терпел, но в них не нуждался. Одевался С. Ю. плохо, небрежно и неумело, что подчас раздражало Матильду Ивановну. Она часто выражала мне свое удивление, почему я хорошо одет, и спрашивала, кто мой портной, видимо, желая его рекомендовать мужу. Наконец мне эти вопросы наскучили, и я как-то ответил сухо, что одного портного мало и надо уметь носить платье. Она поняла и больше меня не спрашивала. Остальные комнаты на половине М. И. были, видимо, меблированы обойщиком по его вкусу и носили «казенный» характер, кроме спальни и столовой. В громадной спальне с большой, не прикрытой стульями двуспальной кроватью имелось много диванов, кушеток, ковров, звериных шкур и т. п., что придавало комнате какой-то своеобразный характер – не спальни, а какого-то «салона». В этой комнате М. И. преимущественно и жила и принимала в ней своих более близких друзей. Одним словом, было, что после кабинета спальня играла наибольшую роль в жизни супругов.
Богаче была столовая из черного дуба, но в ней было слишком много фарфора, выставленного на буфетах слишком нового серебра, как будто только что присланного из магазина, поэтому здесь обстановка несколько напоминала столовую разбогатевших фабрикантов и банкиров – много ценностей и мало вкуса и понимания в хороших вещах.
За столом служило несколько лакеев в ливреях, имелся и «дворецкий», который, видимо, распоряжался по своему разумению, но в общем прислуга была не особенно корректна и «stile»[100 - Искаж. англ. style (стиль, манера, мода).]. Повар был хороший, но остававшийся без руководства – С. Ю., по-видимому, любил покушать, но в кулинарном искусстве понимал мало. Все, что не гармонировало с простотой обстановки комнат С. Ю. и носило несколько театральный, бутафорский характер. С. Ю., несомненно, во всем этом ничего не понимал, считал это забавой, ему не нужной, может быть, он допускал, что все это нужно при его положении, предоставлял все это жене, выдавал деньги, тяготился этим «тоном», но терпел и приходил на половину жены как в гости.
Мы поцеловались.
В промежуток времени наполнился кабинет сослуживцами С. Ю. Дежурный чиновник успел уже их оповестить. Тут были оба вице-директора департамента Романов и Ягубов, члены Тарифного комитета Ковалевский и Максимов, секретари Зельманов и Циглер фон Шафгаузен, все товарищи Витте еще со времен его службы на Юго-Западных жел<езных> дорогах. Поздравления, объятия, оживленная беседа о планах будущего, о предстоящей работе нового министра.
* * *
Февраль 1892 г. был на исходе. В 17 губерниях Приволжья, Камской области, Урала и Севера гибли люди от голода. Неурожай 1891 г. был катастрофический. Небольшие запасы предыдущего года были давно съедены, от рабочего скота осталось только вспоминание в виде содранной кожи; население кормилось древесной корой, мхом, еловыми шишками, сушеной листвой, лебедой, отрубями с примесью некоторой доли ржи и овса. Трагизм положения усиливался тем, что остальные губернии имели хороший, отчасти блестящий урожай и, тем не менее, были лишены возможности помочь своим братьям. Хлеб отправлялся вместо голодающих в балтийские и черноморские порты для вывоза за границу; в Ревеле, Риге, Либаве, Одессе лежали миллионы пудов хлеба; пароходы грузились день и ночь, чтобы уйти до опубликования ожидаемого запрещения вывоза. На железных дорогах господствовал невероятный хаос; все они были оборудованы исключительно на вывоз; две колеи путей существовали только на линиях, ведущих к портам. Начиная же от Москвы в направлении на восток и север все железные дороги имели лишь одну колею и не смогли, когда к этому явилась необходимость, перевозить сотни тысяч и миллионы пудов в обратном направлении с юга и запада на восток и север. Уже на первых станциях за Москвой получалась закупорка. М<инистерст>во путей сообщения пробовало то тот, то другой паллиатив, но все безуспешно.
Транспортный хаос усиливался с каждой неделей. Трудно и было ожидать другого результата. Принцип замещать министерские посты людьми, единственная заслуга коих заключалась в том, что они успели благополучно пролезть по чиновничьей лестнице до мест, с которых высочайшей воле подобало назначать «главы» министерств, потерпел явное банкротство. Во главе М<инистерст>ва путей сообщения стоял д<ействительный> с<татский> с<оветник> статс-секретарь А. Я. Гюббенет, который товарищем, а затем и министром прошел службу по М<инистерст>ву финансов в Департаменте… счетоводства и славился как отличный бухгалтер. Его предшественник, который более десятка лет до катастрофы в Борках заведовал Министерством путей сообщения, вице-адмирал и генерал-адъютант Посьет, черпал свои железнодорожные познания в службе по морскому ведомству. Управляющими и начальниками движения железных дорог были исключительно питомцы Института инженеров путей сообщения, связанные молчаливым соглашением не допускать к таким должностям никого, кроме вышедших из названного института. Все они были несомненно хорошими строителями, вероятно, и прекрасными техниками, но им не хватало, за малыми исключениями, главного – административн<ых> способностей. Это последнее и было одной из причин, что министр финансов А. И. Вышнеградский[97 - Правильно – И. А. Вышнеградский. – Примеч. ред.], не желая далее покрывать из госуд<арственных> средств всё усиливающиеся дефициты железных дорог, решил устроить у себя особый Департамент железнодорожных дел, во главе которого им был поставлен управляющий железнодорожной сетью в 2 500 верст, не «путеец» и даже не инженер, – Витте.
Хаос на железных дорогах и вызванные им затруднения в снабжении хлебом голодающих вызвали всеобщее возмущение, нашедшее свой отклик в громких статьях печати, требующей с непривычным в России единогласием замены Гюббенета деловитым специалистом-железнодорожником с предоставлением ему диктаторских полномочий. Имя Витте было у всех на устах, не сходило со столбцов печати. Могла ли, однако, бюрократия мириться с назначением в министры человека, ей все еще чуждого, «пришельца со стороны», который еще четыре года до того имел скромный чин коллежского асессора и при назначении в директора департамента перескочил сразу семь ступеней Табели о рангах, сделавшись сразу д<ействительным> с<татским> с<оветником>? С мыслью видеть Витте товарищем министра бюрократия уже начала, хотя и против воли, свыкаться, но на министерском посту?.. Нет! И целые недели обсуждались всё новые и новые комбинации, искали кандидатов в среде членов Госуд<арственного> совета, хватались и за кандидатуру принца А. П. Ольденбургского, выдвигавшего себя самого, где бы какая вакансия ни открывалась. Во всех, однако, комбинациях фигурировало имя Витте как товарища министра и фактического главы железнодорожного управления. Александр III решил рассечь гордиев узел и назначил Витте прямо министром.
* * *
В то время как в кабинете нового министра шли эти разговоры, главари М<инистерст>ва путей сообщения обсуждали положение, созданное сделавшейся только что известной отставкой А. Я. Гюб-бенета. Их, однако, ожидала еще худшая беда. По телефону было передано, что Департамент железнодорожных дел М<инистерств>а финансов празднует назначение Витте преемником Гюббенета. Верхи сразу почувствовали, что их дни в министерстве сочтены. В борьбе между Витте и Гюббенетом, ведшейся с обеих сторон с невероятным ожесточением, не брезгуя личными выпадами и клеветой, принимали деятельное участие все высшие чины министерства. Назначенная уже дуэль между Гюббенетом и Витте была задержана вмешательством вел<икого> кн<язя> Михаила Николаевича. Витте обратился к министру внутр<енних> дел И. Н. Дурново и к издателю «Гражданина» кн<язю> Мещерскому с просьбой быть его секундантами. Вызывающим был Сергей Юльевич. Если Витте в душе желал, чтобы эта дуэль не состоялась, то он не мог сделать лучшего выбора своих секундантов.
Верхи министерства поэтому постановили отправить делегата к новому министру и просить директора канцелярии тайного советника Мицкевича, он же и гофмейстер, принять на себя эту миссию. Через полчаса явился на Б<ольшую> Морскую Мицкевич и просил доложить о себе Сергею Юльевичу. Сразу опустел кабинет.
С. Ю. просил меня настойчиво остаться. Я не мог понять, что может означать это странное и, пожалуй, в данном случае более чем неуместное желание С. Ю.
Войдя в кабинет и увидев там постороннего человека, в то время как он надеялся на конфиденциальную беседу с новым министром, Мицкевич был не менее меня озадачен и не сразу нашелся. Витте не дожидался обращения к нему нового своего подчиненного и, не приглашая его садиться, спросил резким голосом:
– Цель вашего визита?
Мицкевича передернуло. Невежливый тон, нарушение обычных светских форм, присутствие свидетеля нанесенной ему обиды сразу дали ему понять, что ему нет места в министерстве при новом начальнике. Привыкший сдерживаться, светский человек, каким он был, Мицкевич корректным и ровным голосом отчеканил:
– Явился по поручению высших чинов министерства узнать, когда и где будет вашему превосходительству угодно принять их (назвав Витте превосходительством вместо «высокопревосходительства», какое обращение ему, как министру, полагалось, хотя он не был действительным тайным советником, Мицкевич пожелал, в свою очередь, уколоть Витте).
– Завтра в 11 часов я буду принимать в кабинете министра.
– Позволяю себе доложить вашему превосходительству просьбу бывшего министра разрешить ему остаться в министерской квартире еще 8 до 40 дней[98 - Так в оригинале.] до приискания частной квартиры.
Витте как будто задумался несколько секунд, затем, не отвечая на вопрос, процедил тем же резким, враждебным голосом:
– Имеете еще что-нибудь доложить?.. Нет!.. Прощайте!
Не теряя дальнейших слов, Мицкевич вышел из кабинета. Только во время сцены, разыгравшейся в моем присутствии, я понял, чем руководился Сергей Юльевич, задерживая меня в кабинете. Вся эта сцена была у него уже предрешена в момент, когда ему доложили о Мицкевиче. Витте хотелось иметь свидетеля своей мести, свидетеля независимого, не связанного обязательством служебной тайны. Мицкевич имел по своей должности гофмейстера большие связи в высших придворных кругах и не преминул их использовать во вред Витте, будучи душой всех против него интриг. Новый министр не имел мужества или не считал себя еще достаточно сильным, чтобы уволить самому долголетнего службиста, но желал заставить его уйти и избавиться от него косвенно. Мицкевич сам подал тотчас в отставку, а А. [Я.] Гюббенет в тот же день переехал в гостиницу.
* * *
Вечером следующего дня я по приглашению Сергея Юльевича посетил его в министерском кабинете на Фонтанке. Из всех министров того времени министр путей сообщения имел самую красивую квартиру. В его распоряжении был целый дворец, специально пристроенный к зданию министерства и имеющий выход в чудный Юсуповский сад. Мы шагали почти всю ночь взад и вперед по огромному кабинету с высоким куполом и дивными фресками, бродили по длиннейшим коридорам, осматривали достопримечательности дворца, выходили в сад. Ночь была сухая, безветренная и почти теплая, несмотря на февраль. Все время мы обсуждали программу предстоящей деятельности нового министра, его планы к реорганизации железнодорожного движения, меры помощи бедствующему населению голодающих губерний и обеспечению его, пока еще возможно, посевом для следующего урожая.
Уже светало, когда наша беседа перешла на другие вопросы, уже постороннего характера. Сергей Юльевич сообщил о своем намерении жениться вторично. Год тому назад он сделался вдовцом. Ему тяжело одиночество. Мне были известны городские слухи, вертевшиеся около этого брачного плана, и я предвидел, какие уколы самолюбию и тяжелые испытания готовит этот брак С. Ю. Против воли я покачнул головой и на моем лице выразилось, вероятно, ясное сомнение, ибо Сергей Юльевич, усадив меня против себя, стал говорить с непривычной для него горячностью.
– Я люблю эту женщину и хочу, хоть раз в жизни, сделать что-нибудь для своего личного счастья. До сих пор я жил только для своего честолюбия. Сейчас, когда я достиг того, о чем я уже мечтал, будучи начальником дистанции, живя в еврейском местечке, я хочу иметь свой домашний уют. При моем характере и известном вам пренебрежении к светским формам жизни ни одна женщина из высших кругов – а там должен был бы делать свой выбор министр, собираясь жениться, – не может мне обеспечить то, чего я желаю, – домашний очаг. Вы знаете, каким несчастным был мой первый брак. Я не слеп и не скрываю от себя тех осложнений, которые я вызываю своим браком, но я их не пугаюсь и одолею. Пока же мне нужны деньги для брака.
С. Ю. назвал сумму 35 000 рублей, которые требует муж его будущей жены за свое согласие на развод. Я отлично понял, почему Витте мне все это рассказывает, но не мог реагировать на его намек. Моя газета в то время еще не имела своего позднейшего распространения, и я не имел еще материальной базы, создавшейся впоследствии.
Как человек большого ума, С. Ю. не настаивал и перешел на другие темы.
Проппер С. М. Первый день министра: (Листки из воспоминаний) // Сегодня. Рига, 1928. № 272 (7 октября).
Н. А. Вельяминов
Встречи и знакомства
Я знал С. Ю. в течение многих лет – 24 года с момента его появления на петербургском горизонте и до смерти, был врачом-консультантом его и его семьи, на правах врача-друга был принят в его доме, часто беседовал с ним, больше слушал, но иногда удостаивался слышать откровенные его мнения. Он доверял мне как врачу и человеку, спрашивал меня иногда мое мнение о людях и отношениях, которых он не знал и которые он хотел узнать, подчас рассказывал мне исторические эпизоды из своей жизни и деятельности, нередко высказывал мне свои взгляды на государя Николая II и т. д. Одним словом, я знал графа С. Ю. Витте в обстановке его интимной, семейной жизни, хорошо знал его жену, несомненно имевшую на него большое влияние, и поэтому у меня сохранились в памяти и записках некоторые отрывки из отношений с ним, его бесед, его взглядов на людей и события, которые, как кажется, не лишены некоторого исторического интереса и могут служить хотя бы слабыми штрихами в изображении его нравственного облика, который со временем нарисуют более компетентные современники его. <…>
I
В августе 1891 г. я как-то приехал из красносельского лагеря в город и совершенно случайно попал на званый обед к некоему Г. З. Этот Г. З. был холостяк средних лет, по профессии – присяжный поверенный, но никогда не имевший дел в суде, а занимавшийся какими-то «финансовыми делами», и был то, что в тогдашнем Петербурге называли «дельцом» и теперь, пожалуй, назвали бы «спекулянтом». Этот господин был большой гастроном и даже автор кулинарной книги. Ему для его «дел» нужны были дружеские отношения с крупными представителями чиновничества и бюрократии, и он от времени до времени давал у себя «тонкие» обеды, на которые приглашались восходящие светила из бюрократического мира из числа директоров департаментов и других лиц приблизительно того же «ранга», метивших в министры или, по крайней мере, в товарищи и обещавших, во всяком случае, выдвинуться. Бывали на этих обедах обычно только мужчины, но иногда приглашались и две дамы – сестра хозяина, бывшая замужем за одним влиятельным бюрократом, и одна очень интересная и элегантная великосветская женщина. Вот на такой обед с дамами попал и я, как уже сказано, совершенно случайно, в чуждый мне тогда мир. Я никого не знал и держался дам, которые вместе с мужем одной из них и посвящали меня в оценку общественного значения отдельных лиц из гостей Г. З., в числе которых находился и мало кому известный еще новый пришелец С. Ю. Витте.
Я узнал тогда, что «открыл» Витте бывший министром финансов императора Александра III талантливый И. А. Вышнеградский. Последний до того, чтобы стать министром, был председателем правления Юго-Западных жел<езных> дорог, а Витте – управляющий этими дорогами, почему Вышнеградский и имел случай хорошо узнать Витте. <…>
Я сидел за обедом далеко от С. Ю. и не слышал его разговоров; после обеда, как человек деловой, он вскоре уехал, но среди гостей Г. З. вечером только и говорили, что о Витте. Одни его критиковали и были склонны видеть в нем карьериста, другие отдавали дань его уму, знанию дела и готовы были предсказать ему большое будущее. Во всяком случае, уже по этим разговорам среди несомненно более выдающихся и сравнительно еще молодых бюрократов можно было заключить, что Витте человек недюжинный и сразу становится центральной фигурой там, где он появляется. <…>
По своей наружности С. Ю. никакого особенного впечатления не производил, а если и производил, то скорее отрицательное. Это был тогда человек лет под сорок, высокого роста, тогда еще худой, очень некрасивый, с неправильным и неприятным профилем вследствие как бы запавшего носа (потом на всех портретах этот нос подправляли) и умными, хитрыми, скорее добрыми, часто усталыми и тогда «рыбьими» глазами. Его фигура была какая-то неуклюжая, непропорциональная, грубая, «медвежья», как бы срубленная топором, напоминавшая собой старые фигуры человека физического труда и не интеллигента. Светское воспитание в нем совершенно отсутствовало. Одевался он небрежно, неумело, по-провинциальному. В глаза бросались его громадные ноги, обутые в сапоги, как у американского угольщика; длинные руки, как у приматов, с длинными, некрасивыми червеобразными пальцами, всегда желтыми от табачного дыма, с коротко остриженными, как бы обгрызенными ногтями. В общем, это была фигура типичного плебея, хотя он и происходил из интеллигентной дворянской семьи. Он производил впечатление интеллигентного рабочего или управляющего большим заводом или фабрикой, вышедшего из среды рабочих, но никак не петербургского бюрократа. Говорил он с несколько южным акцентом, резко, коротко, но образно, и тогда в нем чувствовался сразу человек большого ума, очень сильной воли, большой энергии, железной работоспособности, но властный, очень самоуверенный и, в сущности, деспот. Во всем его облике чувствовался тип американца, человека самобытного, самородка, selfmademan, человека, выбившегося своим трудом и своими талантами. Вероятно, он так быстро приобрел себе потом такую популярность в Америке, когда он там заключал Портсмутский договор, поэтому же и он сам говорил потом с таким увлечением о своих впечатлениях в Америке, все потому же он так и «шокировал» петербургские «сферы» и элегантных придворных. Языки С. Ю. знал плохо, по крайней мере по-французски он говорил очень плохо, но этим не стеснялся, особенно когда стал большим сановником, – ему было важно, чтобы его понимали, до формы же ему было все равно. Недаром же рассказывали, что за каким-то дипломатическим обедом он вызвал у многих невольную улыбку, когда в горячем споре на французском языке он многократно и громко говорил о Японии, называл ее «le Japonie»[99 - Правильно – le Japon. – Примеч. ред.]. По-немецки он, кажется, совсем не говорил, хотя и носил немецкую фамилию, а английский, сколько я знаю, даже не понимал.
Как умный человек, С. Ю. сознавал дефекты в своем воспитании и сначала старался их корректировать, но это удавалось ему плохо, и потом, став твердо на ноги, он махнул на это рукой.
Очень наблюдательная дама, у которой мы в эту зиму оба обедали, говоря мне о своих впечатлениях касательно С. Ю., передала мне одно наблюдение, которое они сделали и которое было очень характерно для С. Ю. в то время. Непривычный к такой кухне и хорошим поварам, С. Ю., видимо, не знал, как и чем полагается есть некоторые блюда. Так как он сидел за обедом на почетном месте, то ему подавали первому. Он брал кушанье и выжидал, и если не знал, как его брать, то отказывался, но соглашался есть, если хозяйка сама накладывала ему кушанье на тарелку. Он ждал, когда другие начнут есть, тогда он начинал есть сам так, как ели другие. Для такого человека, как С. Ю., эта мелочь была действительно характерна. Позже его учила «манерам» жена, но он поддавался нехотя и так до смерти есть за столом по-европейски не научился.
В ту же зиму С. Ю. быстро пошел в гору по иерархической лестнице, уже в начале 1892 г. он был назначен министром путей сообщения и весной того же года стал исправлять должность в Министерстве финансов вследствие болезни Вышнеградского. Немудрено, что вскоре он сделался наиболее интересным человеком в высшем административном мире Петербурга и заставил очень много говорить о себе. В то время я бывал иногда в доме генерала Н. И. Петрова, начальника штаба Отдельного корпуса жандармов, и там встречал немало влиятельных чиновников, и между ними чаще всего И. Л. Горемыкина, тоже метившего уже в сановники. Там в течение всего 1891/92 г. только и говорили, что о Витте, настолько, что это становилось даже скучным, и когда я принимал приглашение к Петровым, то говорил шутя хозяйке: «Буду, но с условием, чтоб не говорили о Витте». Последнего я часто защищал, за что Н. И. Петров и И. Л. Горемыкин жестоко на меня нападали, доходя даже до резкостей. Разговоры эти о Витте сводились к очень резкой критике деятельности С. Ю., особенно когда он сделался министром. Говорили, что это parvenu, очень невоспитанный, грубый человек, не умеющий держать себя в среде спокойных и уравновешенных государственных людей, что в Государствен<ном> совете, в Комитете министров, в комиссиях он очень резок и даже дерзок, часто показывал свое невежество в государственных делах, свою незрелость в должности министра и т. п. Рассказывали, что после одного горячего спора в Госуд<арственном> совете, в котором Витте был так дерзок по отношению к военному министру, что всегда спокойный П. С. Ванновский настолько обиделся, что хотел даже вызвать Витте на дуэль. Удивлялись, что такого грубилу, необузданного карьериста государь мог призвать на пост министра. Одним словом, говорили о Витте с озлоблением и, что называется, «вешали на нем собак».
В сущности, причины этого недовольства новым министром заключались в другом: его не любили, потому что его боялись. С. Ю. был свежий человек, не привыкший к мертвящему бюрократизму, желавший «творить», делать умное дело, а не писать записки и о них бесконечно совещаться. Благодаря своему уму, своим способностям, большой энергии и удивительной работоспособности, принимаясь за дело, он «брал быка за рога», не любил «миндальничать», стремился быстро достичь намеченной цели, не заботясь о формах и бюрократических традициях. Он рубил топором без пощады, и у нас к этому высшее чиновничество было непривычно – эти приемы «дельца» раздражали чиновников, сердили, озлобляли и даже оскорбляли их. При этом спорить с Витте было нелегко, ибо он всегда хорошо знал во всех деталях вопрос, который он проводил, и в споре требовал того же от своих противников. Витте «работал» сам, а большинство его коллег любили «управлять», но не любили и не умели «работать», т. е. не работали, а служили. В конце концов, Витте завидовали и попросту его побаивались, потому что он был не такой, как другие, предчувствовали, что он постепенно заберет власть в свои руки, и, чтобы противодействовать ему, были сами слишком ленивы и «рычали» из-за угла.
Заняв пост министра путей сообщения, перед переездом в министерскую квартиру С. Ю. женился, и тоже не совсем обычно для сановника, что опять дало почву для разговоров о нем, хотя эта женитьба показывала опять ум, оригинальность и самостоятельность. С. Ю. был вдовец в самом лучшем возрасте мужчины, вероятно – натура страстная или, вернее, сладострастная. Видимо, жить без женщины он не мог, как это часто бывает с людьми, живущими нервной жизнью, и, надо думать, любил женщин опытных, понимающих жизнь. Нелегальная связь была ему неудобна как по его положению, так и потому, что он был слишком занятый человек, чтобы терять время на романтические похождения. Он предпочел иметь женщину дома и семейный очаг. Разведенная со своим мужем Матильда Ивановна, по первому мужу Лисаневич, вероятно, удовлетворяла его требованиям (я умышленно так говорю, ибо не думаю, чтобы С. Ю. был способен спрягать глагол «любить»), и он женился, не стесняясь тому, что по своему происхождению, своему родству и своему прошлому М. И. была не вполне подходяща для министра в то время, особенно для министра, делавшего гигантскими шагами головокружительную карьеру, так как она не была тем, что немцы называют «hoffchig».
Рассказывали, что С. Ю., опасаясь мнения двора и государя, так как М. И. была еврейка, а государь Александр III сильно недолюбливал эту нацию, особенно когда ее представители приближались к верхам управления государством, и желая быть корректным, спросил государя разрешения жениться. Император Александр III, знавший, в чем дело, будто бы ответил: «Мне нужны министры, я имею дело с министрами, но не с их женами, поэтому женитьба ваше дело и меня не касается». Этот quasi-благосклонный ответ, однако, вместе с тем отказал супруге министра всякие пути ко двору, по крайней мере в этом царствовании.
Должен тут же сказать, что Матильду Ивановну я знал близко в течение 23 лет, что она была женой Витте, что каково бы ни было ее прошлое, которое никого не касается, она была примерной женой, верным другом своего мужа, делившей с ним горе и радость, всецело жившей его жизнью, бывшей всегда достойной того положения, которое ей дал С. Ю., и никогда в глазах других не злоупотреблявшей своим положением, но к ней я вернусь еще ниже.
Осенью, в конце августа 1892 г., государь [ездил] на маневры в Польшу и потом в Спалу. Я впервые должен был сопровождать государя, заменяя лейб-хирурга Гирша, и мне было приказано представиться на вокзале перед отходом поезда. На Петергофском вокзале в царских павильонах собрались для проводов весь двор и высшая администрация. Государя ждали, но он против обычая несколько запоздал – говорили, что перед самым отъездом у него происходило важное совещание с некоторыми министрами. Но вот приехал государь с семьей, и за ним появились министр внутр<енних> дел И. Н. Дурново, С. Ю. Витте и никому не известный в Петербурге гофмейстер А. К. Кривошеин, и по зале разнеслась последняя новость: С. Ю. Витте только что назначен министром финансов, а Кривошеин – на его место, министром путей сообщения. Эта новость удивила всех.
Получив еще бол<ьшее> поле деятельности, С. Ю. пошел с этого момента еще более быстрыми шагами к власти. Сколько я знал императора Александра III и Витте, они подходили друг к другу. Государь знал цену Витте, пользовался им, но навряд ли был склонен слишком приближать его к себе и держал его, если можно так выразиться, «в ежовых рукавицах», а такой тяжелый тормоз, как рука Александра III, благотворно влиял на такую необузданную натуру, как Витте. С. Ю., как я не раз мог заключить из его слов, боготворил государя и глубоко его почитал, а С. Ю. почитал только того, кого он боялся. С другой стороны, император Александр III действительно глубоко любил Россию и для ее благополучия считал неизбежной сильную власть. Если правда, что С. Ю. «был, прежде всего, горячий патриот», как думал М. М. Ковалевский, и был по своему характеру человек очень властный, то это была почва, на которой государь и Витте понимали друг друга. Если правда, что С. Ю. «был человеком норова» и представлял собой «странное сочетание государственного деятеля и мечтателя», как думал анонимный его биограф, то ему нужна была иногда твердая, спокойная рука Александра III, налагавшая свое «veto» в моменты «порывов» и «мечтаний» Витте, и поэтому под руководством этого монарха С. Ю. представлял собой очень удачный тип государственного деятеля, редкого по своей продуктивности работника, не выходившего из положенных ему границ.
II
Когда С. Ю. уже женатым переехал в квартиру министра финансов на Мойке, мне приходилось довольно часто бывать в его семье. Сначала домашний врач Матильды Ивановны д<окто>р Б. М. Шапиров привлек меня к лечению ее дочки, тогда еще девушки лет пятнадцати, Веры Сергеевны (она была усыновлена Витте), вышедшей потом за Нарышкина. Потом я участвовал в лечении М. И., оперировал ее и, наконец, приглашался консультантом к самому С. Ю., что уже доказывало известное доверие ко мне с его стороны, так как он не жаловал русских врачей и предпочитал лечиться у заграничных знаменитостей, к которым относился с каким-то подобострастием, не упуская случая приглашать к себе даже без всякой нужды тех из них, которые случайно приезжали в Петербург. В то время я часто бывал в доме Витте, сблизился с ним и с его женой и имел случай наблюдать жизнь, привычки и деятельность С. Ю. Квартира министра финансов была громадная, старого типа казенных квартир для сановников – комнаты были очень большие и высокие, как сараи, а в сущности, очень неуютные и потому носившие именно «казенный» характер.
Половина самого министра состояла из большой приемной залы, кабинета и рядом с ним уборной комнаты. Меблировка кабинета была более чем скромная и простая. Большой канцелярский стол служил письменным столом министра, вокруг стулья для домашних совещаний, на столе ничего, кроме чернильницы и перьев, карандашей и лампы; бумаги – только по текущим делам этого дня. К вечеру все поданные дела должны были быть исполнены, до этого С. Ю. не ложился, и секретарь должен был вечером совершенно очистить стол, поэтому у С. Ю. дела никогда не залеживались, и он за день исполнял колоссальную работу. Как-то раз С. Ю. объяснил мне свою систему работать, указал, что, по его мнению, большой администратор только при такой системе может быть продуктивен. Я воспользовался этим уроком, и, занимая позже крупные административные должности, я заводил в своем кабинете особый стол для служебных дел, не смешивая их с личными делами на письменном столе, и по системе С. Ю. всегда очищал служебный стол к вечеру, часто с благодарностью вспоминая советы С. Ю. Кроме этого рабочего стола в кабинете С. Ю. имелись по стенкам шкапики для секретных дел, записок, материалов и т. п., а у одной из стен на открытых, очень простых полках располагалась небольшая библиотека, как у студента. Несколько портретов на стенах – вот и вся обстановка рабочей комнаты министра финансов Российского государства, ворочавшего миллионами, если не миллиардами. В общем, вся эта донельзя простая обстановка придавала комнате не характер частного кабинета обеспеченного государственного человека, а характер служебного кабинета в канцелярии и была очень характерна для хозяина этого помещения – ясно было при входе в него, что здесь прежде всего дело. Форма, комфорт, даже намек на роскошь для С. Ю. не существовали. Матильда Ивановна часто жаловалась мне на неуютность кабинета, в котором С. Ю. проводил всю жизнь, но добавляла, что все ее попытки устроить С. Ю. более уюта и удобств всегда встречали с его стороны протесты, и он по этому поводу даже сердился.
Такой же скромной и даже убогой была уборная С. Ю. – quasi-туалетный стол без важных приборов, но с массой баночек и бутылочек с медикаментами, очень примитивный умывальник рыночной работы, шкаф для белья и платья и ванна. В бельевом шкафу было так мало белья и такое поношенное, что когда С. Ю. одевался более нарядно, то мало проворный и неопытный камердинер искал крахмальную рубашку «получше». Вмешательство жены здесь тоже не допускалось, и сам С. Ю., не будучи скуп, был удивительно нетребователен и как будто любил такую жизнь «по-студенчески». Мне казалось даже, что услуги камердинера его тяготили – он их терпел, но в них не нуждался. Одевался С. Ю. плохо, небрежно и неумело, что подчас раздражало Матильду Ивановну. Она часто выражала мне свое удивление, почему я хорошо одет, и спрашивала, кто мой портной, видимо, желая его рекомендовать мужу. Наконец мне эти вопросы наскучили, и я как-то ответил сухо, что одного портного мало и надо уметь носить платье. Она поняла и больше меня не спрашивала. Остальные комнаты на половине М. И. были, видимо, меблированы обойщиком по его вкусу и носили «казенный» характер, кроме спальни и столовой. В громадной спальне с большой, не прикрытой стульями двуспальной кроватью имелось много диванов, кушеток, ковров, звериных шкур и т. п., что придавало комнате какой-то своеобразный характер – не спальни, а какого-то «салона». В этой комнате М. И. преимущественно и жила и принимала в ней своих более близких друзей. Одним словом, было, что после кабинета спальня играла наибольшую роль в жизни супругов.
Богаче была столовая из черного дуба, но в ней было слишком много фарфора, выставленного на буфетах слишком нового серебра, как будто только что присланного из магазина, поэтому здесь обстановка несколько напоминала столовую разбогатевших фабрикантов и банкиров – много ценностей и мало вкуса и понимания в хороших вещах.
За столом служило несколько лакеев в ливреях, имелся и «дворецкий», который, видимо, распоряжался по своему разумению, но в общем прислуга была не особенно корректна и «stile»[100 - Искаж. англ. style (стиль, манера, мода).]. Повар был хороший, но остававшийся без руководства – С. Ю., по-видимому, любил покушать, но в кулинарном искусстве понимал мало. Все, что не гармонировало с простотой обстановки комнат С. Ю. и носило несколько театральный, бутафорский характер. С. Ю., несомненно, во всем этом ничего не понимал, считал это забавой, ему не нужной, может быть, он допускал, что все это нужно при его положении, предоставлял все это жене, выдавал деньги, тяготился этим «тоном», но терпел и приходил на половину жены как в гости.