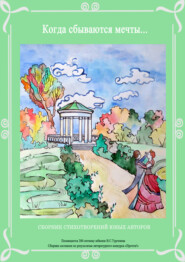По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не слишком много доверия внушает мне тот представитель новых людей, которого я сегодня слушал с двенадцати часов дня и до четырех. Прибыл Анатолий Златоуст специально для того, чтоб «послушать моих советов»; и это дабы подготовиться к слушанию советов всей собранной им конференции, однако говорил все время только он, а мы все – я, жена и дети (а в Зимнем дворце все приглашенные) – только внимали этому словоизвержению. Слушали, впрочем, с большим интересом, временами подпадая и известному наваждению, «шарму».
Очень действенным приемом соблазна у Луначарского служит то, что свои утопические фантазии он пересыпает вставками известного скепсиса (и даже самоиронизирования), вследствие чего он к себе лично, к своей искренности вызывает большое доверие. Зато когда после слушания этой сирены остаешься с собой наедине и вполне приходишь в себя, то с особой ясностью слышишь голос простого здравого смысла. Домашним моим Луначарский понравился (и Акице, и Атечке), так как в более совершенной форме он высказал многие из тех мыслей, которые ныне они сами продумали и своим золотым сердцем прочувствовали. Главной же темой с дамами (за завтраком, на котором в качестве основного блюда были макароны) явилась характеристика «вождей», а также необычайно увлекательное описание жизни и деятельности муравьев, в чем, впрочем, Акица узрела и некий довольно жуткий символ (вернее, идеал) как самого Луначарского, так и всего коммунистического учения.
В самом же начале своего посещения он снова стал мне навязывать «министерский портфель», но я без труда противостоял «соблазну» (покорнейше благодаря), снова сославшись на свой главный довод против: «Ведь я даже не социалист, как же мне вступить в правительство, исповедующее коммунистическое credo?!» Мой довод, формулированный столь категорическим образом, произвел наконец на него на сей раз нужное впечатление, и он уже к этому вопросу не возвращался.
<…>
Пока мы ехали с Луначарским, я поднял вопрос о необходимости возвращения Петрограду его первоначального, данного основателем имени. Луначарский выразил тому полнейшее и даже горячее сочувствие и сообщил, что и Ленин стоит за обратное переименование, что в этом он сошелся не только с Мережковскими
, но и с Палеологом, который находил, что это (именование Петроградом) было грубой ошибкой!
25 ноября (12 ноября). Воскресенье. В газетах сплошная полемика, декреты и почти никаких фактов.
Сегодня первый день выборов в Учредительное собрание, которое уже не называют иначе как «Учредилка». По стенам расклеены призывы голосовать. Из списков кандидатов чаще всего встречается список № 2 («промышленников»); он тщательно отпечатан с картинкой в красках – в трех вариантах. На одном – силуэт деревни, церкви и фабрики. Кадеты выпустили очень уродливого богатыря (всё те же перепевы), а в самом тексте у них довольно хитро составленный (но слишком растянутый) диалог между большевиком и кадетом. На Дворцовом мосту и у Зоологического музея по большой «хоругви» и по плакату – от беспартийных, с призывом «К урнам!». Наша белка (Леля) исполняет заказ школы Гагариной – второй уже день занята изготовлением подобной же «наглядной агитации». Атя и Надя уже побывали у урны в Академии художеств и положили свои билетики в урну «христианских демократов». Пожалуй, и я завтра изменю своему обыкновению, пойду и положу туда же – я это сделаю только для того, чтоб поглядеть, как происходит вся процедура.
Настроение в городе самое мирное, а из-за навалившего снега даже и какое-то праздничное! Площадь Зимнего дворца и Миллионная улица к ночи производили иллюзию, точно ничего не переменилось; только, подойдя ближе, иллюзия исчезала при виде развороченной во время осады, составленной из дров баррикады перед Военным министерством. Митингов или хотя бы небольших скоплений не видать. Все же на душе у меня неспокойно, и даже мое «морское недомогание» за последние часы усилилось.
<…>
Новая власть уже вступает в полосу (покамест «бескровного») террора. Саботаж же лишний раз с особой яркостью рисует повальную глупость интеллигенции и просто отсутствие практического смысла. Сотни лет люди подчинялись беспрекословно начальству, и хотя бы из элементарного лукавства следовало бы играть привычную роль, а между тем эти господа (эти сотни тысяч) вдруг решили проявить героическое благородство и войти в пассивную борьбу с насилием! Надо надеяться, что в последнюю минуту многие сдадутся. Если же не сдадутся, то дело станет совсем дрянь. Вот когда будет сделан крупный шаг в сторону пугачевщины – к чему-то непоправимому…
<…>
Возвращаясь… пешком до… дома, мы слышали, как в проходе между Ламотовым павильоном и Зимним дворцом шла громкая, на всю улицу, пьяная перебранка. Это, очевидно, приставленный к погребу караул снова ломился к вину, а их не пускали менее соблазненные товарищи. От повстречавшихся у Зимнего матросов тоже сильно пахло спиртом – хотя они только еще направлялись к погребу…
26 ноября (13 ноября). Понедельник. Плохо спал. Все лезут те же мысли вокруг декрета Луначарского, моего участия, моей неспособности и т. д. И тут же страх за личное будущее и просто ужас от повальной нелепости и от безвыходности общего положения. <…>
Сегодня до вечера оставались без газет, а потому, пожалуй, и самочувствие чуть лучше.
Утром «исполнили свой гражданский долг», подав голос за список № 3 и изменив (единственно из любопытства) своему обыкновению. Организована в нашем районе подача голоса вполне культурно. «Бюро» заседает в вестибюле у парадной лестницы нашей «родной» Академии художеств. Сразу у входа барышня спрашивает удостоверение и по номеру направляет к одному из проверочных столов, расположенных полукругом, за которыми сидят по два почтенного вида гражданина (неизвестно к какой партии принадлежащие). В книге делается отметка, что выборщик явился, ему выдается чистый конверт. Затем вас приглашают зайти за ширму (у дверей в апартаменты Совета), и там вы вкладываете свой заготовленный список в конверт, подходите к «урне» (большому ящику), и два молодых человека за столом рядом берут у вас конверт и со словами: «Вы видите, что опустили» – опускают конверт. Выходить нужно в другие двери, очевидно, потому, что рассчитывали на большое стечение граждан. Мы проделали с Акицей всю процедуру без малейшей очереди. Абсентизм в нашем квартале вовсю.
<…>
Зашел в Зимний, но уже никого там не застал <…>. Жутко было бродить по еле освещенным керосиновыми лампами коридорам и лестницам исполинского здания. В одном из помещений, выходящих в нижний колоссальный коридор (ближе к центральным воротам), я констатировал: там все еще стоят две огромные золоченые ампирные (несомненно, императорские) кровати, на которые я уже столько раз обращал внимание – когда-то Макарова, недавно еще Ятманова, – дабы их убрать из этого проходного места и отставить в более надежное, в ожидании того, чтоб их поместить в какой-нибудь бытовой музей.
27 ноября (14 ноября). Вторник. <…>
В назначенный час (12.30) в Зимнем. <…>
Служащие дворца говорят, что… трудно препятствовать расхищению погреба, т. к. это расхищение приняло теперь организованную форму. Иногда, например, можно услыхать такие фразки, которыми перекидываются солдаты и некоторые низшие служащие (дворники, сторожа): «Что, готово? Корзины принесены? Сейчас будут!» и т. п. К вечеру собираются отовсюду темные личности, и уже не с одними корзинами, но и с тачками. Целые партии вина припрятаны по разным углам необъятного здания и даже рассованы между дровами.
<…>
Подвергнув «декрет» Луначарского, уже переработанный от начала до конца Верещагиным, еще одной корректуре и удалив из него все, что могло бы иметь особенно тревожный характер (самый больной вопрос о принудительном отчуждении смягчается вполне формулой: «Отсылается решению Учредительного собрания»), я покинул своих коллег и прошелся по апартаментам половины Александра II, уже значительно прибранным стараниями Петровского
и Верещагина. Последний считает, что девять десятых бывших здесь вещей погибло, но Петровский оспаривает это, и я думаю, прав скорее он. Мало того, я убежден, что когда все будет приведено в окончательный порядок, кое-что из сломанного починено, разбитые на картинах стекла заменены целыми, дырки на портретах и картинах заделаны, то разрушения станут просто незаметными. Вещи скончавшейся в младенчестве вел. княжны Александры Александровны почти все нашлись, но перегибавшийся в ручке детский зонтичек сломан. Но, разумеется, было бы неблагоразумно их оставлять там же, на ларе за альковом, куда они были положены когда-то безутешным отцом, – рядом со своей солдатской кроватью. Из гардероба Александра II утащено много брюк и мундиров, в которых похитившие их, вероятно, теперь и разгуливают. Похищено многое, что лежало в футлярах, которые теперь все пусты (печатки, миниатюры, медали и т. п.), но многие мелкие предметы, которыми был уставлен письменный стол и которые лежали на низких шкафах, все же нашлись (опись им была составлена Верещагиным еще летом), и лишь некоторые из них сломаны, будучи сброшены и раздавлены сапожищами. Чудом уцелела под своим стеклянным колпаком серебряная елочка (подарок на серебряную свадьбу Государю императора Вильгельма
?), на ветвях ее повешены овальные миниатюрные портреты членов императорского дома, и они целы! Замечательно, что печатный текст Евангелия, снабженный собственноручными пометками Александра II на полях, вырван и оставлен, но серебряный оклад похищен.
Не тронут и серебряный бюст Петра I, очевидно, потому, что из-за патины, его покрывающей, его легко принять за чугунный. Разломаны все ящики письменных столов и низких шкафов, но это не так печально, ибо они все были самой ординарной работы, «даже не Гамбса[154 - Генрих Даниэль Гамбс (1764–1831) – мебельный мастер из Пруссии, работавший в Санкт-Петербурге.]». Напротив, изящная конторка Александра I в углу у окна цела. Не знаю, что сталось со стереоскопическими картинками несколько легкого содержания, которые после погрома я видел еще вместе со всякими бумагами (ныне сданными в Архивную комиссию) валяющимися на полу. Как-то было конфузно справиться у моих провожатых о судьбе этих несколько предосудительных сувениров… Картины, висевшие по стенам в темной уборной, куда, очевидно, солдаты не догадались зайти, все еще висели на прежних своих местах.
В соседней с кабинетом комнате («Учебной», «Приемной») я нашел тот самый ящик на ножках роскошной работы, который был поднесен Государю по случаю двадцатипятилетия царствования и в котором хранились 25 листов с акварельными видами Петербурга – работы разных видных художников, в том числе моего отца, моих двух братьев, М.Я. Вилье
, Вилье де Лиль-Адана, Премацци
и т. д. Увы, этот ящик был жестоко поломан в разных местах, стекло в его крышке разбито, а виды Петербурга, частью порванные, разбросаны по всем углам. В таком печальном виде я увидал этот дар Городской думы, изготовлявшийся (в 1880 г.) на моих глазах, когда я в первый раз после погрома посетил дворец. Теперь все листы были снова уложены в ящик, а самый яшик (домашними способами) починен.
И снова во время этого моего нового обхода половины Александра II у меня ожила мечта о создании грандиозного музея в Зимнем дворце, точнее, целого ряда музеев историко-бытового характера, которые являлись бы известным продолжением Эрмитажа – с доведением коллекций до наших дней. Тут же, в связи с прочим, был бы расположен Восточный отдел, Кабинет эстампов (перенесенный из слишком тесного помещения в Эрмитаже) и многое другое. Однако Верещагин сразу меня разочаровал. Он вдруг заговорил о необходимости предоставления значительной части дворца под разные организации (!). Ах, какие можно было бы сделать чудеса, если бы не было этих чиновничьих душ, вечно думающих о том, как бы угодить начальству, и хотя бы такому, которое они только вчера признали и в душе продолжают ненавидеть!..
28 ноября (15 ноября). Среда. Предполагал сегодня весь день рисовать костюмы «Петрушки», но не тут-то было! В «Известиях» появилась дурацкая заметка о том, что мы с Верещагиным принимаем близкое участие в работе Луначарского! Мне это показалось настолько опасным (и вредным для самого дела, ибо все те, без которых нам не обойтись, могут окончательно от нас отмежеваться, прекратить всякое с нами общение), что я решил написать Луначарскому письмо и отправился с проектом такового к Верещагину, чтоб с ним вместе все обдумать. <…>
Верещагин, который и без того очень тяжело переносит одиум, вызванный своей «поддержкой самозваному правительству», всполошился чрезвычайно! Решено вместе составить текст объяснительного письма для печати. (Между прочим, выяснилось, что и Петровский ведет дневник, и это – с июня, однако я о своем Дневнике благоразумно умолчал.)
Каким-то своим подсознательным чутьем я чувствую постепенное упрочение позиции большевиков. Но и факты налицо. Их правительство уже признал испанский посланник (посол?), а в Министерстве иностранных дел растет число служащих, встающих на работу <…>.
В глубине души я убежден, что в душе и по существу русские люди свободнее всех. Даже при царском режиме не было нигде во всем свете такой свободы (доходившей до распущенности) в быту, беседах, в мыслях, какая была именно в России. Самое наше пресловутое «право на бесчестие» лишь выражение такой внутренней, имманентной всякому человеку свободы, основанной на расовых особенностях, но питаемой и христианской идеей «Царства Божия внутри нас».
Я даже скажу, что и социализм в будущем не очень меня пугает. Просто здесь в чистом виде ему не ужиться! Это пока социализм оставался заморским учением, пока он являлся мечтой, он представлял собой нечто соблазнительное, а когда дойдет дело до его реализации посредством всяческих дисциплинарных мер (вплоть до террора), так русский человек очень скоро (а может быть, не «так уж скоро») выработает в себе иммунитет, который выразится, хотя бы в самой примитивной форме, в разгильдяйстве, вялости, кисельности. <…> Я склонен думать, что именно Россия и все национальные (расовые) особенности русского человека спутают всю игру и не дадут совершиться тому муравьиному порабощению, которое горше всего другого.
<…>
Луначарский подтвердил слух, что выборы в Учредительное собрание дали большинство голосов за большевиков, но сразу за ними идут кадеты… И все же Луначарский продолжает считать (то и дело к этому возвращается), что им, большевикам, не удержаться у власти!
29 ноября (16 ноября). Четверг. В Зимнем дворце в течение двух часов занимались с Верещагиным исправлением «Письма в редакцию». Ему при этом во что бы то ни стало хотелось, чтоб было выражено наше вообще несочувствие новой власти. Я же… убежден, что не следует совершать подобной «нетактичности». Нам необходимо оставаться на нашей строго нейтральной позиции.
<…>
<30 ноября (17 ноября) – 4 декабря (21 ноября)>
5 декабря (22 ноября). Среда. <…>
…Мне за самые последние дни начинает почему-то казаться, что большевики как-то слабеют, сдают. И самый переворот они не потому ли смогли затеять и произвести, что тогда не отдавали себе настоящего отчета в этих трудностях? Они ринулись на крепость и взяли ее штурмом – благодаря своей вере, но вера эта была построена на зыбком фундаменте книжного доктринерства. Теперь настала пора не покладая рук делать дело, и тут-то они увидели, что дела не знают (что особенно ясно на примере Луначарского) и что в их руках нет настоящих средств осуществить свою пленительную в теории, но сколь фантастическую программу! Они напоминают марсиан Уэльса. Они могут погибнуть, но не от внешних враждебных сил, а от собственного внутреннего разложения. Им не выдержать действия «новой для них атмосферы», им не справиться с микробами, коварно проникающими внутрь их организма.
<6 декабря (23 ноября)>
7 декабря (24 ноября). Пятница. <…>
Приступлено к выкачиванию царского погреба. По набережной пропускают не иначе как по предъявлении пропусков и после ощупывания карманов, а у самого Эрмитажа стоит паровая «водокачка», и от нее идет толстенная пожарная кишка, через которую и выливается в прорубь Невы миллионное царское имущество! И это несмотря на предложение шведов заплатить за это вино золотом! Эта чрезвычайная мера принята после того, как в минувшую ночь была произведена форменная осада и чуть не вспыхнул пожар из-за утечки газа, вызванной буйством громил.
8 декабря (25 ноября). Суббота. К 12 ч. по сговору с Верещагиным отправился (пешком) в Зимний дворец. Теперь поставлена застава у Дворцового моста. Пускают только по пропускам. Вдоль ограды Собственного садика много битых бутылок. В воздухе (ветра нет) у дворца стоит легкий винный дух. Матрос, поставленный на лестнице Детского подъезда, дежурил все утро у самого погреба, пропах винными парами и, видимо, продолжает находиться в некотором дурмане, хотя едва ли врет, когда уверяет, что ни капельки не глотнул. К концу дня слышал, что почти все вино уже выкачано и в подвал пущена вода… Ходит слух, что когда вино было выкачано, то на полу погреба нашли три трупа тех солдат, которые очищали полки, разбивая тут бутылки и выливая вино; от действия паров они впали в обморочное состояние, свалились и утонули. От разных лиц слышал, что вчера всюду по городу продавали вино целыми ящиками и корзинами. Как раз когда я шел из дворца по набережной, я видел, как был остановлен солдат, вышедший из дворца, как его двое часовых обыскали. У него под полой оказалась бутылка очень внушительного вида и старинного образца. Ее тут же разбили о каменную садовую ограду. Впрочем, вчера не только продавали вино, но пьяные воины и постреливали, были, говорят, и раненые, и убитые. Наши девицы, возвращаясь от Степановых, попали под обстрел у Вознесенского моста. В печати нет никаких отголосков о всем этом. Только вечером в «Почте» упоминается о разгроме погребов.
<…>
9 декабря (26 ноября). Воскресенье. <…> Темный день. Оттепель. Леля и вызванный на подмогу Б. Попов (он заведует Гагаринской школой) рассказали мне в подробностях о сенсационном посещении школы Бриком
. Он анонсировал себя уже три-четыре дня назад, но пожаловал только сегодня около двух. Сначала, под шум сдвигаемых для аудитории стульев, он рассказал о погребе Зимнего дворца и о деятельности Луначарского вообще, а затем разразился чем-то вроде доноса по моему адресу – Бенуа-де собирается устроить выставку, где будут плакаты с кузнецами (это отзвук наших разговоров с Мандельбаумом
о выставке «Труда» – для пролетариев), «тогда как пролетариату нужно свободное искусство» (точно оно не нужно всем). Когда все уселись, то Брик, изощряясь в лести молодежи, произнес им типичную агитационную речь, полную известных клише. Мол, долой всякое насилие, нужно самим организовываться, самим творить свою жизнь. Довольно академий, довольно дипломов! При этом он приглашал «художественный пролетариат» (в данном случае аудитория состояла почти исключительно из барышень из богатых семейств; иные из них приезжают на собственных лошадях!) к тому, чтоб он, пролетариат, взял в свои руки дело собственного развития. В заключение он пригласил всех сплотиться и захватить «отлично оборудованную» школу Общества поощрения.