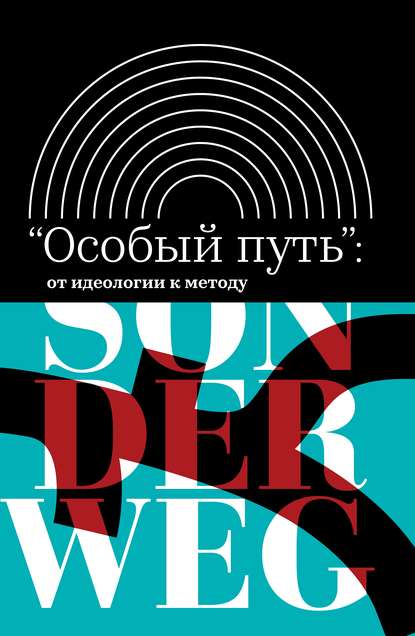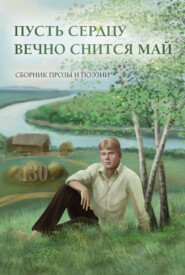По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Особый путь»: от идеологии к методу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1980–1990?е годы традиционная компаративистика подверглась критике со стороны ученых, которые занимались не long-term-процессами социальной истории, но фактами более динамичной и «краткой» истории культурной. Самым известным из них стал М. Эспань, предложивший теорию трансферов – культурных, политических, экономических и др. Он утверждает, что прежние сравнительно-исторические исследования строились по ложной методологической схеме. Во-первых, они лишь внешне преодолевали замкнутость национальных традиций, поскольку единицами сравнения в рамках компаративной модели по-прежнему оставались национальные кейсы. Сопоставление нескольких отдельно взятых и изолированных случаев на деле не приводило к преодолению национальных границ в историографии. Во-вторых, подобная методологическая программа носила излишне конструктивистский характер – рука исследователя, искусственно создававшего объект своего анализа, оказывалась здесь слишком заметной. Вместо статичных национальных кейсов, по мнению Эспаня, необходимо исследовать процессы культурной коммуникации – прежде всего стихийно возникавшие трансферы, обмены информацией, идеями, человеческими ресурсами, знаниями, в которых фигурировали конкретные агенты, адаптировавшие практики одного культурного пространства в другом [Espagne 1989] (см. также: [Дмитриева 2011]).
В 1990–2000?е годы наряду с теорией трансферов возникает transnational history, histoire croisеe или entangled history [Werner, Zimmerman 2006; Вернер, Циммерман 2007]. Сторонники нового подхода утверждают, что теории трансферов все же не удалось избавиться от «грехов» ее предшественницы – компаративной истории. Трансферы по-прежнему подразумевают национальный уровень, на котором проходит коммуникация. Транснациональный подход сделал следующий шаг – историки, например М. Вернер, говоря прежде всего о Европе, показывают, что национальные границы в принципе – понятие проблематичное. На смену национальным сообществам приходит концепт «networks», «сетей», внутри которых происходит коммуникация и границы которых не знают предписанного государственной географией деления. Европейское культурное пространство предстает в виде перекрещивающихся коммуникативных «сетей», в которых «национальное» на концептуальном уровне, конечно, не исчезает, но интегрируется в новую сложную структуру обмена информацией и практиками. В новой концепции понятие «Sonderweg» становится анахроничным и относительным, поскольку здесь никакого изолированного «особого» пути развития по определению быть не может. История «Sonderweg» становится историей «Sonderwege», «путей», которые конструируются с оглядкой на концепции «особости» в других культурных контекстах: так, например, история русского «особого пути» немыслима вне ее немецкого первоисточника. Возникает новая перспектива – изучения того, как циркулировавшие в Европе «сети» предопределили трансляцию идеи национальной исключительности из одного культурного и политического пространства в другое. Как известно, нет ничего более транснационального, чем национальная история.
Histoire croisеe, что существенно, вовсе не отменяет достижений прежних подходов. Так, Кока подчеркивает в своих работах, что сравнение имеет ряд достоинств и недостатков. Историческое сопоставление, по его словам, всегда будет асимметричным: мы чаще всего обращаемся к другому контексту не ради него самого, но чтобы лучше понять собственный «национальный» феномен. Впрочем, полностью «симметричное» сравнение едва ли возможно – оно потребует колоссального объема знаний об иной культуре, который часто недоступен одному-единственному человеку. Из этого затруднения, однако, не следует, что мы должны отказаться от компаративной идеи как таковой: используя сравнение, мы должны отдавать себе отчет в его границах[7 - О перспективах сравнительной истории см. сборник статей: [Haupt, Kocka 2009].].
Основу настоящей публикации составили материалы двух научных семинаров, один из которых прошел в РАНХиГС в 2011 году, второй – в Оксфордском университете в 2012?м. К огромному сожалению, двое из авторов сборника – Борис Владимирович Дубин и Виктор Маркович Живов – не дожили до его выхода в печать. Их светлой памяти мы и посвящаем нашу книгу.
Литература
[Атнашев 2015] – Атнашев Т. Реформаторы в поисках языка: Книга Егора Гайдара «Государство и эволюция» // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 119–139.
[Вернер, Циммерман 2007] – Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: Histoire croisеe и вызов рефлективности / Пер. с англ. М. Могильнер // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 59–90.
[Витгенштейн 1994] – Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 т. / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М., 1994.
[Гердер 1977] – Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М., 1977.
[Дмитриева 2011] – Дмитриева Е. Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: Оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302–313.
[Дэвид-Фокс 2016] – Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: Отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? / Пер. с англ. Т. Пирусской // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 19–44.
[Зорин 2001] – Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой четверти XIX века. М., 2001.
[Паин 2010] – Идеология «особого пути» в России и Германии: Истоки, содержание, последствия / Под ред. Э. А. Паина. М., 2010.
[Espagne 1989] – Espagne M. Les transferts culturelles franco-allemands. Paris, 1989.
[Fisch 1992] – Fisch J. Zivilisation, Kultur // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hg. von O. Brunner, W. Conze und R. Koselleck. Bd. 7. Stuttgart, 1992. S. 679–774.
[Griffin 1991] – Griffin R. The Nature of Fascism. New York, 1991.
[Haupt, Kocka 2009] – Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / Ed. by H. – G. Haupt and J. Kocka. New York; Oxford, 2009.
[Pеnisson 1992] – Pеnisson P. Johann Gottfried Herder: La raison dans les peuples. Paris, 1992.
[Werner, Zimmerman 2006] – Werner M., Zimmerman B. Beyond Comparison: Histoire Croisеe and the Challenge of Reflexivity // History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30–50.
«Особый путь России» – идея трансформационного прорыва в русской культуре[8 - Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-00068).]
Андрей Зорин
Дискурс романтического национализма, основанный на эссенциалистских категориях вроде «национального характера», «народной души» или исторической миссии того или иного народа, выглядит в сегодняшней исторической науке шокирующе архаично. Серьезные исследователи давно рассматривают эти концепты как формы конструкции культурных идентичностей, возникающих на том или ином этапе исторического развития обществ и государств.
В то же время идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, сохраняют силу и привлекательность в современной России, заново пересматривающей свое имперское прошлое и пытающейся построить национальное государство на основаниях по-прежнему не ясных ни большинству населения, ни политическим и интеллектуальным элитам. Разговоры об «исторической судьбе» России, ее «месте в мире», «уникальной духовности» и сравнительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по сравнению с «Западом», начавшиеся в 1830?е годы во время злополучной полемики западников и славянофилов, не только не прекратились в XXI веке, но и приобрели особую популярность.
В предваряющей настоящий сборник статье Т. Атнашева и М. Велижева, а также во включенных в него работах немецких исследователей отмечено, что идеология романтического национализма возникла в конце XVIII века в Германии в качестве основы для воссоединения страны. Идея существования немецкого народа как единого целого была сначала сформулирована в культурной области, а потом перенесена в политическую. Гердер, впервые эксплицировавший мысль о нации как о коллективной личности, особо подчеркивал роль фольклора, языка и словесности как выражения души народа и объединяющей силы, свидетельствующей о немецком единстве вопреки политической и религиозной фрагментации Германии. В рамках этой идеологии была сформулирована и концепция национального поэта как выразителя сокровенных чаяний народного духа. В Германии на роль такого поэта постепенно выдвинулся Гёте, несмотря на то что сам он неизменно критически относился к националистическим упованиям и так называемому «языковому патриотизму» («Schprachpatriotismus») своих почитателей. Представление о народе как об органическом единстве было нацелено на то, чтобы подорвать французскую культурную гегемонию, характерную для культуры европейского Просвещения.
Очевидно, что политическая и культурная ситуация в России была совершенно иной. В отличие от разделенной Германии она была централизованной полиэтнической империей, достигшей в первые десятилетия XIX века небывалого могущества, по крайней мере в военной сфере. Тем не менее целый ряд политических, социальных и культурных предпосылок сделал Россию и прежде всего ее интеллектуальную элиту особенно восприимчивыми к модной идеологии, возникшей в Германии и стремительно покорявшей всю Европу.
В последних исследованиях В. М. Живова, в том числе в его статье, которая публикуется в этом сборнике, подчеркивается резкое отличие русской и, шире, восточнохристианской сотериологии, то есть учения о спасении, от представлений, распространенных в западном христианстве. Если в католичестве было принято тщательно подсчитывать и взвешивать совершенные человеком грехи и по возможности искупать их покаянием, молитвой, исполнением наложенных епитимий, добрыми делами и пр., то в православной традиции такого рода бухгалтерский учет совершенного добра и зла оказывается более или менее бессмысленным – перед лицом Божьего промысла любые надежды заслужить спасение собственными силами представляют собой наивную самонадеянность, если не грех гордыни, а уповать можно только на безграничность Господнего милосердия и святых заступников. Как пишет Живов, православный человек возлагал надежды не на систематические усилия, позволяющие искупить совершенные грехи и в какой-то мере уберечься от несовершенных, но на единичный акт покаяния, мистическое преображение, которому суждено случиться перед смертью. В то же время своего рода прообраз грядущего блаженства можно было увидеть в монастыре, где немногие избранные уже при жизни обретали своего рода подобие земного рая и преддверие небесного. Контраст между небесной красотой обители и убожеством окружающего ее мира служил зримым воплощением грядущей трансформации.
Петровский модернизационный проект придал этому образу мистического преображения секулярное и государственное измерение. Предполагалось, что подвергнуться радикальной трансформации должны были не отдельные люди, но страна в целом, и что произойти такая трансформация должна не в загробном мире, а в посюстороннем историческом времени. В «Слове на погребение Петра Великого» его ближайший сподвижник Феофан Прокопович назвал императора «виновником бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресившим аки от мертвых Россию и воздвигшим в толикую силу и славу». Одушевлявший реформы дух творения ex nihilo, созидания бытия из небытия единым актом преобразовательной воли государя более чем знаком русскому читателю по вступлению к «Медному всаднику».
Кратко выделим лишь два аспекта петровских преобразований, существенных для данной темы. Во-первых, это создание особого, утопического пространства, новой столицы, что сам император в очевидном противоречии чудовищному климату избранной им местности называл «Парадизом». Прокопович восхвалял Петра за то, что «древяную он обрете Россию, а сотвори златую», между тем петровские указы запрещали каменное строительство за пределами Петербурга, делая остальную страну еще более «деревянной», чем она была прежде. В мистической реальности, формируемой царем-преобразователем и его идеологами, подлинно значимым был только главный город, будущий или даже нынешний Парадиз.
Точно так же решался вопрос создания нового человека, который должен был населить этот рай. Социальную элиту переодели, побрили и под страхом свирепейших наказаний заставили завести европейские бытовые привычки. Само собой разумеется, более 90 % населения выглядели по-старому и жили традиционной жизнью, но именно на их фоне европеизированное петербургское дворянство, готовое войти в новый мир, смотрелось особенно выразительно.
Эта идеологическая модель сохраняла силу на протяжении примерно века. Проблема положения и статуса России по отношению к Западу неизменно беспокоила ее элиту, однако первоначальная трактовка этой проблемы была относительно спокойной. Предполагалось, что Россия существенно отстает от Запада, но, будучи «молодой страной», она может рассчитывать на историю как на союзника и стремительно сокращает накопившийся разрыв. Над рабским подражанием западной моде и обыкновениям было принято смеяться, но сама по себе необходимость учиться у более передовых государств выглядела очевидной и никем не оспаривалась, по крайней мере до Французской революции, а в основном, если оставить за скобками пылкую галлофобию Шишкова и его последователей, и после нее. Только после наполеоновских войн, когда пути российского государства и русского образованного общества начали стремительно расходиться, этот оптимистический и в целом общепринятый подход уступает месту набору различных и взаимоконфликтных идеологий.
Принято считать, что дискуссия об особом пути России была начата публикацией первого «Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия из?за ошибочного выбора восточного христианства в качестве государственной религии оказалась отрезана и от католического Запада, и от исламского Востока и не сумела стать органической частью ни одной из великих мировых цивилизаций.
Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у государства в России вообще не было истории. Еще более эксцентрическим выглядело его утверждение, что Запад даже после реформации и Французской революции обладает духовным единством, основанным на католицизме. Сугубая серьезность, с которой власть и общество восприняли этот странный и исполненный кричащих противоречий текст, находилась в явном и очевидном противоречии с его вызывающе провокационным характером.
Как известно, провокация удалась сверх всяких чаяний: чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности. Как показывает на страницах этой книги М. Велижев, публикация первого «Философического письма» совпала по времени с распространением новой официальной идеологии российской империи – идеологии «православие – самодержавие – народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. Уваров определял русскую «народность» субъективно-психологически: ее проявлением оказывалась вера в догмы господствующей церкви и приверженность принципам политического порядка, спасшего Россию от деградации, которую переживал современный Запад.
Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.
Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?
Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840?е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства – движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.
Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.
В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830?е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.
Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.
Изображенной в поэме стране «мертвых душ» предстояло, по Гоголю, мистическое возрождение, причем ослепительный прорыв к будущему величию был уготован России не столько несмотря на ее нынешнюю греховность, сколько именно благодаря ей. Религиозные корни этой идеи вполне очевидны – мысль о том, что последним суждено стать первыми, имеет евангельское происхождение. И все же Гоголь интерпретировал эту мысль в русле романтического национализма и применил не к отдельному человеку, но к народу как органическому целому.
Полет птицы-тройки в конце первой части «Мертвых душ» только намекал на грядущее преображение Российской империи в идеальную общину, а ее обитателей – в достойных граждан земного Эдема. Гоголь намеревался в деталях изобразить это превращение во второй и третьей частях. Исследователи давно установили, что план поэмы был ориентирован на композицию «Божественной комедии» Данте, однако тот, отправляя свое литературное alter ego путешествовать по всему загробному миру, никогда не представлял себе, что ад может в результате мистической трансформации преобразиться в рай.
Окончательного воплощения замыслы Гоголя не получили. Из-за недовольства собой и сдержанной реакции первых слушателей писатель дважды сжигал вторую часть поэмы и умер, так и не приступив к написанию третьей. В любом случае современная ему критика, занятая текущими проблемами и журнальными баталиями, едва ли была бы в состоянии оценить этот грандиозный замысел. И все же в своем ви?дении прошлого, настоящего и будущего России Гоголь был не одинок. Интересней всего то, что примерно в том же направлении развивалась и мысль Чаадаева.
В 1837 году, через год после роковой публикации «Философического письма», Чаадаев написал «Апологию безумного», где перешел от негативного мессианизма своего предшествующего опыта к позитивному. Мы уже никогда достоверно не узнаем, какие мотивы стояли за этой сменой вех. Возможно, Чаадаев хотел оправдать себя в глазах общества, а потом, возможно, и властей, он мог искренне изменить собственные взгляды, а мог и рассматривать свою новую точку зрения как естественный вывод из предшествующей. Известно лишь, что «Апология…» не внесла в его статус никаких изменений, она осталась неопубликованной, и цензурный запрет с имени автора так и не был снят.
В любом случае Чаадаев в «Апологии…» не стал отказываться от прежних диатриб в адрес России. Подобной автополемике он предпочел гораздо более эксцентрический ход – утверждение, что дальнейшие размышления над волновавшим его предметом привели его к выводу, что будущее России более прекрасно, чем это можно себе вообразить:
Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. <…> у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества.
Стоит заметить, что в финале «Апологии безумного» содержится резкая критика Гоголя. Чаадаев сравнил всеобщее осуждение его письма с восторженным приемом, оказанным монархом и обществом «Ревизору», комедии, в которой пороки российского общества оказались подвержены столь же уничтожающей критике. Вероятно, Чаадаев видел в Гоголе своего основного и более удачливого соперника в дискуссии об исторической судьбе России и ее грядущем назначении.
Таким образом, в конце 1830?х – начале 1840?х годов Чаадаев и Гоголь независимо друг от друга сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав. Эта идея оказалась необычайно привлекательна для мыслителей, писателей и политиков, во всех остальных отношениях совершенно несхожих друг с другом и даже занимавших противоположные позиции. Большинство из них ожидали, что такой трансформационный прорыв совершится в самом ближайшем будущем, и рассчитывали стать его свидетелями.
В 1854 году, во время Крымской войны, окончившейся для России унизительным поражением, из-под пера одного из главных идеологов славянофильства – Алексея Хомякова вышло страстное обличение собственной страны, на первый взгляд плохо согласующееся с его патриотическими упованиями:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
В 1990–2000?е годы наряду с теорией трансферов возникает transnational history, histoire croisеe или entangled history [Werner, Zimmerman 2006; Вернер, Циммерман 2007]. Сторонники нового подхода утверждают, что теории трансферов все же не удалось избавиться от «грехов» ее предшественницы – компаративной истории. Трансферы по-прежнему подразумевают национальный уровень, на котором проходит коммуникация. Транснациональный подход сделал следующий шаг – историки, например М. Вернер, говоря прежде всего о Европе, показывают, что национальные границы в принципе – понятие проблематичное. На смену национальным сообществам приходит концепт «networks», «сетей», внутри которых происходит коммуникация и границы которых не знают предписанного государственной географией деления. Европейское культурное пространство предстает в виде перекрещивающихся коммуникативных «сетей», в которых «национальное» на концептуальном уровне, конечно, не исчезает, но интегрируется в новую сложную структуру обмена информацией и практиками. В новой концепции понятие «Sonderweg» становится анахроничным и относительным, поскольку здесь никакого изолированного «особого» пути развития по определению быть не может. История «Sonderweg» становится историей «Sonderwege», «путей», которые конструируются с оглядкой на концепции «особости» в других культурных контекстах: так, например, история русского «особого пути» немыслима вне ее немецкого первоисточника. Возникает новая перспектива – изучения того, как циркулировавшие в Европе «сети» предопределили трансляцию идеи национальной исключительности из одного культурного и политического пространства в другое. Как известно, нет ничего более транснационального, чем национальная история.
Histoire croisеe, что существенно, вовсе не отменяет достижений прежних подходов. Так, Кока подчеркивает в своих работах, что сравнение имеет ряд достоинств и недостатков. Историческое сопоставление, по его словам, всегда будет асимметричным: мы чаще всего обращаемся к другому контексту не ради него самого, но чтобы лучше понять собственный «национальный» феномен. Впрочем, полностью «симметричное» сравнение едва ли возможно – оно потребует колоссального объема знаний об иной культуре, который часто недоступен одному-единственному человеку. Из этого затруднения, однако, не следует, что мы должны отказаться от компаративной идеи как таковой: используя сравнение, мы должны отдавать себе отчет в его границах[7 - О перспективах сравнительной истории см. сборник статей: [Haupt, Kocka 2009].].
Основу настоящей публикации составили материалы двух научных семинаров, один из которых прошел в РАНХиГС в 2011 году, второй – в Оксфордском университете в 2012?м. К огромному сожалению, двое из авторов сборника – Борис Владимирович Дубин и Виктор Маркович Живов – не дожили до его выхода в печать. Их светлой памяти мы и посвящаем нашу книгу.
Литература
[Атнашев 2015] – Атнашев Т. Реформаторы в поисках языка: Книга Егора Гайдара «Государство и эволюция» // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 119–139.
[Вернер, Циммерман 2007] – Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: Histoire croisеe и вызов рефлективности / Пер. с англ. М. Могильнер // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 59–90.
[Витгенштейн 1994] – Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 т. / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М., 1994.
[Гердер 1977] – Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М., 1977.
[Дмитриева 2011] – Дмитриева Е. Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: Оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302–313.
[Дэвид-Фокс 2016] – Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: Отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? / Пер. с англ. Т. Пирусской // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 19–44.
[Зорин 2001] – Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой четверти XIX века. М., 2001.
[Паин 2010] – Идеология «особого пути» в России и Германии: Истоки, содержание, последствия / Под ред. Э. А. Паина. М., 2010.
[Espagne 1989] – Espagne M. Les transferts culturelles franco-allemands. Paris, 1989.
[Fisch 1992] – Fisch J. Zivilisation, Kultur // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hg. von O. Brunner, W. Conze und R. Koselleck. Bd. 7. Stuttgart, 1992. S. 679–774.
[Griffin 1991] – Griffin R. The Nature of Fascism. New York, 1991.
[Haupt, Kocka 2009] – Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / Ed. by H. – G. Haupt and J. Kocka. New York; Oxford, 2009.
[Pеnisson 1992] – Pеnisson P. Johann Gottfried Herder: La raison dans les peuples. Paris, 1992.
[Werner, Zimmerman 2006] – Werner M., Zimmerman B. Beyond Comparison: Histoire Croisеe and the Challenge of Reflexivity // History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30–50.
«Особый путь России» – идея трансформационного прорыва в русской культуре[8 - Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-00068).]
Андрей Зорин
Дискурс романтического национализма, основанный на эссенциалистских категориях вроде «национального характера», «народной души» или исторической миссии того или иного народа, выглядит в сегодняшней исторической науке шокирующе архаично. Серьезные исследователи давно рассматривают эти концепты как формы конструкции культурных идентичностей, возникающих на том или ином этапе исторического развития обществ и государств.
В то же время идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, сохраняют силу и привлекательность в современной России, заново пересматривающей свое имперское прошлое и пытающейся построить национальное государство на основаниях по-прежнему не ясных ни большинству населения, ни политическим и интеллектуальным элитам. Разговоры об «исторической судьбе» России, ее «месте в мире», «уникальной духовности» и сравнительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по сравнению с «Западом», начавшиеся в 1830?е годы во время злополучной полемики западников и славянофилов, не только не прекратились в XXI веке, но и приобрели особую популярность.
В предваряющей настоящий сборник статье Т. Атнашева и М. Велижева, а также во включенных в него работах немецких исследователей отмечено, что идеология романтического национализма возникла в конце XVIII века в Германии в качестве основы для воссоединения страны. Идея существования немецкого народа как единого целого была сначала сформулирована в культурной области, а потом перенесена в политическую. Гердер, впервые эксплицировавший мысль о нации как о коллективной личности, особо подчеркивал роль фольклора, языка и словесности как выражения души народа и объединяющей силы, свидетельствующей о немецком единстве вопреки политической и религиозной фрагментации Германии. В рамках этой идеологии была сформулирована и концепция национального поэта как выразителя сокровенных чаяний народного духа. В Германии на роль такого поэта постепенно выдвинулся Гёте, несмотря на то что сам он неизменно критически относился к националистическим упованиям и так называемому «языковому патриотизму» («Schprachpatriotismus») своих почитателей. Представление о народе как об органическом единстве было нацелено на то, чтобы подорвать французскую культурную гегемонию, характерную для культуры европейского Просвещения.
Очевидно, что политическая и культурная ситуация в России была совершенно иной. В отличие от разделенной Германии она была централизованной полиэтнической империей, достигшей в первые десятилетия XIX века небывалого могущества, по крайней мере в военной сфере. Тем не менее целый ряд политических, социальных и культурных предпосылок сделал Россию и прежде всего ее интеллектуальную элиту особенно восприимчивыми к модной идеологии, возникшей в Германии и стремительно покорявшей всю Европу.
В последних исследованиях В. М. Живова, в том числе в его статье, которая публикуется в этом сборнике, подчеркивается резкое отличие русской и, шире, восточнохристианской сотериологии, то есть учения о спасении, от представлений, распространенных в западном христианстве. Если в католичестве было принято тщательно подсчитывать и взвешивать совершенные человеком грехи и по возможности искупать их покаянием, молитвой, исполнением наложенных епитимий, добрыми делами и пр., то в православной традиции такого рода бухгалтерский учет совершенного добра и зла оказывается более или менее бессмысленным – перед лицом Божьего промысла любые надежды заслужить спасение собственными силами представляют собой наивную самонадеянность, если не грех гордыни, а уповать можно только на безграничность Господнего милосердия и святых заступников. Как пишет Живов, православный человек возлагал надежды не на систематические усилия, позволяющие искупить совершенные грехи и в какой-то мере уберечься от несовершенных, но на единичный акт покаяния, мистическое преображение, которому суждено случиться перед смертью. В то же время своего рода прообраз грядущего блаженства можно было увидеть в монастыре, где немногие избранные уже при жизни обретали своего рода подобие земного рая и преддверие небесного. Контраст между небесной красотой обители и убожеством окружающего ее мира служил зримым воплощением грядущей трансформации.
Петровский модернизационный проект придал этому образу мистического преображения секулярное и государственное измерение. Предполагалось, что подвергнуться радикальной трансформации должны были не отдельные люди, но страна в целом, и что произойти такая трансформация должна не в загробном мире, а в посюстороннем историческом времени. В «Слове на погребение Петра Великого» его ближайший сподвижник Феофан Прокопович назвал императора «виновником бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресившим аки от мертвых Россию и воздвигшим в толикую силу и славу». Одушевлявший реформы дух творения ex nihilo, созидания бытия из небытия единым актом преобразовательной воли государя более чем знаком русскому читателю по вступлению к «Медному всаднику».
Кратко выделим лишь два аспекта петровских преобразований, существенных для данной темы. Во-первых, это создание особого, утопического пространства, новой столицы, что сам император в очевидном противоречии чудовищному климату избранной им местности называл «Парадизом». Прокопович восхвалял Петра за то, что «древяную он обрете Россию, а сотвори златую», между тем петровские указы запрещали каменное строительство за пределами Петербурга, делая остальную страну еще более «деревянной», чем она была прежде. В мистической реальности, формируемой царем-преобразователем и его идеологами, подлинно значимым был только главный город, будущий или даже нынешний Парадиз.
Точно так же решался вопрос создания нового человека, который должен был населить этот рай. Социальную элиту переодели, побрили и под страхом свирепейших наказаний заставили завести европейские бытовые привычки. Само собой разумеется, более 90 % населения выглядели по-старому и жили традиционной жизнью, но именно на их фоне европеизированное петербургское дворянство, готовое войти в новый мир, смотрелось особенно выразительно.
Эта идеологическая модель сохраняла силу на протяжении примерно века. Проблема положения и статуса России по отношению к Западу неизменно беспокоила ее элиту, однако первоначальная трактовка этой проблемы была относительно спокойной. Предполагалось, что Россия существенно отстает от Запада, но, будучи «молодой страной», она может рассчитывать на историю как на союзника и стремительно сокращает накопившийся разрыв. Над рабским подражанием западной моде и обыкновениям было принято смеяться, но сама по себе необходимость учиться у более передовых государств выглядела очевидной и никем не оспаривалась, по крайней мере до Французской революции, а в основном, если оставить за скобками пылкую галлофобию Шишкова и его последователей, и после нее. Только после наполеоновских войн, когда пути российского государства и русского образованного общества начали стремительно расходиться, этот оптимистический и в целом общепринятый подход уступает месту набору различных и взаимоконфликтных идеологий.
Принято считать, что дискуссия об особом пути России была начата публикацией первого «Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия из?за ошибочного выбора восточного христианства в качестве государственной религии оказалась отрезана и от католического Запада, и от исламского Востока и не сумела стать органической частью ни одной из великих мировых цивилизаций.
Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у государства в России вообще не было истории. Еще более эксцентрическим выглядело его утверждение, что Запад даже после реформации и Французской революции обладает духовным единством, основанным на католицизме. Сугубая серьезность, с которой власть и общество восприняли этот странный и исполненный кричащих противоречий текст, находилась в явном и очевидном противоречии с его вызывающе провокационным характером.
Как известно, провокация удалась сверх всяких чаяний: чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности. Как показывает на страницах этой книги М. Велижев, публикация первого «Философического письма» совпала по времени с распространением новой официальной идеологии российской империи – идеологии «православие – самодержавие – народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. Уваров определял русскую «народность» субъективно-психологически: ее проявлением оказывалась вера в догмы господствующей церкви и приверженность принципам политического порядка, спасшего Россию от деградации, которую переживал современный Запад.
Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.
Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?
Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840?е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства – движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.
Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.
В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830?е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.
Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.
Изображенной в поэме стране «мертвых душ» предстояло, по Гоголю, мистическое возрождение, причем ослепительный прорыв к будущему величию был уготован России не столько несмотря на ее нынешнюю греховность, сколько именно благодаря ей. Религиозные корни этой идеи вполне очевидны – мысль о том, что последним суждено стать первыми, имеет евангельское происхождение. И все же Гоголь интерпретировал эту мысль в русле романтического национализма и применил не к отдельному человеку, но к народу как органическому целому.
Полет птицы-тройки в конце первой части «Мертвых душ» только намекал на грядущее преображение Российской империи в идеальную общину, а ее обитателей – в достойных граждан земного Эдема. Гоголь намеревался в деталях изобразить это превращение во второй и третьей частях. Исследователи давно установили, что план поэмы был ориентирован на композицию «Божественной комедии» Данте, однако тот, отправляя свое литературное alter ego путешествовать по всему загробному миру, никогда не представлял себе, что ад может в результате мистической трансформации преобразиться в рай.
Окончательного воплощения замыслы Гоголя не получили. Из-за недовольства собой и сдержанной реакции первых слушателей писатель дважды сжигал вторую часть поэмы и умер, так и не приступив к написанию третьей. В любом случае современная ему критика, занятая текущими проблемами и журнальными баталиями, едва ли была бы в состоянии оценить этот грандиозный замысел. И все же в своем ви?дении прошлого, настоящего и будущего России Гоголь был не одинок. Интересней всего то, что примерно в том же направлении развивалась и мысль Чаадаева.
В 1837 году, через год после роковой публикации «Философического письма», Чаадаев написал «Апологию безумного», где перешел от негативного мессианизма своего предшествующего опыта к позитивному. Мы уже никогда достоверно не узнаем, какие мотивы стояли за этой сменой вех. Возможно, Чаадаев хотел оправдать себя в глазах общества, а потом, возможно, и властей, он мог искренне изменить собственные взгляды, а мог и рассматривать свою новую точку зрения как естественный вывод из предшествующей. Известно лишь, что «Апология…» не внесла в его статус никаких изменений, она осталась неопубликованной, и цензурный запрет с имени автора так и не был снят.
В любом случае Чаадаев в «Апологии…» не стал отказываться от прежних диатриб в адрес России. Подобной автополемике он предпочел гораздо более эксцентрический ход – утверждение, что дальнейшие размышления над волновавшим его предметом привели его к выводу, что будущее России более прекрасно, чем это можно себе вообразить:
Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. <…> у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества.
Стоит заметить, что в финале «Апологии безумного» содержится резкая критика Гоголя. Чаадаев сравнил всеобщее осуждение его письма с восторженным приемом, оказанным монархом и обществом «Ревизору», комедии, в которой пороки российского общества оказались подвержены столь же уничтожающей критике. Вероятно, Чаадаев видел в Гоголе своего основного и более удачливого соперника в дискуссии об исторической судьбе России и ее грядущем назначении.
Таким образом, в конце 1830?х – начале 1840?х годов Чаадаев и Гоголь независимо друг от друга сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав. Эта идея оказалась необычайно привлекательна для мыслителей, писателей и политиков, во всех остальных отношениях совершенно несхожих друг с другом и даже занимавших противоположные позиции. Большинство из них ожидали, что такой трансформационный прорыв совершится в самом ближайшем будущем, и рассчитывали стать его свидетелями.
В 1854 году, во время Крымской войны, окончившейся для России унизительным поражением, из-под пера одного из главных идеологов славянофильства – Алексея Хомякова вышло страстное обличение собственной страны, на первый взгляд плохо согласующееся с его патриотическими упованиями:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,