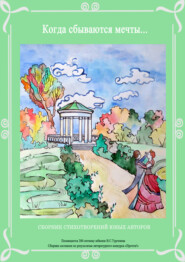По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пасхальные рассказы о любви. Произведения русских писателей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Часто это, бывало, починала Феклушка на своем коломенском наречии разжигать Никиту Парфеныча.
– Эх, – говаривала она, – Никита Парфеныч! Насквозь тебя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позабавиться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели взаправду-то любишь, дай взаймы рубликов пятьсот на торговлю.
– Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублев на ветер бросил, тогда бы по крайности я то удовольствие получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой такой богатый купец я есть – по пятисот на ветер бросает.
– А говорит, что любит, – пытала его Феклушка. – Да ежели бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази, ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбовника, потому не люблю Липатку, – сам знаешь, какой он шут пучеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай. (А чего там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка орудовал.) Я вот Мишку Гривача полюблю, уж Мишка не тебе и не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак – и хоть што хошь он делай, от себя его не пущу. – И на самом Никите Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.
– Я, – говорил Никита, – я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.
А и змеигца же подколодная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков привораживать, у нас такой никогда и не видывали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)… Обовьет она, бывало, дурака-то степного – Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масленые, так и светились, кошачьи словно.
В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан – удальцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, – ну, удальцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!
Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеныча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Пробовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выделывать, да немного этим товаром наторговал, – в пьяном образе с моста в реку бросился. «Что, – говорит, – без капиталов за жисть! Характеру, – говорит, – моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить – баран из него шуту добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни, когда на посаде бывает базар, ходят они – внуки миллионщика – да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии – мать их – полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.
Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть – и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчмя головой полетит, – только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, – и тут уж ты над ним смейся, сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.
Вглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так смеху-то на свете сколько бы было!
И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, – старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются…
Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семенычем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее пробережешь, тем дольше на верху колеса счастья продержишься. Верно!
И стал наш Липат Семеныч в это время обеими руками жар загребать, – зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошадьми-то, и сады стал снимать, а главное, у помещиков погорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, – и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребе делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто, словно бы от кузнечной работы… Многое разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Ивановну немецкими платьями изукрашивает.
Только как же это у Господа истинно оказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Всё теперь проведали, всё разузнали – и правда, что неизмерима жадность человеческая, аки омут глубокий речной – все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.
Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный народ! Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)
Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один – владимирец – на постоялый двор въезжать! Знали мы его все в Чернополье, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный – облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать: а молодому дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела – тертый был. «Ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег люби, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают…»
Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись немало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, – и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как то есть он получает ее деньги с него обирать.
Здорово тут владимирец разными обиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабьи, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.
Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбродило, – все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать. «Что? – говорит. – Сколько?» – «Да ничего», – Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз-другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один понапрасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь…» Богобоязлив был очень…
Как ни благополучно, однако ж кончилось у них дело это, – припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!
Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать – и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слыхал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, – спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.
– Господи! Кого в такую пору леший принес? – догадывается Липатка сквозь сон.
– Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, – полагала Феклушка.
– У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая – мужа отпирать посылает. Ты зачем работницу отпустила?
– Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена иди дверь отпирать – как же?
– Не бреши, отопру пойду, – сказал Липатка, и так-то ясно заблистал свет серной спички, которую зажег он.
Пустырь-пустырем глядела изба постоялого двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, – на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью кап-ли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то – и пойдут тут к тебе в голову разные думы… и тишина это такая в избе стоит, – не жукнет никто, кроме как капли эти всё об кадушку стукаются: «бум», словно кто щелчком в оконницу стукнет, да, погодивши немного, опять: «тум-м», окажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице – тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что посмотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гоняются, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)… Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силишься покрепче заснуть, чтобы не слыхать и не видать ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит…
Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит. «Пусти ночевать!» – орет, ровно уж там, на улице-то, светопреставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать, леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе, и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще наддает; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, дворы постоялые держат всё больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, – ослепнуть можно, глядя на них.
Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, – потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скачут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы гладят – и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И черт тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечье, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, Божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унизал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче Божий, что у меня, сатаны, дело такое есть – людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвесть во всех царствах плач и стенанье большие, потому начальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями трехвостными сечь; а мужики, тоже поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут – и будет от того шум и смятенье большие – моему дьявольскому сердцу потеха и послуга немалая…» Не стал с ним ничего больше разговаривать старец Божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин вглубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод Господь Бог им послал; а прежде того, на моих еще памятях, у нас по степям картошку и тыкву чертовым яблоком обзывали.
Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно напоказ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто
случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной погибели спасти…
И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидал ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, – дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корчма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий – чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая, – и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, мать, может, снится ему, ласки красавиц сестер, и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических…
Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.
– Отпирай, Липат! Ай гостям не рад?
Слышно было, как на улице засмеялись после этого, – чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.
– Господи! – потихоньку шепчет Л ипатка и крестится.
И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, – руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстилался.
Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега почитай все уж стаяли, как кое-где зелени показались такие прекрасные (Господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.
Немалое время сидят они за столом и благодушествуют. И уж про все свои последние торговые похождения Липатке владимирец рассказал, и историю еще рассказал, от одного барина слышанную (а тот ее в газетах будто читал), как король какой-то ненашинский тайному совету своему велел было такой указ написать, чтобы желающим можно было на трех женах жениться, и уж послушался было тайный совет короля и указ изготовил, да королевна, жена его, выходит, разведала как-то про это дело, так таких, рассказывают, мужу нотаций начитала – жизни не рад был, а тайный совет попросту на конюшню весь отослала. Так по-прежнему в этом царстве все дела и пошли опять – больше одной жены иметь никто не моги…
Было чего послушать, когда, бывало, владимирец на постоялом дворе говорить почнет; однако ж Липатка плохо что-то слушал его – и только Фекла одна на него пристально всматривалась. Хотелось бы ей другу милому любовное слово с глазу на глаз сказать да ласку от него получить, а Липатка, как назло, словно шут его к одному месту навек пригвоздил, из избы ни ногой. Сидит он, как-то об стол руками, словно нехристь какая, оперся, бороду на них положил и хмурит брови густые да шершавые (все равно как у колдуна какого, вместе брови-то срослись у него!), – морщины на лбу вырезались, а глаза, будто ночью у кошки, так и светятся.
– Что, Липат, запечалился? – спрашивает владимирец. – Аль жена любить перестала? А ты бы ее за то не легким – тяжелым, дубовым поленом, да все по коленам.
– Что ты, что ты, касатик, – перебила Феклушка. – Ты его этим статьям не учи. Он эти статьи сам знает.
– Ай бы нам выпить? – ввернул свое слово Липатка.
– Не грешно ли будет? Праздник-то завтра не маленький.
– Кто празднику рад, тот до свету пьян.
– Приятно вашей речи хорошей послушать, – согласился владимирец.
Выпили.
– А со мной (недели с две уж прошло) какой случай мудреный вышел, Липат Семеныч, так сколько я, примером, дорог изъездил, а такого ни разу еще со мной не бывало. Едем мы, братец ты мой, проселком, на четырех подводах, в господский дом один пробирались (важный дом такой, без пятисот серебра никогда я из него не выезжал). Два работника были со мной, а ночь эдакая темная: зги не видать. Такую грязь дождь замесил, что ничего ты с лошадями не поделаешь, да и только. Таково тихо ехали, инда душа изнывала. Вдруг работник и закричал (с задним возом на ряду шел): «Сюда, говорит, вора поймал!» А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена, и щекатулка моя в ней стояла. Екнуло у меня сердце, ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили; а сам к возу-то со всех ног и бросился. Гляжу: работник вора-то ногами топчет, а тот уж хрипит только (дрянной такой мужичишка, маленький да тщедушный). «Погоди, – говорю работнику, – не бей, становому представим». – «Что, – говорит, – тут уж годить? Нечего тут годить, с одного кулака совсем сшиб, а еще воровать лезет, дрянь эдакая, дома бы на печи с своей силой сидел…» На другой день, братец ты мой, как мы назад воротились, все на этом же самом месте покойник лежал. Жаль мне таково стало его и страшно, потому душа моя, грех хоша и по неведению сделанный, а участвовала и боязно так ужаснулась.
– А ты его в поминание запиши да свечей поставь, – мрачно советовал Липатка. – Оно не в пример спокойнее будет…
Боязлива же была Феклушка-дворничиха. Все равно как камень рудниковый побелела она, историю эту слушаючи. Переглядывается она потихоньку с владимирцем и молчит, потому что про смерть, известно, не любят бабы по ночам толковать, и владимирец молчит, и Липатка молчит. Задумались они все, словно в печали великой, – как в гробу, тихо было в избе, только Липатка по временам тяжко вздыхал да сверчок покрикивал изредка; а с улицы, сквозь толстые ставни, не долетал в избу даже шум ветра ночного.
– Эх, – говаривала она, – Никита Парфеныч! Насквозь тебя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позабавиться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели взаправду-то любишь, дай взаймы рубликов пятьсот на торговлю.
– Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублев на ветер бросил, тогда бы по крайности я то удовольствие получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой такой богатый купец я есть – по пятисот на ветер бросает.
– А говорит, что любит, – пытала его Феклушка. – Да ежели бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази, ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбовника, потому не люблю Липатку, – сам знаешь, какой он шут пучеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай. (А чего там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка орудовал.) Я вот Мишку Гривача полюблю, уж Мишка не тебе и не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак – и хоть што хошь он делай, от себя его не пущу. – И на самом Никите Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.
– Я, – говорил Никита, – я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.
А и змеигца же подколодная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков привораживать, у нас такой никогда и не видывали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)… Обовьет она, бывало, дурака-то степного – Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масленые, так и светились, кошачьи словно.
В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан – удальцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, – ну, удальцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!
Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеныча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Пробовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выделывать, да немного этим товаром наторговал, – в пьяном образе с моста в реку бросился. «Что, – говорит, – без капиталов за жисть! Характеру, – говорит, – моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить – баран из него шуту добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни, когда на посаде бывает базар, ходят они – внуки миллионщика – да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии – мать их – полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.
Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть – и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчмя головой полетит, – только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, – и тут уж ты над ним смейся, сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.
Вглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так смеху-то на свете сколько бы было!
И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, – старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются…
Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семенычем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее пробережешь, тем дольше на верху колеса счастья продержишься. Верно!
И стал наш Липат Семеныч в это время обеими руками жар загребать, – зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошадьми-то, и сады стал снимать, а главное, у помещиков погорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, – и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребе делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто, словно бы от кузнечной работы… Многое разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Ивановну немецкими платьями изукрашивает.
Только как же это у Господа истинно оказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Всё теперь проведали, всё разузнали – и правда, что неизмерима жадность человеческая, аки омут глубокий речной – все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.
Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный народ! Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)
Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один – владимирец – на постоялый двор въезжать! Знали мы его все в Чернополье, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный – облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать: а молодому дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела – тертый был. «Ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег люби, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают…»
Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись немало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, – и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как то есть он получает ее деньги с него обирать.
Здорово тут владимирец разными обиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабьи, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.
Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбродило, – все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать. «Что? – говорит. – Сколько?» – «Да ничего», – Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз-другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один понапрасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь…» Богобоязлив был очень…
Как ни благополучно, однако ж кончилось у них дело это, – припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!
Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать – и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слыхал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, – спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.
– Господи! Кого в такую пору леший принес? – догадывается Липатка сквозь сон.
– Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, – полагала Феклушка.
– У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая – мужа отпирать посылает. Ты зачем работницу отпустила?
– Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена иди дверь отпирать – как же?
– Не бреши, отопру пойду, – сказал Липатка, и так-то ясно заблистал свет серной спички, которую зажег он.
Пустырь-пустырем глядела изба постоялого двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, – на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью кап-ли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то – и пойдут тут к тебе в голову разные думы… и тишина это такая в избе стоит, – не жукнет никто, кроме как капли эти всё об кадушку стукаются: «бум», словно кто щелчком в оконницу стукнет, да, погодивши немного, опять: «тум-м», окажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице – тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что посмотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гоняются, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)… Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силишься покрепче заснуть, чтобы не слыхать и не видать ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит…
Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит. «Пусти ночевать!» – орет, ровно уж там, на улице-то, светопреставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать, леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе, и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще наддает; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, дворы постоялые держат всё больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, – ослепнуть можно, глядя на них.
Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, – потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скачут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы гладят – и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И черт тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечье, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, Божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унизал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче Божий, что у меня, сатаны, дело такое есть – людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвесть во всех царствах плач и стенанье большие, потому начальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями трехвостными сечь; а мужики, тоже поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут – и будет от того шум и смятенье большие – моему дьявольскому сердцу потеха и послуга немалая…» Не стал с ним ничего больше разговаривать старец Божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин вглубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод Господь Бог им послал; а прежде того, на моих еще памятях, у нас по степям картошку и тыкву чертовым яблоком обзывали.
Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно напоказ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто
случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной погибели спасти…
И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидал ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, – дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корчма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий – чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая, – и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, мать, может, снится ему, ласки красавиц сестер, и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических…
Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.
– Отпирай, Липат! Ай гостям не рад?
Слышно было, как на улице засмеялись после этого, – чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.
– Господи! – потихоньку шепчет Л ипатка и крестится.
И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, – руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстилался.
Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега почитай все уж стаяли, как кое-где зелени показались такие прекрасные (Господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.
Немалое время сидят они за столом и благодушествуют. И уж про все свои последние торговые похождения Липатке владимирец рассказал, и историю еще рассказал, от одного барина слышанную (а тот ее в газетах будто читал), как король какой-то ненашинский тайному совету своему велел было такой указ написать, чтобы желающим можно было на трех женах жениться, и уж послушался было тайный совет короля и указ изготовил, да королевна, жена его, выходит, разведала как-то про это дело, так таких, рассказывают, мужу нотаций начитала – жизни не рад был, а тайный совет попросту на конюшню весь отослала. Так по-прежнему в этом царстве все дела и пошли опять – больше одной жены иметь никто не моги…
Было чего послушать, когда, бывало, владимирец на постоялом дворе говорить почнет; однако ж Липатка плохо что-то слушал его – и только Фекла одна на него пристально всматривалась. Хотелось бы ей другу милому любовное слово с глазу на глаз сказать да ласку от него получить, а Липатка, как назло, словно шут его к одному месту навек пригвоздил, из избы ни ногой. Сидит он, как-то об стол руками, словно нехристь какая, оперся, бороду на них положил и хмурит брови густые да шершавые (все равно как у колдуна какого, вместе брови-то срослись у него!), – морщины на лбу вырезались, а глаза, будто ночью у кошки, так и светятся.
– Что, Липат, запечалился? – спрашивает владимирец. – Аль жена любить перестала? А ты бы ее за то не легким – тяжелым, дубовым поленом, да все по коленам.
– Что ты, что ты, касатик, – перебила Феклушка. – Ты его этим статьям не учи. Он эти статьи сам знает.
– Ай бы нам выпить? – ввернул свое слово Липатка.
– Не грешно ли будет? Праздник-то завтра не маленький.
– Кто празднику рад, тот до свету пьян.
– Приятно вашей речи хорошей послушать, – согласился владимирец.
Выпили.
– А со мной (недели с две уж прошло) какой случай мудреный вышел, Липат Семеныч, так сколько я, примером, дорог изъездил, а такого ни разу еще со мной не бывало. Едем мы, братец ты мой, проселком, на четырех подводах, в господский дом один пробирались (важный дом такой, без пятисот серебра никогда я из него не выезжал). Два работника были со мной, а ночь эдакая темная: зги не видать. Такую грязь дождь замесил, что ничего ты с лошадями не поделаешь, да и только. Таково тихо ехали, инда душа изнывала. Вдруг работник и закричал (с задним возом на ряду шел): «Сюда, говорит, вора поймал!» А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена, и щекатулка моя в ней стояла. Екнуло у меня сердце, ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили; а сам к возу-то со всех ног и бросился. Гляжу: работник вора-то ногами топчет, а тот уж хрипит только (дрянной такой мужичишка, маленький да тщедушный). «Погоди, – говорю работнику, – не бей, становому представим». – «Что, – говорит, – тут уж годить? Нечего тут годить, с одного кулака совсем сшиб, а еще воровать лезет, дрянь эдакая, дома бы на печи с своей силой сидел…» На другой день, братец ты мой, как мы назад воротились, все на этом же самом месте покойник лежал. Жаль мне таково стало его и страшно, потому душа моя, грех хоша и по неведению сделанный, а участвовала и боязно так ужаснулась.
– А ты его в поминание запиши да свечей поставь, – мрачно советовал Липатка. – Оно не в пример спокойнее будет…
Боязлива же была Феклушка-дворничиха. Все равно как камень рудниковый побелела она, историю эту слушаючи. Переглядывается она потихоньку с владимирцем и молчит, потому что про смерть, известно, не любят бабы по ночам толковать, и владимирец молчит, и Липатка молчит. Задумались они все, словно в печали великой, – как в гробу, тихо было в избе, только Липатка по временам тяжко вздыхал да сверчок покрикивал изредка; а с улицы, сквозь толстые ставни, не долетал в избу даже шум ветра ночного.