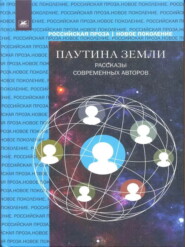По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Витражи. Лучшие писатели Хорватии в одной книге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из-за Эстер, семнадцатилетней девушки, он был готов отречься от своей веры и от всего остального (начиная с материальных благ и до личной репутации), что эта вера ему гарантировала, и на пороге старости, да к тому же и в самое неподходящее время, принять иудаизм, против чего решительно возражали ее родственники и после долгих споров, слез и угроз, поняв, что ее не остановить, отпустили искать свое счастье вместе с этим чужаком, словно расплачиваясь таким образом за ее поразительную красоту. Он не был принят ими как зять, то есть человек во всем им равный, они просто позволили ему забрать ее в свой мир, хотя и понимали, что, поступив так, больше никогда ее не увидят и ничего о ней не узнают.
Он обещал им, хотя они не требовали от него никаких обещаний и, видимо, не верили ни единому его слову, что будет беречь ее от всякого зла, какое только существует в его мире, а через десять лет ее убил обычный клещ из парка у стен Вавеля. Болела она недолго, умирала тяжело, с криками и деменцией, вызванной воспалением мозга.
Перед смертью долгие два дня говорила на каком-то неизвестном иностранном языке. Он приводил раввинов из Казимежа, чтобы те перевели ее слова, но они только пожимали плечами и утверждали, что язык, на котором заговорила Эстер, не еврейский, не арамейский и не один из всех остальных языков, которые она могла слышать в Черновцах. Языки смерти живым неведомы, и все они различны. Для каждого человека свой. Примерно так сказал раввин охваченному ужасом Томашу, который не смог его слов ни понять, ни даже просто точно запомнить.
Потом она металась по постели, плакала, порвала на себе рубашку и вдруг, с обнаженной грудью, взлетела в небо.
На миг больничная кровать осталась пустой. На месте, где она только что лежала, была видна примятость от ее тела. Томаш обернулся позвать врача, ведь произошло чудо, его жена исчезла, но еще раз бросив взгляд на постель, увидел, что тело снова там, вот только Эстер в нем больше не было. Это был труп чужой, незнакомой женщины, чья нагота казалась какой-то постыдной.
Он прикрыл ее с чувством отвращения.
Он не понимал, что делать дальше. Он был уверен, что виноват в смерти жены.
Томаш остался один, с плодом своей любви к красавице Эстер, который четверо крестьян несли сейчас в носилках, накрытых белой марлей не потому, что отец его прятал, а потому что боялся, как бы ребенка не искусали известные на всю империю Габсбургов кровожадные далматинские комары.
Давиду Яну Мерошевскому, таким было полное имя мальчика, исполнилось уже восемь лет, и он был болен костным туберкулезом.
Болезнь дала о себе знать неожиданно, когда ему было три года. Он играл с заводной игрушкой, клоуном, которого отец купил ему во время поездки в Вену. Клоун шагал по коридору, Давид следовал за ним. Клоун шагнул на верхнюю ступеньку лестницы, мать рванулась схватить мальчика, но было поздно.
Тот кубарем скатился по лестнице и засмеялся, посмотрев на них снизу. В этой картине было нечто ангельское, нечто болезненно сентиментальное.
Приключись такое со взрослым, он сломал бы себе шею, живым бы не остался, но дети умеют падать. Эта способность с возрастом теряется, но сейчас все обошлось, утешали себя родители. И были счастливы, благодарили Бога.
Мать в тот же вечер внимательно его осмотрела, но не нашла ни одного синяка. Только небольшую шишку на левой голени.
Эта шишка в следующие недели и месяцы начала увеличиваться, а потом тело мальчика постепенно стало деформироваться, как забытая возле печки восковая кукла, а врачи безуспешно уверяли их, что появление болезни не связано с падением. Вину, не говоря об этом вслух, супруги справедливо распределили между собой: он купил заводного клоуна, она не успела схватить мальчика на верхней ступеньке.
После смерти жены вина Томаша Мерошевского возросла. Хенрик Миллер, старик, что шел в конце колонны, был частным учителем Давида. Девушка по имени Ружа ухаживала за мальчиком. Они, вместе с матерью и отцом, были единственными людьми, близко знакомыми Давиду, с ними он дружил и знал все об их чувствах, надеждах и страхах. Он был умен, как бывают умны дети, о которых известно, что долго они не проживут. И весь его ум был направлен на них. Он думал об их поступках и чувствах, беспокоился об их жизнях, причем настолько, что в некотором смысле жил ими и сам.
Когда Ружа каждой весной и ранней осенью ездила в деревню, к своим, где оставалась на две или три недели, Давид мысленно отправлялся туда вместе с ней. Он заботился обо всем: вместе с Ружей на центральном вокзале покупал билет, обязательно в оба конца, ведь так дешевле, вел ее к первому за локомотивом вагону, потому что в этом вагоне никогда нет ни пьяных, ни карманников, ни подозрительных бездельников, одни только спокойные, семейные люди. Его интересовало, что скажет Ружа каждой из шести своих незамужних сестер, поцелует ли руку отцу, кузнецу Даниэлу Рошаку. Поцелует, если отец в тот день будет трезвым. И не сделает этого, если он пьян. Так его Ружа наказывала. Если он пьян, на следующий день отведет его на кладбище, где они вместе встанут на колени перед могилой матери. Если встретит ее трезвым, она распахнет все окна в доме, вынесет проветриться все перины и подушки, зажарит гуся с картошкой, и все они снова почувствуют себя одной семьей… Давид следил за каждым ее шагом. В его голове развивалось действие всей жизни Ружи, к которому он добавлял все, что она ему рассказывала или даже просто упоминала или что он узнавал, подслушивал ее разговоры с учителем Хенриком, или с отцом, которые происходили обычно за закрытыми кухонными дверями, через матовое стекло которых смутно виделись их фигуры, и сам выдумывал слова и фразы, которые упустил из-за того, что разговаривали они тихо.
Как-то раз отец сказал Руже и Хенрику о своем страхе: он боится, что мальчику осталось недолго.
Давид слышал это, но не понял, что значит – осталось недолго.
Ружа расплакалась.
Пан Хенрик спросил отца: «Что же тогда будет с нами?» Мальчик почувствовал собственную важность, хотя по-прежнему не понимал, о чем говорит отец и почему плачет Ружа.
Но запомнил произошедшее как что-то хорошее и приятное. Неожиданно он оказался в центре внимания, поэтому ему следовало быть серьезным.
На следующее утро ему показалось, что он со вчерашнего вечера вырос и что все они, трое, видят в нем взрослого человека, которого ждет какое-то важное и ответственное дело.
Когда несколько месяцев спустя он понял, что имелось в виду под словами, что ему осталось недолго, он удивился слезам Ружи, общему отчаянию и истерическому настроению, воцарившемуся в доме. Он не понимал, почему кому-то кажется важной продолжительность его жизни. И не только почему она важна им, но и почему она должна быть важна ему? Когда он умрет, все найдут себе какие-то другие занятия. А ему, мертвому, это безразлично, потому что его больше не будет, он станет жить на страницах Святого Писания.
Ружа и Хенрик видели в Давиде мальчика такого же, как и все остальные дети. Как если бы у него впереди была жизнь и долгая история жизни, жена и дети, профессия и положение в обществе, в конце концов, возможно, и трагическая жертва на благо отечества. Они боялись за него так, как боятся за всех здоровых детей, стоящих перед глубокой, мрачной пропастью будущего.
Так им было легче. Невозможно смотреть на ребенка и видеть пустое лицо смерти. Вместо того чтобы жить в соответствии с тем, что вскоре должно было произойти, но все-таки пока еще не произошло, Ружа и Хенрик, казалось, играли в игру. В их игре не было ничего связанного с реальностью. Он учил Давида французскому, словно в один прекрасный день Давид поедет в Париж, или будет изучать медицину и литературу, или однажды встретит молодого Шопена, своего земляка, и будет разговаривать с ним на языке свободы.
Старик играл так же, как играл и мальчик, и в этой игре они помогали друг другу.
Единственным, кто не играл, был отец, профессор Томаш Мерошевски. Он ждал, когда истечет оставшееся время.
И неожиданно решил, что завтра они отправятся на юг. Ждать больше нечего, состояние мальчика все хуже и хуже, и, хотя от его болезни лекарства нет, они поедут туда, где тепло и где морской воздух облегчает любое страдание и боль.
«Ему будет легче дожидаться смерти там, где вокруг виноградники и пахнет базиликом, чем на земле, которая родит одну картошку!» – сказал он им перед отъездом.
Давид был в восторге, узнав о грядущем первом в его жизни и столь грандиозном приключении.
Он подпрыгивал в кресле, отдавал Руже распоряжения о том, что она должна упаковать, и лишь на миг ему пришло в голову, что, может быть, он и не вернется в Краков, в эту комнату, в это кресло. Он почувствовал легкую и мимолетную грусть. Она охватила его как мгновенный озноб. Давид вздрогнул, но грусть больше не возвращалась. Однако он ее не забыл.
Глупо было оглядываться по сторонам и прощаться с домом.
Когда Ружа предложила, просто для развлечения, прокатить его по всем комнатам дома и даже заглянуть в ту единственную, куда заходить было запрещено, потому что там отец хранил свои чертежи и бумаги и там жил страшный Баш-Челик, историю о котором ему, еще совсем маленькому, рассказал пан Хенрик, желая напугать мальчика и отбить у него желание туда попасть, а он после этого то и дело требовал, чтобы ему рассказывали ее снова и снова и разрешали хотя бы побыть перед дверью в недоступную комнату, Давид от предложения Ружи с улыбкой отказался, и это была улыбка, с какой взрослые отказывают детям в исполнении их желаний или в требованиях поиграть в неподходящий момент. И Ружа почувствовала стыд.
До Загреба они ехали поездом.
Томаш Мерошевски заплатил за отдельный вагон, так что их путешествие было удобным, однако, к разочарованию мальчика, без каких бы то ни было волнующих событий.
Как и каждый день, с утра пан Хенрик обучал его математике, потом французскому и географии, затем они читали Сенкевича, «В пустыне и в пуще», после чего Ружа накрывала на стол. Даже стол был большим, дубовым, похожим на тот, что остался у них дома. Давиду нравились маленькие складные столики, какие обычно берут на пикники или рыбную ловлю. Ни одного такого столика в их краковском доме не было. И он не был знаком ни с кем, кто бывал на пикниках или рыбалке.
Единственным отличием от дома и повседневной краковской жизни мальчика было то, что в окне он видел не крыши соседних домов, церковную колокольню и теряющуюся в тумане Вислу, а проносящиеся, как в фильме, картинки мира гораздо большего, чем тот, который был знаком Давиду. И это отвлекало его внимание от изучения математики. Он понял, что люди намного мельче, чем все, что их окружает. И ему было странно, что раньше он этого не замечал.
Хотя из книг и киножурналов он знал, что каждый миг в мире происходит невообразимо много самых разных событий, таких, о которых он что-то мог знать или догадываться или о которых во время занятий говорил ему пан Хенрик, событий, которые он себе представлял и которые случались в его снах, в его ночных и дневных кошмарах, когда у него начинались приступы жара и когда все, кроме него, считали, что он умирает, то, что он видел за окном поезда направлявшегося в Вену, где только один их вагон прицепят к составу на Загреб, превосходило все его знания и ожидания.
Мир оказался огромным, широким и волнующим. Ему было жаль, что он не знал этого раньше, не осознавал его пестроты и размаха.
Люди, которых он видел за окном, были озабочены, он знал это, они боялись, как бы у них неожиданно что-то не заболело, или как бы им, точно так же неожиданно, не умереть во сне, или не упасть с коня и не свернуть шею, или как бы поезд, в котором они едут, не сошел с рельсов, не рухнул в ущелье, а они не утонули в глубокой реке… Он представлял себе все, чего только могли бояться люди.
Давид не боялся ничего, ни боли, ни смерти, и у него было преимущество перед ними. Их жизни были мелкими и несчастными, они дрожали над ними, как осужденные, которых наутро должны гильотинировать, а он жил, не раздумывая о том, сколько ему еще осталось и встреча с каким злом ждет его, может быть, совсем скоро. Когда он заставлял себя думать об этом, чтобы, может быть, таким способом понять, каково им, он ощущал безразличие и, уж во всяком случае, представляя себе собственную или чью бы то ни было смерть, не чувствовал, что ему страшно.
Между собственной жизнью и смертью он не видел никакого несоответствия или причины затягивать что-то одно в пользу другого. Со всякой болью он был знаком не понаслышке и принимал ее так же, как принимают смену дня и ночи. Его не волновало, что никогда ему больше не видеть картин, которые вот сейчас у него перед глазами. Он не мучился от ужаса, что за смертью не последует ничего. Смирившийся с любой болью, он не чувствовал никакого страха, да и вообще ничего, что пугало бы его и о чем следовало бы задуматься.
Боль будет, она придет, так же как придет она и к людям, которые сейчас умирают от страха, в то время как он, сосредоточенный и более взрослый, чем они, смотрит на них в окно. Ему было жаль, что промелькнувшие и исчезнувшие за окнами несущегося на всех парах поезда, не оловянные солдатики, с которыми можно было бы поиграть.
Проснулся он в тот момент, когда состав подплывал к перрону люблянского железнодорожного вокзала.
Его напугало лицо широко улыбающегося усатого цыгана, который шел вдоль вагонов от окна к окну, предлагая пассажирам лимонад и соленые семечки. Когда Давид открыл глаза, это лицо было единственным, что он увидел, что теперь существовало на свете и в его памяти.
Мальчик расплакался, а человек за окном, увидев детские слезы, заулыбался шире, надеясь, что так он будет выглядеть более добродушным, и тогда отец, который уже стоял, склонившись к ребенку, откроет окно и купит что-нибудь с лотка, который цыган носил на ремне на шее. Из-за его тяжести он был вынужден ходить пригнувшись, отчего казался похожим на ветхозаветного раба.
Отец подумал, что было бы по-христиански купить что-нибудь у этого человека и таким образом несколько облегчить его страдания.
– Сатана! – сказал Давид, когда живой и оставшийся в его памяти мир постепенно возник из небытия и распростерся вокруг головы цыгана, и все снова стало понятно, знакомо и больше не было причин для слез.
– Никакой не сатана, просто это юг. Мы добрались до юга, люди здесь горячие и уверенные в себе. Не такие, как у нас, – сказал отец и погладил его по голове. Всякий раз, когда ему приходилось разговаривать с мальчиком на столь серьезные темы, он чувствовал гордость. И забывал тогда о болезни Давида и о том, что тому осталось недолго.
– Любляна, – вздохнул пан Хенрик, – в Любляне несчастный Густав Малер дирижировал в Опере.