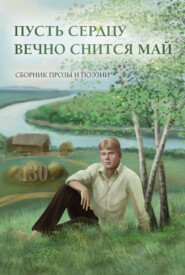По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Улица Некрасова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Доброе, – говорит она. – Только без вашей физиономии. Сегодня, – говорит, – день детей. Поэтому сегодня не наливаем. Если хотите выпить, к Люське идите, в «Три-тополя-на-Радищева».
– Спасибо, – я ей сказал и пошел в «Три-тополя-на-Радищева».
Думаю, успею я на работу. Помойки жечь – не велика сила. Ума не надо, Борька на это есть.
Зашел к Люське. К стойке подхожу, как убогий. Нога что-то ходить не хочет. Вчера левая, а сегодня правая. Завтра вдруг как обе откажут?
– Люся, – Люське я говорю, – а налей мне, Люся, Людмила Павловна, моей любимой водочки «Антрацитовой» двести граммов. Чтобы до работы дойти.
– Какая с тебя работа, – говорит мне Люсечка Павловна, – если ваши все братаются массово возле памятника на углу Некрасова с Маяковского.
– Наши? Какие наши? – я говорю Людмиле. – И массово – это как?
Сам думаю: «Борька – раз, поджигатель. Гоша Бодунов – два, начальник болезный наш. Галка, Гошкина секретарша, – ей-то с кем там брататься? Она с начальником, Бодуновым Гошкой, столько уже браталась-перебраталась, что чуть контору не спалили на Пасху, зажегши свечи эти свои бенгальские перед иконой Христа-Спасителя, христопродавцы бесовы. Сельпо, он у нас за связь с общественностью отвечает – на телефоне сидит. Мочало Синее – телохранитель наш. Ну не массово ж, ешкин-кошкин. Шестеро, включая меня».
– Какие? Знамо какие – все алкаши некрасовские. Массово как? Не знаю. Сама не видела, у меня работа. Налила уже твою «Антрацитовую». Закусь надо?
– Тобой занюхаю.
По Радищева иду до конторы. Ноги легкие – идут, как бегут. Расходились левая с правою после «Антрацитовой»-то. На работе висит замок. Надпись криворукая рядом с дверью: «Все ушли на братание». И подписано «Г. А. Бодунов». Бодунов, вот где ты, начальничек. Не напрасно, значит, Люська мне говорила. По масштабам нашей конторы – массово. Раз замок.
Ладно, на братание так на братание. Если уж Бодунов братается, нам-то, мелким, сам Вельзевул велел.
По пути захожу на Мальцевский. Там, внутри, за рядами с мясом есть такой павильончик тихий, баба Зоя его заведующая.
– Дай мне, – говорю, – баба Зоя, как всегда, ну ты понимаешь.
Это значит сто пятьдесят с прицепом. В качестве прицепа – пивко. На братание все-таки собираюсь, не в баню, не куда бы, не в поликлинику.
Сегодня что-то с бабой Зоей не то. С похмела она, что ли, или болеет? Хочет вынуть из стопки пластиковый стаканчик, а они не то слиплись, не то срослись, и она, бедная баба Зоя, и так пробует достать, и по-всякому, палец внутрь засунула с ногтем синим, которым перед этим деньги считала, тот скользит по внутренней стенке, а стаканчик, ёптить, не вынимается. Тогда она облизнула палец, чтобы трение было больше, и после этого только, умница, отслоила мой стакан от соседнего.
Короче, выпил, перед тем как брататься. Пивком угар водочный пригасил. Ноги пересчитал – на месте.
– Извиняюсь, – вдруг слышу голос, – к вам Замутилов не заходил?
Хмырь какой-то вислоухий интересуется. У бабы Зои, слава богу, не у меня.
– А ты вон у того спроси, – говорит ему баба Зоя. – Замутиловы не по моей части.
Типа на меня сбила стрелку.
– Замутилов, – говорю, – это да. А вы, – (я к незнакомым на «вы»), – вообще-то говоря, кем являетесь?
– Я – Ешпеев, Исаак Соломонович.
– Здрасьте, – говорю я ему. – Черту оседлости, значит, переступили? Водку будешь? Баба Зоя, налей.
Наливает нам баба Зоя водки. Ей-то что – еврей, не еврей, главное, чтобы стаканы не уносили.
– Ну, рассказывай, – говорю я Ешпееву, – почему ты, Исаак Соломонович, к моему товарищу подбираешься? И с какой такой, интересно, целью? В Моссад свой, что ли, завербовать?
Я, если говорить честно, ни сном ни духом, кто такой Замутилов, но, когда я недостаточно выпивши, из меня любопытство прет. Вот и теперь поперло.
– Я, – говорит Ешпеев, – обязан этому человеку многим. – Он достал серебряный портсигар, раскрыл его полущелчком кнопочки, вынул из таинственного нутра невероятно длинную папиросу, пожевал зубами ее мундштук, вынул изо рта, обтряс о фарфоровый край пепельницы, снова сунул в рот и зажег. Зажигалкой, усыпанной блестками, подозрительно похожими на бриллианты.
Я отметил молча: «Эге!» – оценив его зажигалочку.
– Эй, едрена мать, там, за столиком! Раз еврей, то и кури где ни попадя? – осадила Ешпеева баба Зоя.
– Извините. – Исаак Соломонович извинился и культурно загасил папиросу, плюнув предварительно в пепельницу. – Пройдем на воздух, вы как, не против? – показал он мне на выход из заведения.
Я был не против. Вышли на Фонтанную улицу.
– Замутилов, не представляете, какой он был человек… – Ешпеев придернул веко – левое, затем правое.
Жилки на них, как реки на старой карте СССР, текли в моря его глаз.
– Был? – Старого барбизона, каким представлял я себя всегда, нисколько не заскорузлило это его придергивание жилистых, слезоточивых обвечий. Мошенников я вижу насквозь.
– Есть то есть, оговорился. – Исаак Соломонович улыбнулся. – Жив, здоров, вам того же желаю. На братание не идете, кстати?
– В связи с чем, – сказал я, – братание? – Чтобы выяснить дополнительные подробности.
– Как, коллега? – («Почему я ему коллега?») – Вы, правда, не в курсе дела? Вам Замутилов не говорил?
– Мне сегодня в метро сказали. Официально, не тет-а-тет.
– Да, конечно, ай-яй, я понял. Боре я Вишневскому доложил, он сказал, что в средствах массовой информации о братании отметят особо. Замутилов…
Он не закончил. Подскочил коротенький человечек с табуреткой в хватких руках.
– Замутилов, – он крикнул, – где Замутилов?
– На братании, – сказал ему я, чтобы подчеркнуть свою значимость.
Тот поставил табуретку на землю, на уличный октябрьский асфальт, сел на нее седалищем и хмуро уставился на меня.
– Мефистофелю ты морду отбил? – спросил он, дырявя мой фейс глазницами.
– Какому, – не понял я, – Мефистофелю?
Я и вправду не понял.
– Какому? – Человечек схмурился еще больше. – Скажи ему, Ешпеев, какому.
– Есть сведения, что сегодня ночью с помощью молотка и зубила сбили с дома на Лахтинской улице рельефное изображение Мефистофеля. По заданию православной церкви.
Эти двое мне не понравились.
– Спасибо, – я ей сказал и пошел в «Три-тополя-на-Радищева».
Думаю, успею я на работу. Помойки жечь – не велика сила. Ума не надо, Борька на это есть.
Зашел к Люське. К стойке подхожу, как убогий. Нога что-то ходить не хочет. Вчера левая, а сегодня правая. Завтра вдруг как обе откажут?
– Люся, – Люське я говорю, – а налей мне, Люся, Людмила Павловна, моей любимой водочки «Антрацитовой» двести граммов. Чтобы до работы дойти.
– Какая с тебя работа, – говорит мне Люсечка Павловна, – если ваши все братаются массово возле памятника на углу Некрасова с Маяковского.
– Наши? Какие наши? – я говорю Людмиле. – И массово – это как?
Сам думаю: «Борька – раз, поджигатель. Гоша Бодунов – два, начальник болезный наш. Галка, Гошкина секретарша, – ей-то с кем там брататься? Она с начальником, Бодуновым Гошкой, столько уже браталась-перебраталась, что чуть контору не спалили на Пасху, зажегши свечи эти свои бенгальские перед иконой Христа-Спасителя, христопродавцы бесовы. Сельпо, он у нас за связь с общественностью отвечает – на телефоне сидит. Мочало Синее – телохранитель наш. Ну не массово ж, ешкин-кошкин. Шестеро, включая меня».
– Какие? Знамо какие – все алкаши некрасовские. Массово как? Не знаю. Сама не видела, у меня работа. Налила уже твою «Антрацитовую». Закусь надо?
– Тобой занюхаю.
По Радищева иду до конторы. Ноги легкие – идут, как бегут. Расходились левая с правою после «Антрацитовой»-то. На работе висит замок. Надпись криворукая рядом с дверью: «Все ушли на братание». И подписано «Г. А. Бодунов». Бодунов, вот где ты, начальничек. Не напрасно, значит, Люська мне говорила. По масштабам нашей конторы – массово. Раз замок.
Ладно, на братание так на братание. Если уж Бодунов братается, нам-то, мелким, сам Вельзевул велел.
По пути захожу на Мальцевский. Там, внутри, за рядами с мясом есть такой павильончик тихий, баба Зоя его заведующая.
– Дай мне, – говорю, – баба Зоя, как всегда, ну ты понимаешь.
Это значит сто пятьдесят с прицепом. В качестве прицепа – пивко. На братание все-таки собираюсь, не в баню, не куда бы, не в поликлинику.
Сегодня что-то с бабой Зоей не то. С похмела она, что ли, или болеет? Хочет вынуть из стопки пластиковый стаканчик, а они не то слиплись, не то срослись, и она, бедная баба Зоя, и так пробует достать, и по-всякому, палец внутрь засунула с ногтем синим, которым перед этим деньги считала, тот скользит по внутренней стенке, а стаканчик, ёптить, не вынимается. Тогда она облизнула палец, чтобы трение было больше, и после этого только, умница, отслоила мой стакан от соседнего.
Короче, выпил, перед тем как брататься. Пивком угар водочный пригасил. Ноги пересчитал – на месте.
– Извиняюсь, – вдруг слышу голос, – к вам Замутилов не заходил?
Хмырь какой-то вислоухий интересуется. У бабы Зои, слава богу, не у меня.
– А ты вон у того спроси, – говорит ему баба Зоя. – Замутиловы не по моей части.
Типа на меня сбила стрелку.
– Замутилов, – говорю, – это да. А вы, – (я к незнакомым на «вы»), – вообще-то говоря, кем являетесь?
– Я – Ешпеев, Исаак Соломонович.
– Здрасьте, – говорю я ему. – Черту оседлости, значит, переступили? Водку будешь? Баба Зоя, налей.
Наливает нам баба Зоя водки. Ей-то что – еврей, не еврей, главное, чтобы стаканы не уносили.
– Ну, рассказывай, – говорю я Ешпееву, – почему ты, Исаак Соломонович, к моему товарищу подбираешься? И с какой такой, интересно, целью? В Моссад свой, что ли, завербовать?
Я, если говорить честно, ни сном ни духом, кто такой Замутилов, но, когда я недостаточно выпивши, из меня любопытство прет. Вот и теперь поперло.
– Я, – говорит Ешпеев, – обязан этому человеку многим. – Он достал серебряный портсигар, раскрыл его полущелчком кнопочки, вынул из таинственного нутра невероятно длинную папиросу, пожевал зубами ее мундштук, вынул изо рта, обтряс о фарфоровый край пепельницы, снова сунул в рот и зажег. Зажигалкой, усыпанной блестками, подозрительно похожими на бриллианты.
Я отметил молча: «Эге!» – оценив его зажигалочку.
– Эй, едрена мать, там, за столиком! Раз еврей, то и кури где ни попадя? – осадила Ешпеева баба Зоя.
– Извините. – Исаак Соломонович извинился и культурно загасил папиросу, плюнув предварительно в пепельницу. – Пройдем на воздух, вы как, не против? – показал он мне на выход из заведения.
Я был не против. Вышли на Фонтанную улицу.
– Замутилов, не представляете, какой он был человек… – Ешпеев придернул веко – левое, затем правое.
Жилки на них, как реки на старой карте СССР, текли в моря его глаз.
– Был? – Старого барбизона, каким представлял я себя всегда, нисколько не заскорузлило это его придергивание жилистых, слезоточивых обвечий. Мошенников я вижу насквозь.
– Есть то есть, оговорился. – Исаак Соломонович улыбнулся. – Жив, здоров, вам того же желаю. На братание не идете, кстати?
– В связи с чем, – сказал я, – братание? – Чтобы выяснить дополнительные подробности.
– Как, коллега? – («Почему я ему коллега?») – Вы, правда, не в курсе дела? Вам Замутилов не говорил?
– Мне сегодня в метро сказали. Официально, не тет-а-тет.
– Да, конечно, ай-яй, я понял. Боре я Вишневскому доложил, он сказал, что в средствах массовой информации о братании отметят особо. Замутилов…
Он не закончил. Подскочил коротенький человечек с табуреткой в хватких руках.
– Замутилов, – он крикнул, – где Замутилов?
– На братании, – сказал ему я, чтобы подчеркнуть свою значимость.
Тот поставил табуретку на землю, на уличный октябрьский асфальт, сел на нее седалищем и хмуро уставился на меня.
– Мефистофелю ты морду отбил? – спросил он, дырявя мой фейс глазницами.
– Какому, – не понял я, – Мефистофелю?
Я и вправду не понял.
– Какому? – Человечек схмурился еще больше. – Скажи ему, Ешпеев, какому.
– Есть сведения, что сегодня ночью с помощью молотка и зубила сбили с дома на Лахтинской улице рельефное изображение Мефистофеля. По заданию православной церкви.
Эти двое мне не понравились.