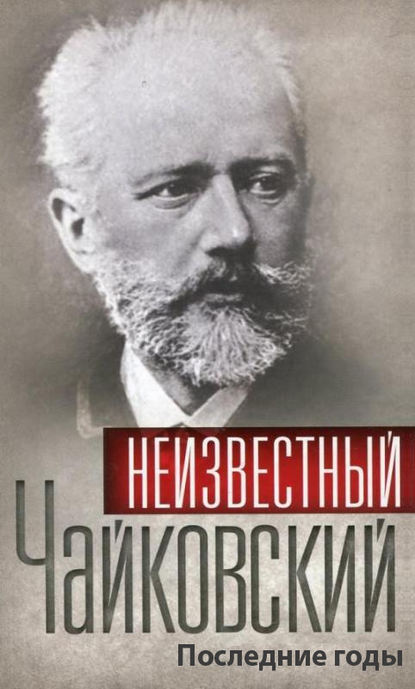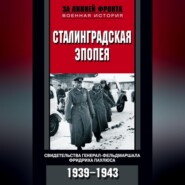По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неизвестный Чайковский. Последние годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
9 февраля состоялся второй концерт в помещении оперного театра. Программа его состояла из: 1) серенады для смычковых инструментов; 2) вариаций из сюиты № 3; 3) фортепианного соло в исполнении Зилоти и 4) увертюры «1812». В заключение был исполнен балетной труппой пражской оперы акт из балета «Лебединое озеро». Овации были еще горячее и задушевнее, чем на первом концерте, подношения еще роскошнее. В дневнике своем Петр Ильич, говоря об этом концерте, отмечает: «Огромный успех. Минута абсолютного счастья. Но только минута!» После концерта был торжественный ужин, в котором почти исключительно принимали участие музыканты.
10 февраля, вечером, сопровождаемый напутственными речами, усыпанный цветами, Петр Ильич покинул гостеприимную Прагу.
В описании этих торжественнейших и самых блестящих десяти дней жизни Петра Ильича я ограничиваюсь этим сухим перечнем, не приводя ни речей, ни статей по адресу гостя, потому что задушевность, даже при красоте и талантливости, изощряясь на возвеличение и хвалу в минуты увлечения, – имеет значение, прелесть и долговечность цветов, усыпающих путь триумфатора. Благоуханные искренностью и прекрасные уместностью в данную минуту, все эти слова, потраченные на прославление Петра Ильича, взору спокойного читателя покажутся сухими, бессодержательными и однообразными. К тому же, как отлично понимал сам Петр Ильич, значение национальных симпатий здесь отодвигало на задний план чисто артистическое, которое нам наиболее интересно.
Хотя главная цель поездки Петра Ильича за границу была – познакомить Европу со своими произведениями, содействуя их распространению за пределами родины, но при этом, несомненно, хотя в значительно меньшей мере, – узнать воочию степень уже достигнутой им там известности и получить соответствующую дань почета. Мнительный и скромный в этом отношении, он не требовал многого, и даже то, что встретил в Германии, уже значительно превосходило его ожидания, но пражские чествования превзошли самые фантастические представления о том, что он мог найти в Европе. Эти десять дней составляют высшую точку земной славы, которой Петру Ильичу суждено было достигнуть при жизни. Пусть девять десятых встреченных им оваций относились не к нему, а к России, но самый факт, одно то, что именно он, а никто другой был признан достойным сосредоточить в себе те симпатии, которые чехи питают к русским, льстило его самолюбию, показывая, как известно его творчество. Льстило его самолюбию и то, что чествовал его так народ, по любви, по уровню развития массы, по исполнительским дарованиям самый музыкальный в мире, а более всего, что Прага, первая признавшая гениальное значение Моцарта, одна воздавшая ему при жизни должное, хоть в чем-нибудь сроднила судьбу его, Петра Ильича, с судьбой немецкого гения. Отрадно было Петру Ильичу, что те, кто дал ему «минуту абсолютного счастья», были потомки людей, давших изведать сладость земной славы его любимцу, учителю, образцу всех достоинств артиста и человека. И это неожиданное совпадение было, может быть, лестнее всего, что когда-либо получал Петр Ильич при жизни, это была высшая из высших наград, на которую он когда-либо смел рассчитывать.
Изведав высочайший момент своей славы, Петр Ильич изведал и одну из тягчайших обид. Русская пресса ни одним словом не промолвилась о пражских чествованиях русского композитора. Ему чудилось в этом глухое недоброжелательство и тем более удивляло и огорчало, что, будучи, несомненно, одним из важнейших событий его жизни, все эти торжества были также событием и для чехов. Много лиц, подолгу, десятками лет жившие в Праге, говорили ему, что не видали подобного чествования какого-либо иностранца. И вот, сознавая какую огромную долю восторженных приветствий он должен был уступить России вообще, Петру Ильичу было больно и обидно, что она этого не знает и что из-за отношения прессы к его личности выражения горячих и искренних симпатий чехов к русским не только остаются без ответа, но даже не дошли до них.
К А. Чайковскому
Прага. 10 февраля 1888 года.
Голубчики мои Толя и Паня, я провел здесь 10 дней и не писал ни единого письма, ибо никакой возможности не было. Я пишу дневник и впоследствии могу рассказать подробно все, что со мной случилось за это время, но описать не могу. Меня встречали здесь как какого-то представителя всей России. Встреча в первый день была грандиозная. С тех пор все мое пребывание было вереницей всяких празднеств, торжеств, осмотров достопримечательностей, серенад, репетиций, концертов и т. д. Я нашел много чехов, говорящих по-русски. Меня с утра до вечера угощали, возили, всячески ласкали и баловали. Самые концерты (их было два) имели колоссальный успех. Вчерашний концерт был в театре, и по окончании его давался превосходно обставленный 2-ой акт «Лебединого озера». Я оказался оратором, сказавшим не только множество ответных речей на всех праздниках, дававшихся в мою честь, но даже на большом банкете прочел длинную речь по-чешски к великой радости присутствовавших. Всего не перескажешь в коротеньком письме. Усталость моя превосходит всякое вероятие, и я не понимаю, откуда у меня берутся силы выдерживать все это. Сегодня еду в Париж. Все время здесь был со мной Зилоти, и за 2 дня до 1-го концерта приехал Юргенсон. Оба они сейчас уехали, а я сел за письма, которых мне нужно написать так много, что для каждого хватит лишь маленького листочка. Я мечтаю, что в неотдаленном будущем увижу вас. Господи, когда же настанет спокойствие?! Однако я должен признаться, что в Праге испытал много чудных минут.
III
Совсем другого рода овации ожидали Петра Ильича в Париже.
Здесь тоже успех его превзошел самые смелые предположения. Здесь тоже с утра до ночи, но еще в течение втрое большого времени, Петр Ильич был предметом самых лестных выражений сочувствия. Но характер их так же разнствовал с чешским, как разнствуют чех и француз в своих отношениях и к самой музыке, и к русскому народу. Чех любит и то, и другое несравненно глубже; и то, и другое в жизни его играет роль несравненно более значительную. Нет страны, где бы музыкальное искусство было более ценимо и распространено. Нет также и народа, где бы все русское встречало более сочувствия не в силу временных веяний, а в силу кровного родства с нами. Поэтому и как музыкант, и как русский Петр Ильич встретил там искренность и непосредственность симпатий, какой нельзя было ожидать от французов. Правда, некоторая доза политического оттенка примешивалась и к парижским торжествам. Это было время разгара франко-русского сближения, и все русское было уже модно. Многие совершенно чуждые музыкальному искусству французы считали долгом заявить свое сочувствие Петру Ильичу потолику, поколику он русский – но все это, как и самые симпатии французов к нам, не покоилось на прочном основании национального сродства, а эфемерной политической комбинации выгод двух могущественных держав. Вследствие чего выразителем хотя бурного и страстного, но непрочного увлечения всем русским могли быть шляпы «Kronstadt», галстуки «franco-russe», овации клоуну Дурову, пение «Боже царя храни» рядом с марсельезой, пожалуй, – интерес «свысока», как к курьезу, к нашей литературе и искусству, но отнюдь не радостная встреча двух национальностей на почве одинаковых, сродных симпатий и стремлений ввысь и вглубь. И результатом кронштадтских, тулонских, парижских и какие там еще были торжеств не могли явиться понимание и любовь к Пушкину, Гоголю и Островскому, к Глинке, Даргомыжскому и Серову, а только проходящая мода, благодаря которой Л. Толстой и Достоевский были до известной степени оценены, но далеко не поняты во всем их настоящем величии. Моден был и Петр Ильич, и это сообщило приему его парижанами большой блеск, но блеск чисто внешний; того отзвука своим творениям, который придал такую теплоту и искренность пражским овациям, здесь он не нашел.
К тому же, торжества в честь композитора – событие для небольшой столицы небольшой страны, как Богемия, – не могли быть таковыми для многомиллионной столицы мира, волнуемой сотнями интересов и забот несравненно значительнейших. Можно без преувеличения сказать: вся Прага приветствовала Петра Ильича; в Париже – музыканты, музыкальные дилетанты, соотечественники, газеты, увлеченные франко-русскими веяниями, и та разношерстная толпа, которая следит за газетными новостями и рекламами.
Чтобы докончить сравнение пражских оваций в честь Петра Ильича, я укажу на последствия тех и других. Прошло 13 лет, и в Праге до сих пор оперы Петра Ильича не сходят с репертуара, и симфоническая музыка известна и любима, как в России. В Париже – он не только почти не исполняется совсем ни в театре, ни на концертных эстрадах, но даже имя его, в остальной Европе все более чтимое, не признано до сих пор достойным быть включенным в список авторов, допускаемых в концертах Парижской консерватории, а во главе ее стоят люди, расточавшие в 1888 году выражения своего сочувствия. Не объясняется ли это исключительно той глухой антипатией французов к русскому духу, которую Петр Ильич делит вместе как с великими предшественниками своего искусства, так и с представителями всего высокого и глубокого, что дала Россия?
Петр Ильич приехал в Париж 12 февраля и сразу окунулся в омут суетливого, почти постоянного общения с людьми. Чуть ли не прямо с вокзала ему пришлось присутствовать на репетиции своей струнной серенады, которую разучивал Колонн со своим оркестром для парадного вечера в доме Бенардаки и которой должен был дирижировать сам автор.
Н. Бенардаки, женатый на г-же Лейброк, сестре трех очень известных в России оперных артисток[19 - Старшая из них, под псевдонимом Михайловской, долго была лирическим сопрано Мариинского театра, вторая – контральто, под псевдонимом Михайловской 2-й, особенно была известна на провинциальных сценах, и третья, под именем Корбиель, наиболее талантливая, была очень популярна и в столицах, и в провинции как грациозная и симпатичная опереточная примадонна.], имел роскошный отель в Париже, где гостеприимно собирал весь цвет музыкально-артистического Парижа. В качестве соотечественника и музыкального мецената он первый дал сигнал к чествованиям Петра Ильича в Париже, устроив у себя музыкальный вечер с участием оркестра Колонна, своей супруги и свояченицы[20 - Тогда девица О. Лейброк, ныне супруга адмирала Скрыдлова.], пользовавшихся репутацией прекрасных салонных певиц, а затем таких первоклассных исполнителей, как братья Решке, Лассаль, Диемер, Тафанель и Брандуков. Кроме серенады для смычковых инструментов, на вечере этом Петр Ильич дирижировал еще Andante cantabile 1-го квартета и аккомпанировал всем солистам. И вот в хлопотах об этом вечере, в репетициях и оркестра, и отдельных исполнителей прошли первые дни пребывания в Париже. Сверх этого, по настояниям своего издателя, Маккара, игравшего роль Вергилия в мытарствах композитора, Петр Ильич должен был делать визиты выдающимся французским музыкантам и редакциям популярнейших газет в отплату за ту готовность рекламировать его приезд, которую они помимо его забот выказали.
Блистательный музыкальный вечер собрал более 300 приглашенных в салонах Бенардаки. Тут были все представители того tout Paris, перед которым благоговеют и артисты, и ценители всей Франции. Милостивое внимание, один факт присутствия, одобрительный шепот кучки этих пресыщенных и, в сущности, равнодушных ко всему прекрасному людей есть высшая награда, о которой грезят артисты всех стран, – патент на внимание не только Парижа, но всего привилегированного мира.
И Петр Ильич был искренно благодарен добрым хозяевам этого вечера за неожиданную и совершенно необходимую в условиях парижской жизни рекламу, которую они ему подарили. Содействовать успеху ее, бегать по квартирам исполнителей для репетиций отдельных номеров, благодарить их за внимание он считал необходимой оплатой за оказываемую ему услугу; выступить в качестве дирижера перед этим собранием несерьезных дилетантов, сплоченных, кстати сказать, несравненно в большей степени тщеславием, чем любовью к искусству, добиться их ленивого одобрения – он считал лестным и значительным. Но, зная, что это ему стоило несравненно большего утомления и хлопот, чем дебют перед таким настоящим, достойным его судом, как суд в лейпцигском Гевандгаузе, – невольно жалеешь даром потраченных сил и испытываешь чувство обиды за художническое достоинство нашего композитора. Когда видишь его, расстроенного, утомленного и, судя по дневнику, очень несчастного, среди чуждой толпы, в раздушенном салоне, среди блеска туалетов и бриллиантов архиизящных дам, расфранченных и безупречных фраков, завтра в том же составе долженствующих «консакрировать» успех новой шансонетной певицы или танцы Лои-Фюллер; – невольно сетуешь на судьбу, что она не оставила его в деревенской тиши, среди интимной, родной обстановки, здорового физически и морально, спокойного, бодрого, обдумывающего план нового творения. Слава Богу еще, что Петр Ильич, добровольно подвергая себя этой пытке, утешался мыслью, что «это нужно», и не дожил до настоящего времени, когда так ясно стало, что «этого вовсе не было нужно», ибо нигде путем больших жертв ради популярности своих произведений он не достиг меньших результатов, как в Париже.
Блеск этого дебюта удесятерил количество знакомств, а с ними приглашений и визитов. Те из парижских музыкальных светил, которых не было в Париже летом 1886 года, сошлись с Петром Ильичом теперь. И все, начиная с Гуно, Массне, Паладиля, Гиро, Жонсьера, Тома, выказывали тончайшую предупредительность и сочувствие. Очень холодно и величаво обошелся с ним только автор «Сипора» и «Саламбо», что весьма мало печалило Петра Ильича, ибо он, со своей стороны, считал ничтожным дарование этого господина, смешною – его тенденцию, совершенно непонятным – его успех, впрочем, не заходящий за пределы Франции. – Из виртуозов, которых Петр Ильич узнал в это время, больше всего впечатления на него произвел Падеревский: «великолепный пианист», говорит он о нем в своем дневнике. – Среди лиц, не имеющих касательство до музыки, более всего ему доставила удовольствие встреча с Каран-д-Ашем, которого он в последний раз видел в начале семидесятых годов в Москве мальчиком и теперь узнал знаменитостью Парижа.
Популярность музыки Чайковского дошла в Париже до того, что как раз во время пребывания там Петра Ильича появился роман[21 - «Le Froc» par Emile Goudeau, 1888. Paris. Ollendorff.], в котором большую роль играет романс «Нет, только тот, кто знал». Петр Ильич ужасно был польщен и шутя хвастался этим гораздо более, чем восторженнейшими отзывами музыкальной критики.
Почти каждый день в течение трех недель кто-нибудь чествовал нашего композитора обедом, завтраком, музыкальным вечером. Значительнейшими из таких домашних чествований следует отметить великолепный вечер с исполнением музыки Петра Ильича у Колонна, где был налицо весь музыкальный Париж; 1-го марта вечер у аристократической дилетантки, баронессы Тредерн, известной тем, что в ее роскошных салонах на Вандомской площади чуть ли не впервые в Париже исполнялась целиком музыка вагнеровской трилогии. По поводу вечера, данного этой дамой в его честь, Петр Ильич в дневнике лаконически отметил: «маркизы, дюшессы, скука». Русское посольство почтило гостя-соотечественника парадным обедом, Русский кружок – музыкальным вечером, Полина Виардо – обедом и вечером, композитор Видор – парадным завтраком. Чествование в зале Эрара пианистом Диемером носило характер почти публичный, так много народа собрало оно. На этом audition ученики чтимого парижского виртуоза исполняли, как Петр Ильич писал в своем дневнике, «штук до сорока» его фп. пьес. «Тронут, но устал», добавляет он к этому.
Полупубличный, получастный характер имело также торжество, устроенное редакцией «Фигаро» в своем помещении 14/2 марта. Оттенок франко-русских симпатий подчеркнут был тем, что кроме музыкальных номеров, исполненных братьями Решке, Марсиком, Тафанелем и Брандуковым, в программу вошло представление третьего акта «Власти тьмы», а в конце – дуэт из «La fille de M-me Angot», переданный неподражаемыми, единственными в своем роде Жюдик и Гранье.
Кроме концертов Шатле, о коих речь ниже, музыка Петра Ильича исполнялась публично также в вечере, данном камерным обществом «Trompette». Здесь был сыгран 1-й квартет, фортепианная фантазия (на двух роялях Диемером и автором) и много сольных номеров – Брандуковым, Жироде и г-жой Енох.
Перед большой, настоящей публикой Петр Ильич в качестве композитора-дирижера выступил два раз в концертах Шатле. В первом из них лишь половина программы была предоставлена ему. По количеству сочинений эта половина, однако, стоила целого симфонического концерта в России или Германии. Она заключала в себе: 1) Серенаду для смычковых инструментов. 2) Фортепианную фантазию в исполнении Луи Диемера. 3) Пение романсов – г-жа Конно. 4) Виолончельные пьесы – г. Брандуков и 5) Тему с вариациями 3-й сюиты.
При появлении на эстраде Петр Ильич был приветствуем громом рукоплесканий, из которых большая часть относилась не к нему лично, ибо для преобладающего большинства он все-таки был незнакомцем, а к его народности. Таково, по крайней мере, было убеждение и самого Петра Ильича, и некоторых журналистов в отзывах об концерте. Как бы то ни было, но теплота этого приема очень благоприятно отозвалась на исполнении, сразу утишив волнения дирижера и внушив ему уверенность и самообладание. Наибольший успех из оркестровых вещей имел вальс из серенады, повторенный по требованию публики. Меньше всего, как и следовало ожидать, понравилась фп. фантазия. После вариаций и финала 3-й сюиты аплодисменты были единодушны и восторженны, на этот раз, кажется, более относясь к произведениям композитора, чем к его национальности. В общем – успех был большой и искренний.
Во втором концерте, через неделю, уже почти вся программа состояла из произведений Петра Ильича, только в начале Колонн исполнил увертюру Берлиоза. Она заключала в себе повторение вариаций 3-й сюиты, отрывки из струнной серенады (вальс и элегия), виолончельные пьесы в исполнении Брандукова и, кроме того, скрипичный концерт, сыгранный Марсиком, «Франческу да Римини», романсы (певец Жироде) и фп. соло (Л. Диемер).
Успех и на этот раз был такой же громкий и блестящий. Не понравилась сравнительно только «Франческа».
Несмотря на большое впечатление в зале, на искренность и непосредственность знаков одобрения публики, в прессе по поводу этих концертов чувствовалось разочарование.
Когда дело шло о салонных исполнениях у Бенардаки, у Колонна, в редакции «Фигаро», у г-жи де Тредерн, журналисты захлебывались от восторга, говоря о нашем композиторе, о его народности и произведениях, изощрялись в комплиментах и минодировании с таким же рвением, с каким описывали «la delicieuse toilette eu satin et tulle blanc» или «la bonne grace de grande dame»[22 - «Прелестный туалет из атласа и белого тюля» или «внимание знатной дамы».] г-жи Бенардаки, или «une coquette jupe pompadour»[23 - «Кокетливую юбку помпадур».] de M-elle de Lebrock, или цветочное убранство «grand hall du «Figaro» (не забыв ради рекламы назвать поставщика), или перечисляя знатных гостей (высшее из всех блаженств всякого парижского хроникера!) «On disait autrefois: «grattez le Russe начиналась одна из таких статеек, vous trouverez le Cosaque». On dit aujourd’hui: «grattez le Russe, vous trouverez un Francais!». On ajoute volontiers: «grattez le Francais – vous trouverez le Russe!». – И далее: «La France avait deja fait avec ses lettres et ses arts la conquete de la Russie, voila que la Russie avec ses arts et ses lettres conquiert a son tour la France!»[24 - «Прежде говорили «поскребите русского, вы найдете казака (sic!); теперь же говорят «поскребите русского, вы найдете француза!» К этому охотно прибавляют «поскребите француза – вы найдете русского!» И далее: «Франция своими искусствами и литературой уже победила Россию, а вот теперь очередь России своими искусствами и литературой покорять Францию».] – Личность «du grand compositeur slave» описывалась так: «C’est un petit homme (к великой обиде Петра Ильича, считавшего себя да и бывшего в действительности выше среднего роста) d’allure distinguee et timide qui rappelle vaguement M. de Freycinet. Avec cela une flamme melan colique dans le regard, qui se reflete a travers toutes ses compositions!»[25 - Это маленького роста человек с благовоспитанными, но робкими приемами, смутно напоминающий г. де Фрейсине. Вместе с этим с меланхолическим пламенем во взгляде, отражающимся во всех его сочинениях.]
Но после публичных концертов тон рецензентов сразу переменился и восторженность исчезла. Большинство их оказалось хорошо знакомым с книгой Ц. Кюи «La musique en Russie» и, не цитируя своего источника, нашло, что Чайковский «n’est pas un compositeur aussi russe qu’on voudrait le croire», qu’il ne denote ni une grande hardiesse ni une puissante originalite», составляющих главную прелесть сочинений, des grands slaves des Borodines, des Cuis, des Rimskys, des Liadoffs».
Европеизм музыки Петра Ильича был поставлен ему в упрек[26 - «Не столь русский композитор, как бы хотелось верить, он не выказывает ни большой смелости, ни мощной оригинальности».]. «L’allemand dans son oeuvre domine le slave et l’absorbe»[27 - Немец в его творениях господствует над славянином и поглощает его.] – с горечью говорит один из критиков, приготовившийся к «impressions exotiques»[28 - Экзотических впечатлений.] и, очевидно, ожидавший услышать в Шатле нечто, подобное музыке дагомейцев, производивших фурор в Jardin d’Accli-matation… Здесь в скобках отмечу, что теперь, при гонении музыки Петра Ильича, в парижской критике главным образом царит этот же упрек его произведениям.
Другая часть прессы, меньшинство, не читавшее книги Кюи, осталось недовольно длиннотами музыки Петра Ильича и ставило ему в образец Сен-Санса и других современных французов.
Несмотря на это, в общем, все-таки надо сказать, что, выражаясь по-парижски, пресса «была хороша», – но ни в похвалах, ни в порицаниях, точно так же, как в биографических сведениях, сообщаемых в отдельных статьях о нашем композиторе, – кроме почерпнутого из интервью, да из «L’independence musicale et dramatique «Hugues Imbert», – не сказала ничего ни верного, ни серьезно заслуживающего внимания. Одно разве «Tchaikowsky ne sort de ces concerts ni diminue, ni aggrandi»[29 - «Чайковский выходит из этих концертов ни умаленным, ни увеличенным».].
Так говорили о Петре Ильиче в Париже. Теперь посмотрим, что говорил он в одном из немногих интересных писем оттуда о своем пребывании в столице мира.
К П. И. Юргенсону
Париж. 1 марта 1888 г.
Милый друг! Насилу-то я собрался написать и то благодаря маленькому нездоровью, вследствие которого сижу дома. Я утомлен до последней крайности и проклинаю этот ужасный образ жизни. Ты не можешь себе представить, до чего меня здесь замучили. Ни единого часа я не провожу без того, чтобы не быть в гостях или с гостями у себя. Из фрака почти не выхожу. Очень мне надоедают разные господа, собирающиеся эксплуатировать увлечение французов всем русским и пристающие с концертами. Слава моя страшно возросла, но денег я не получил и не получу ни копейки, напротив, больше прежнего трачу их. В последний раз я езжу один. Впоследствии буду брать секретаря, который хлопотал бы о моих выгодах. Я истратил за все это время очень много денег и еще больше сил и здоровья, – а приобрел немножко славы, но ежеминутно себя спрашиваю: зачем, стоит ли? и прихожу к заключению, что гораздо лучше жить без славы, но покойно, чем вести эту бешеную жизнь.
«Переезд из Парижа в Лондон, – пишет в это время Петр Ильич к Н. Ф. фон Мекк, – был ужасен: снежная вьюга заставила наш поезд стоять очень долго в поле и мерзнуть. На пароходе было не только ужасно, но и страшно, ибо это была настоящая буря, и каждую минуту казалось, что мы погибаем».
В Лондоне он провел всего четыре дня. Никто его не встретил, никто здесь его не чествовал, никто не мучил приглашениями. Кроме довольно парадного обеда у директора филармонического общества Бергера, остальное время он проводил или в одиночестве, или в обществе Ондричка, известного виртуоза-скрипача, и его супруги. Но в противоречие с видимостью, нигде в артистическом смысле посещение его не оставило более блестящего следа и не было богаче последствиями для его славы. В настоящее время, после России и Америки, нигде он не имеет большей популярности.
Он исполнил здесь серенаду для смычковых инструментов и вариации из сюиты № 3. «Успех был большой, – писал он в том же письме, – и особенно струнная серенада вызвала очень шумные одобрения и троекратный вызов, что для сдержанной лондонской публики значит очень много. Вариации понравились меньше, хотя и им аплодировали очень дружно».
Выдающийся успех Петра Ильича и как композитора, и как дирижера констатируется всеми имеющимися у меня отзывами лондонской прессы. «И автор, и произведения были приняты гораздо горячее простого вежливого одобрения», – говорит «The Musical Times», сожалея только о том, что Петр Ильич не выбрал чего-нибудь более значительного и серьезного для первого знакомства с лондонцами. «Дебют г. Чайковского был решительный успех», «русский композитор был принят английской публикой знаками единодушного одобрения», «покидая зал концерта, г. Чайковский, вероятно, был вполне удовлетворен чрезвычайно сердечным приемом, оказанным ему лондонцами» – говорили другие газеты.
Описав вышеизложенное, «таким образом, – говорит Петр Ильич, – кончились мои мучения, страхи и волнения, но, нужно и правду сказать, и радости» первой артистической поездки за границу.
К Н. А. Римскому-Корсакову
Лондон. 8 марта 1888 года.
Дорогой друг, Николай Андреевич, русский концерт, о котором я мечтал и программу которого мы составляли вместе, состояться не может. Вы помните, что я собирался с помощью моего издателя, Феликса Маккара, устроить свой концерт и затем рискнуть имевшуейя у меня в запасе тысячей рублей и дать еще один концерт с той программой, которую мы вместе составляли. Все это издали казалось мне очень легко, но не так оно вышло на деле. Маккар, начавший хлопотать о зале и оркестре (для 1-го концерта), наткнулся на множество препятствий. Во-первых, нужно было иметь тысяч 10 франков, чтобы устроить все как следует, – их у него не было; во-вторых, достать оркестр и зал оказалось в то время невозможно, ибо кроме Трокадеро, который возможен только весной и летом, большого зала нет, а театры все заняты. Колонн, к которому Маккар обращался за оркестром, предложил ему пригласить меня на 2 концерта в Шатле с тем, что он берет на себя все: репетиции (предварительные), объявления, рекламы и т. д. и т. д., но зато ни копейки мне не даст. Маккар написал мне подробное письмо, в коем объяснил, что, принимая предложение Колонна, мы теряем надежду на выручку, но зато ничем не рискуем, имеем в своем распоряжении превосходный оркестр, готовую публику и всю концертную организацию, а главное – никогда не случавшееся еще согласие Колонна уступить мне дирижерскую палочку, каковое обстоятельство в глазах парижан имеет огромный престиж. Затем Колонн вошел со мной в письменные переговоры, и дело состоялось. Но, ехавши в Париж, я все-таки непременно хотел устроить русский концерт. Очутившись там, я был сразу атакован множеством господ и госпож, собравшихся эксплуатировать увлечение парижан всем русским и требовавших моего участия в качестве дирижера. Засим, когда я стал делать попытки, то натолкнулся опять на те же препятствия: нет зала, нет оркестра, а если и есть, то нужно иметь не менее 10 тысяч франков, чтобы хорошо устроить дело, не боясь, что деньги пропадут. Между тем моя тысяча была давно издержана, и я перебивался в денежном отношении в Париже не без труда. Но главное, что мне мешало бы с успехом исполнить задуманное концертное предприятие, – это то, что я мало-помалу дошел до такого утомления, до такой нравственной и физической измученности, что если бы не деньги, которые я здесь должен получить и в которых я сильно нуждаюсь, – я бы даже и в Лондон не приехал. Я держусь того мнения, что русский концерт, такой, как мы задумали, состояться может, но для этого нужно ни более ни менее, как то, чтобы Беляев или другой богач рискнул несколькими тысячами рублей, обставил бы концерт блестящим образом (например, таким солистом, как Фор, который берет 3000), пригласил бы для дирижирования Рубинштейна, вас или меня и был бы совершенно равнодушен к выручке. Иначе ничего нельзя сделать. Едва ли не лучше отложить это дело до осени, ибо теперь разные господа и госпожи приехали пропагандировать русскую музыку, надеясь сделать аферы. Но они только могут скомпрометировать нашу музыку. Например, X. в программу своего 1-го концерта, кроме Глинки, включил еще свою увертюру, а мне хорошо известно, каковы его увертюры и какой он позорный дирижер. Вообще мы должны давать наши концерты вовсе не для того, чтобы выручать деньги (да все эти господа очень ошибаются, они потерпят убытки), а для того, чтобы показать наш товар лицом и нисколько не сообразуясь с тем или другим политическим настроением французов. Сочувственное настроение к России уже охлаждается, и мы можем к этому обстоятельству относиться совершенно индифферентно, ибо дело в том, что, независимо от политики, французы интересуются нашей музыкой; это несомненно, но интерес этот не столько велик, чтобы публика готова была сколько угодно денег давать. Она дала их очень много Колонну в оба мои концерта, ибо у Колонна громкая, прочная репутация, и моя личность лишь подзадорила обычный интерес к его концертам, она даст их также и Беляеву, если он ничего не пожалеет на обстановку и на привлечение знаменитых солистов… Но нашему брату не под силу устраивать подобные концерты. Многое еще я мог бы написать и сказать вам по этому поводу, но у меня голова в самом деле не в порядке, я измучился до самой последней степени и с величайшим трудом пишу это письмо.
Голубчик, Николай Андреевич, не сердитесь на меня. Я выказал необычайную ребячливость, когда совершенно серьезно считал легким и возможным концерт, по поводу коего накануне моего отъезда мы совещались. Своей серьезностью я ввел вас в заблуждение. Вышло как-то ужасно некрасиво, я разыграл из себя бескорыстного пропагандиста не моей русской музыки, а между тем два раза играл в Париже исключительно свои сочинения и затем удрал. Но так сложились обстоятельства, и я прошу вас верить, что мое желание познакомить парижан с сочинениями тех композиторов, которых люблю и уважаю, было совершенно искренне.
IV
К Н. Ф. фон Мекк
Таганрог. 22 марта 1888 года.
<…> После бесконечно долгого пути я, наконец, приехал в Таганрог. Шесть ночей я провел в вагоне, и вы можете себе представить, до чего дошло мое утомление. Как нарочно, погода все время была великолепная, и я очень сожалел, что у меня не хватило смелости ехать морем. Насколько я предпочитаю морское путешествие железной дороге вообще! Как сильно я начинаю любить море! Даже о переезде через канал из Дувра в Кале я вспоминаю с наслаждением, хотя погода была скверная. Мечтаю о каком-нибудь отдаленном морском путешествии и буду стараться, чтобы меня в будущем году или года через два пригласили для дирижирования концертов в Америку. Не странно ли, что после утомительного, более чем трехмесячного странствования по чужбине я уже снова мечтаю о путешествии? Но таков человек. Как только мое возвращение в Россию, о котором я мечтал как о величайшем благе, стало фактом, так немедленно я уже начинаю желать, чтобы в будущем году пришлось опять поездить. Впрочем, это нисколько не мешает мне радоваться при мысли, что через месяц я буду жить у себя где-нибудь в деревенской глуши. В настоящее время мой Алексей занят поисками дачи для лета, а если возможно, даже постоянного жилья. Очень трудно найти что-нибудь, вполне подходящее к моим требованиям. В течение всей зимы Алексей и Юргенсон заботились о приискании для меня деревенского убежища и до сих пор еще ничего не нашли.
Здесь я гощу у брата, Ипполита, которого не видал 2 года, так же, как и жены его.
10 февраля, вечером, сопровождаемый напутственными речами, усыпанный цветами, Петр Ильич покинул гостеприимную Прагу.
В описании этих торжественнейших и самых блестящих десяти дней жизни Петра Ильича я ограничиваюсь этим сухим перечнем, не приводя ни речей, ни статей по адресу гостя, потому что задушевность, даже при красоте и талантливости, изощряясь на возвеличение и хвалу в минуты увлечения, – имеет значение, прелесть и долговечность цветов, усыпающих путь триумфатора. Благоуханные искренностью и прекрасные уместностью в данную минуту, все эти слова, потраченные на прославление Петра Ильича, взору спокойного читателя покажутся сухими, бессодержательными и однообразными. К тому же, как отлично понимал сам Петр Ильич, значение национальных симпатий здесь отодвигало на задний план чисто артистическое, которое нам наиболее интересно.
Хотя главная цель поездки Петра Ильича за границу была – познакомить Европу со своими произведениями, содействуя их распространению за пределами родины, но при этом, несомненно, хотя в значительно меньшей мере, – узнать воочию степень уже достигнутой им там известности и получить соответствующую дань почета. Мнительный и скромный в этом отношении, он не требовал многого, и даже то, что встретил в Германии, уже значительно превосходило его ожидания, но пражские чествования превзошли самые фантастические представления о том, что он мог найти в Европе. Эти десять дней составляют высшую точку земной славы, которой Петру Ильичу суждено было достигнуть при жизни. Пусть девять десятых встреченных им оваций относились не к нему, а к России, но самый факт, одно то, что именно он, а никто другой был признан достойным сосредоточить в себе те симпатии, которые чехи питают к русским, льстило его самолюбию, показывая, как известно его творчество. Льстило его самолюбию и то, что чествовал его так народ, по любви, по уровню развития массы, по исполнительским дарованиям самый музыкальный в мире, а более всего, что Прага, первая признавшая гениальное значение Моцарта, одна воздавшая ему при жизни должное, хоть в чем-нибудь сроднила судьбу его, Петра Ильича, с судьбой немецкого гения. Отрадно было Петру Ильичу, что те, кто дал ему «минуту абсолютного счастья», были потомки людей, давших изведать сладость земной славы его любимцу, учителю, образцу всех достоинств артиста и человека. И это неожиданное совпадение было, может быть, лестнее всего, что когда-либо получал Петр Ильич при жизни, это была высшая из высших наград, на которую он когда-либо смел рассчитывать.
Изведав высочайший момент своей славы, Петр Ильич изведал и одну из тягчайших обид. Русская пресса ни одним словом не промолвилась о пражских чествованиях русского композитора. Ему чудилось в этом глухое недоброжелательство и тем более удивляло и огорчало, что, будучи, несомненно, одним из важнейших событий его жизни, все эти торжества были также событием и для чехов. Много лиц, подолгу, десятками лет жившие в Праге, говорили ему, что не видали подобного чествования какого-либо иностранца. И вот, сознавая какую огромную долю восторженных приветствий он должен был уступить России вообще, Петру Ильичу было больно и обидно, что она этого не знает и что из-за отношения прессы к его личности выражения горячих и искренних симпатий чехов к русским не только остаются без ответа, но даже не дошли до них.
К А. Чайковскому
Прага. 10 февраля 1888 года.
Голубчики мои Толя и Паня, я провел здесь 10 дней и не писал ни единого письма, ибо никакой возможности не было. Я пишу дневник и впоследствии могу рассказать подробно все, что со мной случилось за это время, но описать не могу. Меня встречали здесь как какого-то представителя всей России. Встреча в первый день была грандиозная. С тех пор все мое пребывание было вереницей всяких празднеств, торжеств, осмотров достопримечательностей, серенад, репетиций, концертов и т. д. Я нашел много чехов, говорящих по-русски. Меня с утра до вечера угощали, возили, всячески ласкали и баловали. Самые концерты (их было два) имели колоссальный успех. Вчерашний концерт был в театре, и по окончании его давался превосходно обставленный 2-ой акт «Лебединого озера». Я оказался оратором, сказавшим не только множество ответных речей на всех праздниках, дававшихся в мою честь, но даже на большом банкете прочел длинную речь по-чешски к великой радости присутствовавших. Всего не перескажешь в коротеньком письме. Усталость моя превосходит всякое вероятие, и я не понимаю, откуда у меня берутся силы выдерживать все это. Сегодня еду в Париж. Все время здесь был со мной Зилоти, и за 2 дня до 1-го концерта приехал Юргенсон. Оба они сейчас уехали, а я сел за письма, которых мне нужно написать так много, что для каждого хватит лишь маленького листочка. Я мечтаю, что в неотдаленном будущем увижу вас. Господи, когда же настанет спокойствие?! Однако я должен признаться, что в Праге испытал много чудных минут.
III
Совсем другого рода овации ожидали Петра Ильича в Париже.
Здесь тоже успех его превзошел самые смелые предположения. Здесь тоже с утра до ночи, но еще в течение втрое большого времени, Петр Ильич был предметом самых лестных выражений сочувствия. Но характер их так же разнствовал с чешским, как разнствуют чех и француз в своих отношениях и к самой музыке, и к русскому народу. Чех любит и то, и другое несравненно глубже; и то, и другое в жизни его играет роль несравненно более значительную. Нет страны, где бы музыкальное искусство было более ценимо и распространено. Нет также и народа, где бы все русское встречало более сочувствия не в силу временных веяний, а в силу кровного родства с нами. Поэтому и как музыкант, и как русский Петр Ильич встретил там искренность и непосредственность симпатий, какой нельзя было ожидать от французов. Правда, некоторая доза политического оттенка примешивалась и к парижским торжествам. Это было время разгара франко-русского сближения, и все русское было уже модно. Многие совершенно чуждые музыкальному искусству французы считали долгом заявить свое сочувствие Петру Ильичу потолику, поколику он русский – но все это, как и самые симпатии французов к нам, не покоилось на прочном основании национального сродства, а эфемерной политической комбинации выгод двух могущественных держав. Вследствие чего выразителем хотя бурного и страстного, но непрочного увлечения всем русским могли быть шляпы «Kronstadt», галстуки «franco-russe», овации клоуну Дурову, пение «Боже царя храни» рядом с марсельезой, пожалуй, – интерес «свысока», как к курьезу, к нашей литературе и искусству, но отнюдь не радостная встреча двух национальностей на почве одинаковых, сродных симпатий и стремлений ввысь и вглубь. И результатом кронштадтских, тулонских, парижских и какие там еще были торжеств не могли явиться понимание и любовь к Пушкину, Гоголю и Островскому, к Глинке, Даргомыжскому и Серову, а только проходящая мода, благодаря которой Л. Толстой и Достоевский были до известной степени оценены, но далеко не поняты во всем их настоящем величии. Моден был и Петр Ильич, и это сообщило приему его парижанами большой блеск, но блеск чисто внешний; того отзвука своим творениям, который придал такую теплоту и искренность пражским овациям, здесь он не нашел.
К тому же, торжества в честь композитора – событие для небольшой столицы небольшой страны, как Богемия, – не могли быть таковыми для многомиллионной столицы мира, волнуемой сотнями интересов и забот несравненно значительнейших. Можно без преувеличения сказать: вся Прага приветствовала Петра Ильича; в Париже – музыканты, музыкальные дилетанты, соотечественники, газеты, увлеченные франко-русскими веяниями, и та разношерстная толпа, которая следит за газетными новостями и рекламами.
Чтобы докончить сравнение пражских оваций в честь Петра Ильича, я укажу на последствия тех и других. Прошло 13 лет, и в Праге до сих пор оперы Петра Ильича не сходят с репертуара, и симфоническая музыка известна и любима, как в России. В Париже – он не только почти не исполняется совсем ни в театре, ни на концертных эстрадах, но даже имя его, в остальной Европе все более чтимое, не признано до сих пор достойным быть включенным в список авторов, допускаемых в концертах Парижской консерватории, а во главе ее стоят люди, расточавшие в 1888 году выражения своего сочувствия. Не объясняется ли это исключительно той глухой антипатией французов к русскому духу, которую Петр Ильич делит вместе как с великими предшественниками своего искусства, так и с представителями всего высокого и глубокого, что дала Россия?
Петр Ильич приехал в Париж 12 февраля и сразу окунулся в омут суетливого, почти постоянного общения с людьми. Чуть ли не прямо с вокзала ему пришлось присутствовать на репетиции своей струнной серенады, которую разучивал Колонн со своим оркестром для парадного вечера в доме Бенардаки и которой должен был дирижировать сам автор.
Н. Бенардаки, женатый на г-же Лейброк, сестре трех очень известных в России оперных артисток[19 - Старшая из них, под псевдонимом Михайловской, долго была лирическим сопрано Мариинского театра, вторая – контральто, под псевдонимом Михайловской 2-й, особенно была известна на провинциальных сценах, и третья, под именем Корбиель, наиболее талантливая, была очень популярна и в столицах, и в провинции как грациозная и симпатичная опереточная примадонна.], имел роскошный отель в Париже, где гостеприимно собирал весь цвет музыкально-артистического Парижа. В качестве соотечественника и музыкального мецената он первый дал сигнал к чествованиям Петра Ильича в Париже, устроив у себя музыкальный вечер с участием оркестра Колонна, своей супруги и свояченицы[20 - Тогда девица О. Лейброк, ныне супруга адмирала Скрыдлова.], пользовавшихся репутацией прекрасных салонных певиц, а затем таких первоклассных исполнителей, как братья Решке, Лассаль, Диемер, Тафанель и Брандуков. Кроме серенады для смычковых инструментов, на вечере этом Петр Ильич дирижировал еще Andante cantabile 1-го квартета и аккомпанировал всем солистам. И вот в хлопотах об этом вечере, в репетициях и оркестра, и отдельных исполнителей прошли первые дни пребывания в Париже. Сверх этого, по настояниям своего издателя, Маккара, игравшего роль Вергилия в мытарствах композитора, Петр Ильич должен был делать визиты выдающимся французским музыкантам и редакциям популярнейших газет в отплату за ту готовность рекламировать его приезд, которую они помимо его забот выказали.
Блистательный музыкальный вечер собрал более 300 приглашенных в салонах Бенардаки. Тут были все представители того tout Paris, перед которым благоговеют и артисты, и ценители всей Франции. Милостивое внимание, один факт присутствия, одобрительный шепот кучки этих пресыщенных и, в сущности, равнодушных ко всему прекрасному людей есть высшая награда, о которой грезят артисты всех стран, – патент на внимание не только Парижа, но всего привилегированного мира.
И Петр Ильич был искренно благодарен добрым хозяевам этого вечера за неожиданную и совершенно необходимую в условиях парижской жизни рекламу, которую они ему подарили. Содействовать успеху ее, бегать по квартирам исполнителей для репетиций отдельных номеров, благодарить их за внимание он считал необходимой оплатой за оказываемую ему услугу; выступить в качестве дирижера перед этим собранием несерьезных дилетантов, сплоченных, кстати сказать, несравненно в большей степени тщеславием, чем любовью к искусству, добиться их ленивого одобрения – он считал лестным и значительным. Но, зная, что это ему стоило несравненно большего утомления и хлопот, чем дебют перед таким настоящим, достойным его судом, как суд в лейпцигском Гевандгаузе, – невольно жалеешь даром потраченных сил и испытываешь чувство обиды за художническое достоинство нашего композитора. Когда видишь его, расстроенного, утомленного и, судя по дневнику, очень несчастного, среди чуждой толпы, в раздушенном салоне, среди блеска туалетов и бриллиантов архиизящных дам, расфранченных и безупречных фраков, завтра в том же составе долженствующих «консакрировать» успех новой шансонетной певицы или танцы Лои-Фюллер; – невольно сетуешь на судьбу, что она не оставила его в деревенской тиши, среди интимной, родной обстановки, здорового физически и морально, спокойного, бодрого, обдумывающего план нового творения. Слава Богу еще, что Петр Ильич, добровольно подвергая себя этой пытке, утешался мыслью, что «это нужно», и не дожил до настоящего времени, когда так ясно стало, что «этого вовсе не было нужно», ибо нигде путем больших жертв ради популярности своих произведений он не достиг меньших результатов, как в Париже.
Блеск этого дебюта удесятерил количество знакомств, а с ними приглашений и визитов. Те из парижских музыкальных светил, которых не было в Париже летом 1886 года, сошлись с Петром Ильичом теперь. И все, начиная с Гуно, Массне, Паладиля, Гиро, Жонсьера, Тома, выказывали тончайшую предупредительность и сочувствие. Очень холодно и величаво обошелся с ним только автор «Сипора» и «Саламбо», что весьма мало печалило Петра Ильича, ибо он, со своей стороны, считал ничтожным дарование этого господина, смешною – его тенденцию, совершенно непонятным – его успех, впрочем, не заходящий за пределы Франции. – Из виртуозов, которых Петр Ильич узнал в это время, больше всего впечатления на него произвел Падеревский: «великолепный пианист», говорит он о нем в своем дневнике. – Среди лиц, не имеющих касательство до музыки, более всего ему доставила удовольствие встреча с Каран-д-Ашем, которого он в последний раз видел в начале семидесятых годов в Москве мальчиком и теперь узнал знаменитостью Парижа.
Популярность музыки Чайковского дошла в Париже до того, что как раз во время пребывания там Петра Ильича появился роман[21 - «Le Froc» par Emile Goudeau, 1888. Paris. Ollendorff.], в котором большую роль играет романс «Нет, только тот, кто знал». Петр Ильич ужасно был польщен и шутя хвастался этим гораздо более, чем восторженнейшими отзывами музыкальной критики.
Почти каждый день в течение трех недель кто-нибудь чествовал нашего композитора обедом, завтраком, музыкальным вечером. Значительнейшими из таких домашних чествований следует отметить великолепный вечер с исполнением музыки Петра Ильича у Колонна, где был налицо весь музыкальный Париж; 1-го марта вечер у аристократической дилетантки, баронессы Тредерн, известной тем, что в ее роскошных салонах на Вандомской площади чуть ли не впервые в Париже исполнялась целиком музыка вагнеровской трилогии. По поводу вечера, данного этой дамой в его честь, Петр Ильич в дневнике лаконически отметил: «маркизы, дюшессы, скука». Русское посольство почтило гостя-соотечественника парадным обедом, Русский кружок – музыкальным вечером, Полина Виардо – обедом и вечером, композитор Видор – парадным завтраком. Чествование в зале Эрара пианистом Диемером носило характер почти публичный, так много народа собрало оно. На этом audition ученики чтимого парижского виртуоза исполняли, как Петр Ильич писал в своем дневнике, «штук до сорока» его фп. пьес. «Тронут, но устал», добавляет он к этому.
Полупубличный, получастный характер имело также торжество, устроенное редакцией «Фигаро» в своем помещении 14/2 марта. Оттенок франко-русских симпатий подчеркнут был тем, что кроме музыкальных номеров, исполненных братьями Решке, Марсиком, Тафанелем и Брандуковым, в программу вошло представление третьего акта «Власти тьмы», а в конце – дуэт из «La fille de M-me Angot», переданный неподражаемыми, единственными в своем роде Жюдик и Гранье.
Кроме концертов Шатле, о коих речь ниже, музыка Петра Ильича исполнялась публично также в вечере, данном камерным обществом «Trompette». Здесь был сыгран 1-й квартет, фортепианная фантазия (на двух роялях Диемером и автором) и много сольных номеров – Брандуковым, Жироде и г-жой Енох.
Перед большой, настоящей публикой Петр Ильич в качестве композитора-дирижера выступил два раз в концертах Шатле. В первом из них лишь половина программы была предоставлена ему. По количеству сочинений эта половина, однако, стоила целого симфонического концерта в России или Германии. Она заключала в себе: 1) Серенаду для смычковых инструментов. 2) Фортепианную фантазию в исполнении Луи Диемера. 3) Пение романсов – г-жа Конно. 4) Виолончельные пьесы – г. Брандуков и 5) Тему с вариациями 3-й сюиты.
При появлении на эстраде Петр Ильич был приветствуем громом рукоплесканий, из которых большая часть относилась не к нему лично, ибо для преобладающего большинства он все-таки был незнакомцем, а к его народности. Таково, по крайней мере, было убеждение и самого Петра Ильича, и некоторых журналистов в отзывах об концерте. Как бы то ни было, но теплота этого приема очень благоприятно отозвалась на исполнении, сразу утишив волнения дирижера и внушив ему уверенность и самообладание. Наибольший успех из оркестровых вещей имел вальс из серенады, повторенный по требованию публики. Меньше всего, как и следовало ожидать, понравилась фп. фантазия. После вариаций и финала 3-й сюиты аплодисменты были единодушны и восторженны, на этот раз, кажется, более относясь к произведениям композитора, чем к его национальности. В общем – успех был большой и искренний.
Во втором концерте, через неделю, уже почти вся программа состояла из произведений Петра Ильича, только в начале Колонн исполнил увертюру Берлиоза. Она заключала в себе повторение вариаций 3-й сюиты, отрывки из струнной серенады (вальс и элегия), виолончельные пьесы в исполнении Брандукова и, кроме того, скрипичный концерт, сыгранный Марсиком, «Франческу да Римини», романсы (певец Жироде) и фп. соло (Л. Диемер).
Успех и на этот раз был такой же громкий и блестящий. Не понравилась сравнительно только «Франческа».
Несмотря на большое впечатление в зале, на искренность и непосредственность знаков одобрения публики, в прессе по поводу этих концертов чувствовалось разочарование.
Когда дело шло о салонных исполнениях у Бенардаки, у Колонна, в редакции «Фигаро», у г-жи де Тредерн, журналисты захлебывались от восторга, говоря о нашем композиторе, о его народности и произведениях, изощрялись в комплиментах и минодировании с таким же рвением, с каким описывали «la delicieuse toilette eu satin et tulle blanc» или «la bonne grace de grande dame»[22 - «Прелестный туалет из атласа и белого тюля» или «внимание знатной дамы».] г-жи Бенардаки, или «une coquette jupe pompadour»[23 - «Кокетливую юбку помпадур».] de M-elle de Lebrock, или цветочное убранство «grand hall du «Figaro» (не забыв ради рекламы назвать поставщика), или перечисляя знатных гостей (высшее из всех блаженств всякого парижского хроникера!) «On disait autrefois: «grattez le Russe начиналась одна из таких статеек, vous trouverez le Cosaque». On dit aujourd’hui: «grattez le Russe, vous trouverez un Francais!». On ajoute volontiers: «grattez le Francais – vous trouverez le Russe!». – И далее: «La France avait deja fait avec ses lettres et ses arts la conquete de la Russie, voila que la Russie avec ses arts et ses lettres conquiert a son tour la France!»[24 - «Прежде говорили «поскребите русского, вы найдете казака (sic!); теперь же говорят «поскребите русского, вы найдете француза!» К этому охотно прибавляют «поскребите француза – вы найдете русского!» И далее: «Франция своими искусствами и литературой уже победила Россию, а вот теперь очередь России своими искусствами и литературой покорять Францию».] – Личность «du grand compositeur slave» описывалась так: «C’est un petit homme (к великой обиде Петра Ильича, считавшего себя да и бывшего в действительности выше среднего роста) d’allure distinguee et timide qui rappelle vaguement M. de Freycinet. Avec cela une flamme melan colique dans le regard, qui se reflete a travers toutes ses compositions!»[25 - Это маленького роста человек с благовоспитанными, но робкими приемами, смутно напоминающий г. де Фрейсине. Вместе с этим с меланхолическим пламенем во взгляде, отражающимся во всех его сочинениях.]
Но после публичных концертов тон рецензентов сразу переменился и восторженность исчезла. Большинство их оказалось хорошо знакомым с книгой Ц. Кюи «La musique en Russie» и, не цитируя своего источника, нашло, что Чайковский «n’est pas un compositeur aussi russe qu’on voudrait le croire», qu’il ne denote ni une grande hardiesse ni une puissante originalite», составляющих главную прелесть сочинений, des grands slaves des Borodines, des Cuis, des Rimskys, des Liadoffs».
Европеизм музыки Петра Ильича был поставлен ему в упрек[26 - «Не столь русский композитор, как бы хотелось верить, он не выказывает ни большой смелости, ни мощной оригинальности».]. «L’allemand dans son oeuvre domine le slave et l’absorbe»[27 - Немец в его творениях господствует над славянином и поглощает его.] – с горечью говорит один из критиков, приготовившийся к «impressions exotiques»[28 - Экзотических впечатлений.] и, очевидно, ожидавший услышать в Шатле нечто, подобное музыке дагомейцев, производивших фурор в Jardin d’Accli-matation… Здесь в скобках отмечу, что теперь, при гонении музыки Петра Ильича, в парижской критике главным образом царит этот же упрек его произведениям.
Другая часть прессы, меньшинство, не читавшее книги Кюи, осталось недовольно длиннотами музыки Петра Ильича и ставило ему в образец Сен-Санса и других современных французов.
Несмотря на это, в общем, все-таки надо сказать, что, выражаясь по-парижски, пресса «была хороша», – но ни в похвалах, ни в порицаниях, точно так же, как в биографических сведениях, сообщаемых в отдельных статьях о нашем композиторе, – кроме почерпнутого из интервью, да из «L’independence musicale et dramatique «Hugues Imbert», – не сказала ничего ни верного, ни серьезно заслуживающего внимания. Одно разве «Tchaikowsky ne sort de ces concerts ni diminue, ni aggrandi»[29 - «Чайковский выходит из этих концертов ни умаленным, ни увеличенным».].
Так говорили о Петре Ильиче в Париже. Теперь посмотрим, что говорил он в одном из немногих интересных писем оттуда о своем пребывании в столице мира.
К П. И. Юргенсону
Париж. 1 марта 1888 г.
Милый друг! Насилу-то я собрался написать и то благодаря маленькому нездоровью, вследствие которого сижу дома. Я утомлен до последней крайности и проклинаю этот ужасный образ жизни. Ты не можешь себе представить, до чего меня здесь замучили. Ни единого часа я не провожу без того, чтобы не быть в гостях или с гостями у себя. Из фрака почти не выхожу. Очень мне надоедают разные господа, собирающиеся эксплуатировать увлечение французов всем русским и пристающие с концертами. Слава моя страшно возросла, но денег я не получил и не получу ни копейки, напротив, больше прежнего трачу их. В последний раз я езжу один. Впоследствии буду брать секретаря, который хлопотал бы о моих выгодах. Я истратил за все это время очень много денег и еще больше сил и здоровья, – а приобрел немножко славы, но ежеминутно себя спрашиваю: зачем, стоит ли? и прихожу к заключению, что гораздо лучше жить без славы, но покойно, чем вести эту бешеную жизнь.
«Переезд из Парижа в Лондон, – пишет в это время Петр Ильич к Н. Ф. фон Мекк, – был ужасен: снежная вьюга заставила наш поезд стоять очень долго в поле и мерзнуть. На пароходе было не только ужасно, но и страшно, ибо это была настоящая буря, и каждую минуту казалось, что мы погибаем».
В Лондоне он провел всего четыре дня. Никто его не встретил, никто здесь его не чествовал, никто не мучил приглашениями. Кроме довольно парадного обеда у директора филармонического общества Бергера, остальное время он проводил или в одиночестве, или в обществе Ондричка, известного виртуоза-скрипача, и его супруги. Но в противоречие с видимостью, нигде в артистическом смысле посещение его не оставило более блестящего следа и не было богаче последствиями для его славы. В настоящее время, после России и Америки, нигде он не имеет большей популярности.
Он исполнил здесь серенаду для смычковых инструментов и вариации из сюиты № 3. «Успех был большой, – писал он в том же письме, – и особенно струнная серенада вызвала очень шумные одобрения и троекратный вызов, что для сдержанной лондонской публики значит очень много. Вариации понравились меньше, хотя и им аплодировали очень дружно».
Выдающийся успех Петра Ильича и как композитора, и как дирижера констатируется всеми имеющимися у меня отзывами лондонской прессы. «И автор, и произведения были приняты гораздо горячее простого вежливого одобрения», – говорит «The Musical Times», сожалея только о том, что Петр Ильич не выбрал чего-нибудь более значительного и серьезного для первого знакомства с лондонцами. «Дебют г. Чайковского был решительный успех», «русский композитор был принят английской публикой знаками единодушного одобрения», «покидая зал концерта, г. Чайковский, вероятно, был вполне удовлетворен чрезвычайно сердечным приемом, оказанным ему лондонцами» – говорили другие газеты.
Описав вышеизложенное, «таким образом, – говорит Петр Ильич, – кончились мои мучения, страхи и волнения, но, нужно и правду сказать, и радости» первой артистической поездки за границу.
К Н. А. Римскому-Корсакову
Лондон. 8 марта 1888 года.
Дорогой друг, Николай Андреевич, русский концерт, о котором я мечтал и программу которого мы составляли вместе, состояться не может. Вы помните, что я собирался с помощью моего издателя, Феликса Маккара, устроить свой концерт и затем рискнуть имевшуейя у меня в запасе тысячей рублей и дать еще один концерт с той программой, которую мы вместе составляли. Все это издали казалось мне очень легко, но не так оно вышло на деле. Маккар, начавший хлопотать о зале и оркестре (для 1-го концерта), наткнулся на множество препятствий. Во-первых, нужно было иметь тысяч 10 франков, чтобы устроить все как следует, – их у него не было; во-вторых, достать оркестр и зал оказалось в то время невозможно, ибо кроме Трокадеро, который возможен только весной и летом, большого зала нет, а театры все заняты. Колонн, к которому Маккар обращался за оркестром, предложил ему пригласить меня на 2 концерта в Шатле с тем, что он берет на себя все: репетиции (предварительные), объявления, рекламы и т. д. и т. д., но зато ни копейки мне не даст. Маккар написал мне подробное письмо, в коем объяснил, что, принимая предложение Колонна, мы теряем надежду на выручку, но зато ничем не рискуем, имеем в своем распоряжении превосходный оркестр, готовую публику и всю концертную организацию, а главное – никогда не случавшееся еще согласие Колонна уступить мне дирижерскую палочку, каковое обстоятельство в глазах парижан имеет огромный престиж. Затем Колонн вошел со мной в письменные переговоры, и дело состоялось. Но, ехавши в Париж, я все-таки непременно хотел устроить русский концерт. Очутившись там, я был сразу атакован множеством господ и госпож, собравшихся эксплуатировать увлечение парижан всем русским и требовавших моего участия в качестве дирижера. Засим, когда я стал делать попытки, то натолкнулся опять на те же препятствия: нет зала, нет оркестра, а если и есть, то нужно иметь не менее 10 тысяч франков, чтобы хорошо устроить дело, не боясь, что деньги пропадут. Между тем моя тысяча была давно издержана, и я перебивался в денежном отношении в Париже не без труда. Но главное, что мне мешало бы с успехом исполнить задуманное концертное предприятие, – это то, что я мало-помалу дошел до такого утомления, до такой нравственной и физической измученности, что если бы не деньги, которые я здесь должен получить и в которых я сильно нуждаюсь, – я бы даже и в Лондон не приехал. Я держусь того мнения, что русский концерт, такой, как мы задумали, состояться может, но для этого нужно ни более ни менее, как то, чтобы Беляев или другой богач рискнул несколькими тысячами рублей, обставил бы концерт блестящим образом (например, таким солистом, как Фор, который берет 3000), пригласил бы для дирижирования Рубинштейна, вас или меня и был бы совершенно равнодушен к выручке. Иначе ничего нельзя сделать. Едва ли не лучше отложить это дело до осени, ибо теперь разные господа и госпожи приехали пропагандировать русскую музыку, надеясь сделать аферы. Но они только могут скомпрометировать нашу музыку. Например, X. в программу своего 1-го концерта, кроме Глинки, включил еще свою увертюру, а мне хорошо известно, каковы его увертюры и какой он позорный дирижер. Вообще мы должны давать наши концерты вовсе не для того, чтобы выручать деньги (да все эти господа очень ошибаются, они потерпят убытки), а для того, чтобы показать наш товар лицом и нисколько не сообразуясь с тем или другим политическим настроением французов. Сочувственное настроение к России уже охлаждается, и мы можем к этому обстоятельству относиться совершенно индифферентно, ибо дело в том, что, независимо от политики, французы интересуются нашей музыкой; это несомненно, но интерес этот не столько велик, чтобы публика готова была сколько угодно денег давать. Она дала их очень много Колонну в оба мои концерта, ибо у Колонна громкая, прочная репутация, и моя личность лишь подзадорила обычный интерес к его концертам, она даст их также и Беляеву, если он ничего не пожалеет на обстановку и на привлечение знаменитых солистов… Но нашему брату не под силу устраивать подобные концерты. Многое еще я мог бы написать и сказать вам по этому поводу, но у меня голова в самом деле не в порядке, я измучился до самой последней степени и с величайшим трудом пишу это письмо.
Голубчик, Николай Андреевич, не сердитесь на меня. Я выказал необычайную ребячливость, когда совершенно серьезно считал легким и возможным концерт, по поводу коего накануне моего отъезда мы совещались. Своей серьезностью я ввел вас в заблуждение. Вышло как-то ужасно некрасиво, я разыграл из себя бескорыстного пропагандиста не моей русской музыки, а между тем два раза играл в Париже исключительно свои сочинения и затем удрал. Но так сложились обстоятельства, и я прошу вас верить, что мое желание познакомить парижан с сочинениями тех композиторов, которых люблю и уважаю, было совершенно искренне.
IV
К Н. Ф. фон Мекк
Таганрог. 22 марта 1888 года.
<…> После бесконечно долгого пути я, наконец, приехал в Таганрог. Шесть ночей я провел в вагоне, и вы можете себе представить, до чего дошло мое утомление. Как нарочно, погода все время была великолепная, и я очень сожалел, что у меня не хватило смелости ехать морем. Насколько я предпочитаю морское путешествие железной дороге вообще! Как сильно я начинаю любить море! Даже о переезде через канал из Дувра в Кале я вспоминаю с наслаждением, хотя погода была скверная. Мечтаю о каком-нибудь отдаленном морском путешествии и буду стараться, чтобы меня в будущем году или года через два пригласили для дирижирования концертов в Америку. Не странно ли, что после утомительного, более чем трехмесячного странствования по чужбине я уже снова мечтаю о путешествии? Но таков человек. Как только мое возвращение в Россию, о котором я мечтал как о величайшем благе, стало фактом, так немедленно я уже начинаю желать, чтобы в будущем году пришлось опять поездить. Впрочем, это нисколько не мешает мне радоваться при мысли, что через месяц я буду жить у себя где-нибудь в деревенской глуши. В настоящее время мой Алексей занят поисками дачи для лета, а если возможно, даже постоянного жилья. Очень трудно найти что-нибудь, вполне подходящее к моим требованиям. В течение всей зимы Алексей и Юргенсон заботились о приискании для меня деревенского убежища и до сих пор еще ничего не нашли.
Здесь я гощу у брата, Ипполита, которого не видал 2 года, так же, как и жены его.