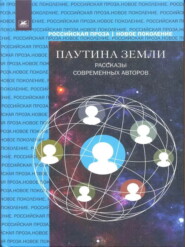По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэзия на европейских языках в переводах Андрея Пустогарова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За горло держишь ты меня, любви беда:
меня уж не полюбит никто и никогда.
В эпоху старую постригся б в монастырь,
да стыдно мне теперь молиться да читать Псалтырь.
Смех над собой потрескивает, как огонь в Аду,
и зубоскальства искры позолотили жизни глубину.
Жизнь, как картина в сумрачном музее.
Порой, зайдя в музей, я на нее глазею.
Навстречу женщины в кровавом багреце,
так уже было у любви в конце.
Но ты, вечерним заревом объят,
не хочешь вспоминать любви закат —
как в языках огня Нотр-Дам ты видел в Шартре – Святого
Сердца кровь все затопила на Монмартре.
Мне тошно от благочестивых слов.
Позорная болезнь меня грызет – любовь.
Но образ есть во мне и с ним переживу я
свою тоску-печаль, бессонниц пору злую.
Вот ты на берегу у средиземных вод.
Лимонные деревья тут цветут весь год.
С тобой на яхту сели прокатиться
друзья из Турбии, Ментоны, Ниццы.
Ужасный осьминог всплывает из глубин,
резвятся рыбки: в каждой образ – Божий Сын.
Вот в Праге вы сидите в ресторане:
и роза на столе, и ты от счастья пьяный.
Ты позабыл про заработки прозой:
жук бронзовый спит в самом сердце розы.
В агатах разглядел себя, войдя в собор Святого Витта,
и смертною тоской от этого обвит ты.
И, будто Лазаря врасплох сиянье дня застало,
заметил: вспять идут часы еврейского квартала.
А тут и жизнь твоя пошла назад нежданно.
Ты поднимался на Градчаны.
И музыка играла в кабаках и чехи пели.
А вот среди арбузов ты в Марселе.
А вот в Кобленце ты в отеле «Великан».
Под локвою средь Рима (нет, не пьян).
А вот и в Амстердаме я с одной молодкой
уродливой, а я ее считал красоткой.
Тут в комнатах внаем, что на латыни Cubicula locanda,
к моей впритык еще была веранда —
три дня прожил тогда,
а после съехал в город Гауда?.
А вот в Париже тебе клеят срок:
украл, мол, значит, сядешь под замок.
Горюя и смеясь, поездил я по свету,
пока не перестал ложь принимать за чистую монету.
Я от любви страдал и в двадцать лет, и в тридцать лет своих.
Пускал на ветер время, жил, как псих.
На руки я свои гляжу с тоской
и зарыдать готов в момент любой
над тем, чего боялась ты, и над тобой.
Со слезами гляжу: эмигрантам судьба уезжать,
они молятся Богу, кормит грудью печальная мать.
Весь вокзал Сен-Лазар уже ими пропах.
Как волхвы, они верят в звезду в небесах.
Верят, что в Аргентине им всем улыбнется удача,
богачами вернутся домой, не иначе.
Тот одеяло красное, тот сердце взял в путь дальний.
И одеяло, и мечты – все это нереально.
А кое-кто из них останется в Париже.
На улицах Ростовщиков и Роз я их в трущобах вижу.
Под вечер выйдут подышать из тесных клеток,
но, словно в шахматах фигуры, ходят редко.
Евреев много там вдобавок.
И в париках их жены бледные сидят в глубинах лавок.
Вот кофе за два су берешь у стойки бара
среди тебе подобных парий.
А ночью в ресторан большой зашел ты.
Тут женщины не злюки, да все в своих заботах.
Уродливая тоже любовью мучила кого-то.
У этой вот отец – судебный пристав с Джерси-островка.
Хоть рук ее не вижу, шершавые, наверняка.
Весь в шрамах, вызвал жалость ее живот.
Я к ней снижаю свой с улыбкой жуткой рот.
А поутру один шагаешь улицами сонными.
Молочники гремят бидонами.
И ночь уходит прочь прекрасною мулаткой,
заботливою Леей и Фердиной гадкой.
И жгучую, как жизнь, пьешь водку.
Да, это жизнью обжигаешь глотку.
К себе домой в Отой идешь скорее,
уснуть под идолами Океании, Гвинеи.
Ведь это те ж Христы, хоть форма и другая.
Христы, что смутные надежды пробуждают.
Прощай, прощай.
И глотку солнцу перерезал неба край.
Zone
меня уж не полюбит никто и никогда.
В эпоху старую постригся б в монастырь,
да стыдно мне теперь молиться да читать Псалтырь.
Смех над собой потрескивает, как огонь в Аду,
и зубоскальства искры позолотили жизни глубину.
Жизнь, как картина в сумрачном музее.
Порой, зайдя в музей, я на нее глазею.
Навстречу женщины в кровавом багреце,
так уже было у любви в конце.
Но ты, вечерним заревом объят,
не хочешь вспоминать любви закат —
как в языках огня Нотр-Дам ты видел в Шартре – Святого
Сердца кровь все затопила на Монмартре.
Мне тошно от благочестивых слов.
Позорная болезнь меня грызет – любовь.
Но образ есть во мне и с ним переживу я
свою тоску-печаль, бессонниц пору злую.
Вот ты на берегу у средиземных вод.
Лимонные деревья тут цветут весь год.
С тобой на яхту сели прокатиться
друзья из Турбии, Ментоны, Ниццы.
Ужасный осьминог всплывает из глубин,
резвятся рыбки: в каждой образ – Божий Сын.
Вот в Праге вы сидите в ресторане:
и роза на столе, и ты от счастья пьяный.
Ты позабыл про заработки прозой:
жук бронзовый спит в самом сердце розы.
В агатах разглядел себя, войдя в собор Святого Витта,
и смертною тоской от этого обвит ты.
И, будто Лазаря врасплох сиянье дня застало,
заметил: вспять идут часы еврейского квартала.
А тут и жизнь твоя пошла назад нежданно.
Ты поднимался на Градчаны.
И музыка играла в кабаках и чехи пели.
А вот среди арбузов ты в Марселе.
А вот в Кобленце ты в отеле «Великан».
Под локвою средь Рима (нет, не пьян).
А вот и в Амстердаме я с одной молодкой
уродливой, а я ее считал красоткой.
Тут в комнатах внаем, что на латыни Cubicula locanda,
к моей впритык еще была веранда —
три дня прожил тогда,
а после съехал в город Гауда?.
А вот в Париже тебе клеят срок:
украл, мол, значит, сядешь под замок.
Горюя и смеясь, поездил я по свету,
пока не перестал ложь принимать за чистую монету.
Я от любви страдал и в двадцать лет, и в тридцать лет своих.
Пускал на ветер время, жил, как псих.
На руки я свои гляжу с тоской
и зарыдать готов в момент любой
над тем, чего боялась ты, и над тобой.
Со слезами гляжу: эмигрантам судьба уезжать,
они молятся Богу, кормит грудью печальная мать.
Весь вокзал Сен-Лазар уже ими пропах.
Как волхвы, они верят в звезду в небесах.
Верят, что в Аргентине им всем улыбнется удача,
богачами вернутся домой, не иначе.
Тот одеяло красное, тот сердце взял в путь дальний.
И одеяло, и мечты – все это нереально.
А кое-кто из них останется в Париже.
На улицах Ростовщиков и Роз я их в трущобах вижу.
Под вечер выйдут подышать из тесных клеток,
но, словно в шахматах фигуры, ходят редко.
Евреев много там вдобавок.
И в париках их жены бледные сидят в глубинах лавок.
Вот кофе за два су берешь у стойки бара
среди тебе подобных парий.
А ночью в ресторан большой зашел ты.
Тут женщины не злюки, да все в своих заботах.
Уродливая тоже любовью мучила кого-то.
У этой вот отец – судебный пристав с Джерси-островка.
Хоть рук ее не вижу, шершавые, наверняка.
Весь в шрамах, вызвал жалость ее живот.
Я к ней снижаю свой с улыбкой жуткой рот.
А поутру один шагаешь улицами сонными.
Молочники гремят бидонами.
И ночь уходит прочь прекрасною мулаткой,
заботливою Леей и Фердиной гадкой.
И жгучую, как жизнь, пьешь водку.
Да, это жизнью обжигаешь глотку.
К себе домой в Отой идешь скорее,
уснуть под идолами Океании, Гвинеи.
Ведь это те ж Христы, хоть форма и другая.
Христы, что смутные надежды пробуждают.
Прощай, прощай.
И глотку солнцу перерезал неба край.
Zone