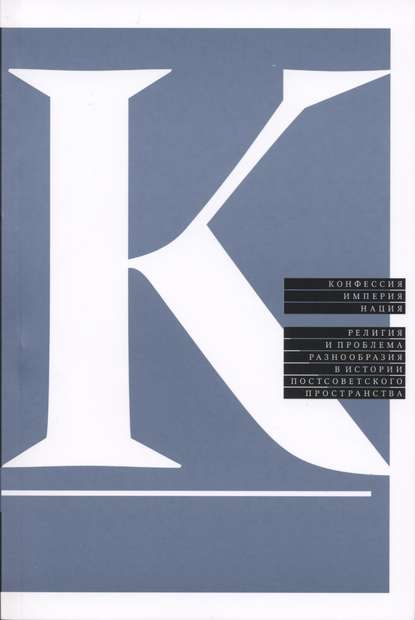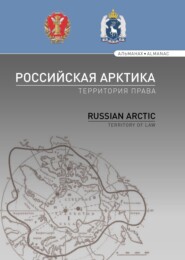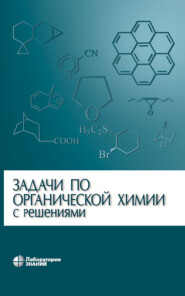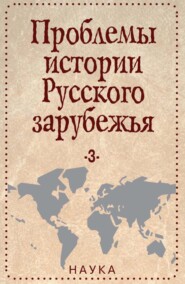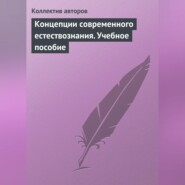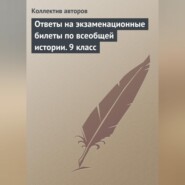По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И говорила Нино Вахтангу: «Ну, а теперь подойди к царю и прими дары свои». Предстал он пред царем и облобызались они взаимно, и (царь) указал ему место на престоле своем и посадил его рядом. <…> и сказал кесарь: «Коли желаешь получить от меня венец, дай обещание тому, кто вознесся над нами, что будешь воевать против его врагов, и возьми у него венец». Взглянул Вахтанг и узрел крест, на раменах которого был венец, и вид креста вверг его в особый трепет, ибо страшен был ужас его, и замолк. <…> И кесарь вытянул руку, снял с креста венец и возложил тот венец на главу Вахтанга. И стали выходить, а епископ возвестил <…> «И получишь венец мученичества» (ЦВГ: 74).
«Царь небесный» является Вахтангу в образе Креста, и Вахтанг получает двойную легитимацию на царство: от небесного царя и от византийского императора. С другой стороны, Вахтангу предрекается венец мученика. Aмбивалентность венца как символа царской власти и мирской славы, с одной стороны, и венца мученика как символа небесной славы – с другой, является выражением двойной семантики победы, соединяющей полюса небесной и земной славы. Эта двойственная семантика представлена также в коронационном ритуале и наставлении царя Мириана. Возможность подобной инверсии обеспечивает та же символическая логика, что лежит в основе инверсии мученичества и победоносничества в иконографии св. Георгия. Ключом к пониманию амбивалентности венца в ЦВГ могут послужить слова императора: «Коли желаешь получить от меня венец, дай обещание тому, кто вознесся над нами, что будешь воевать против его врагов, и возьми у него венец». Акт, оправдывающий венчание, легитимирующий его, для средневекового грузинского историка заключается в «труде» (подвижничестве) во славу креста, но в политическом пространстве. Результатом этих трудов может стать как небесная, так и земная слава. ЦВГ репрезентирует Вахтанга как воина Христа, деятельность которого направлена на реализацию его видения. Суть этой деятельности раскрывается в следующем эпизоде: вместе с персидским царем Вахтанг отправляется в индийский поход; противоборству с царем синдов предшествует диалог, в котором синдский царь убеждает Вахтанга, что рано персидский царь обратится против него. Синдский царь рассуждает с точки зрения «реальной» политики, Вахтанг же отвечает с точки зрения Heilsgeschichte: царь синдов, по его мнению, не видит истинных мотивов Вахтанга, так как не ведает «жизни духовной». Истинным же мотивом Вахтанга, согласно ЦВГ, являлось спасение христиан и Иерусалима:
В сей мир я пришел не за славой его (не за мирской славой), не ради службы персидскому царю, но ради служения создателю непостижному, троице единосущной, творцу мира, ради славы присно и по веки веков. Ибо появлением своим здесь я спервоначала спас Иерусалим – град святый (ЦВГ: 88).
Соглашаясь принять участие в индийском походе, Вахтанг совершал богоугодное дело, так как спасал христиан и Иерусалим от персидского нападения, направив персидские завоевания в другое русло. Центральным мотивом подвижничества во славу креста и «создателя непостижимого» здесь служит спасение (освобождение) священного города Иерусалима. В данном случае грузинский историк пользуется той же логикой, на которой строилась политическая теология крестоносцев[196 - Тварадзе А. Указ. соч. С. 32.].
Историк Вахтанга, актуализируя амбивалентность его образа как мученика-победоносца, подчиняет земную славу небесной, склоняясь скорее к агиографической, чем к легендарной парадигме жизнеописания. Последовавшую войну с персами воображаемый Вахтанг интерпретирует как религиозную: «Ведай, что не ради наложения на нас дани воюют они против нас, но из стремления отринуть нас от Христа». Это убеждение определяет модель его поведения: «жизни моей я предпочту погибель во имя Христа, дабы обрести царство Божие, заповеданное тем, которым сказано: „Кто положит голову во имя мое – тот обретет Его“» (ЦВГ: 93). «Легитимация» поражения – неудача в политическом пространстве – вербализируемая католикосом Петром, основывается на парадигме Иова:
Ты явил дела, каковых не являл никто из рода твоего в помощь пособникам Христа. Ибо мудрости твоей ведомо, как сей супостат, испытывающий нас, стремится отвести нас от Господа, подобно Иову. Ибо Господь предаст погибели невзлюбивших его, а возлюбленных своих сподобит Господу. Живи по завету Господнему, дабы не погибнуть нам (ЦВГ: 93).
Cмерть царя-мученика строится на модели imitatio christi: смертью царь спасает свой народ и свою страну. В ЦВГ мы видим зарождение культа царя-мученика, неизвестного в Византии, но популярного в «византийском содружестве»[197 - Obolensky D. Op. cit. P. 308–313.]. «И содрогалась земля от звуков стенаний, верующий люд молился за душу желанного царя, во славу Христа убиенного» (ЦВГ: 95). Следующая фраза католикоса Петра: «И не одна только Картли будет предана разорению, но и Иерусалим, что явлен матерью всех детей крещения» (ЦВГ: 93), – позволяет перенести образ мученичества не только на царя Вахтанга, но и на Картли. Картли как топографический локус включается в святое пространство, разделяя судьбу Иерусалима. С другой же стороны, как было показано в первой части применительно к категории святости, создается возможность переноса смыслов, связанных с испытанием Иова и мученичеством за веру, на Картли.
ЦВГ открывает в сборнике «Картлис Цховреба» галерею портретов идеальных царей: Вахтанг Горгасал – Давид Возобновитель – Тамара. Для последующих летописцев Вахтанг стал одной из наиболее знаковых фигур, что подчеркивает преемственность концепции политической теологии для всего сборника «Картлис Цховреба». Однако следует отметить и существенные различия: в ЦВГ политическая составляющая полностью подчинена «теологической», земная слава в нем если не полностью игнорируется, то по крайней мере подчинена концепции небесной славы. В амбивалентном образе святого воина, объединяющем ипостаси мученика и победоносца, превалирует образ мученика, и именно в силу этого портрет Вахтанга приобретает скорее агиографические черты.
Подобно ЦВГ, последующие тексты сборника «Картлис Цховреба» (ЦМД, «Цховреба Mепет-Mеписа Tамариси» – Житие царицы цариц Тамар, далее ЦМТ, и «Историани да Aзмани Шаравандедтани» – «История и восхвaление венценосцев», далее ИАШ) также подчиняют мирскую славу небесной. Так, в Житии царя царей Давида Возобновителя мирская деятельность передается термином «квенани мокалакеобани» – дольнее подвижничество, которое царь Давид после своей смерти меняет на горнюю обитель. Тем не менее мы можем реконструировать средневековое понятие земной славы. В чем же выражается мирская слава в «Картлис Цховреба»?
В своем завещании Вахтанг Горгасал обращается к своему народу: «Вы, исконные жители Картли, поминайте добром деяния мои, ибо в доме моем вы изначально сподобились вечному крещению, и я воплощенным величием моим восславил вас в роде моем». Иными словами, картлийский народ принял крещение от дома Вахтанга, а сам Вахтанг принес Картли «земную славу». Слова Вахтанга «хорциелебрита дидебита гадидет тквен» (возвеличил вас мирской славой, мирским величием) обращены к картлийской знати; слово дидеба, которое, в первую очередь, означает небесную славу (благодарное прославление святости, доброты и благ господних), в данном контексте, согласно словарю Сулхана-Саба Орбелиани, может означать милости, богатства; слово млеваноба – мирскую радость (или земное счастье), обретенную благодаря Божьей или царской милости[198 - Орбелиани С.-С. Словарь грузинского языка. Тбилиси, 1966. Кн. I. С. 218, 490 (на груз. яз.).].
Как же представляли себе проявление Божьей милости и идеальную монархию средневековые летописцы «Kартлис Цховреба»? Царь, согласно «Kартлис Цховреба», «гвтивгвиргвиносани» (венчан Богом), он царствует милостью Божьей (такова, например, и византийская формула императорской власти). Боговенчанность царя выражается в «Картлис Цховреба» в ритуале получения царского венца от животворящего креста, который, как следует из видения Вахтанга Горгасала, является символом Христа. Этот ритуал коронации, который мы встречаем в «Цховреба Картвелта Mепета» («Житие грузинских царей», далее ЦКМ) и ЦВГ, не соответствующий реальному ритуалу, на самом деле является метафорическим выражением формулы, озвученной в житии царицы Тамары: «Христос, Боже мой единый, бесконечный царь неба и земли, тебе препоручаю это царство, которое тобою мне было вверено…» (ЦМТ: 49). Залогом Божьей милости является праведность монарха, выраженная как страх перед Богом. Давид Возобновитель: «Этот страх Господень стяжал с юности своей и с возрастом его вырос и во время свое таковые плоды изнес, которыми обоюду житие свое украсил, которыми увенчал дела свои, которыми устроил плотское и управил духовное» (ЦМД: 292). Тамарa, по словам историка, обладала «началом всех благ – а именно: проникнута была страхом пред всевышним и служила Богу верно. И только поэтому она достигла того, чего никто на свете не достигал» (ЦМТ: 53).
Праведность царя включает в себя не только «личный» аспект, который выражается в страхе перед Богом, но и политический: так, Давид был строителем не только многочисленных церквей и монастырей «не своего лишь царства, но и Греции, Святой Горы и Боргалити (Болгарии), а также Сирии, и Кипра, Черной Горы, Палестины…» и Иерусалима (ЦМД: 295), но и поборником и распространителем христианства на всем христианском Bостоке.
Сколько церквей, поруганных язычниками, освятил в дом Божий, сколько родов языческих обратил в сынов святой купели и примирил со Христом. И положил к тому большую ревность, дабы всякую весь похитить у диавола и усвоить Богу, чем приобрел благодать апостольства, подобно Павлу и подобно великому Константину (ЦМД: 295–296).
Семантика праведности монарха сближает понятия небесной и земной славы, перенося категории божественной справедливости в политический контекст, что, со своей стороны, создает возможность aequipara t io царя и Бога. B житии царя Давида царь является носителем божественной справедливости. Давид, согласно историку, «как Бог, право судил паству свою» (ЦМД: 294); царство Давида изображается как царство справедливости и закона:
ибо ни селянин какой или горожанин, ни воин, никакое достоинство и возраст не дерзали ходить превратно, ибо всякому человеку был порядок, всякому канон, всякому честь, и самим тем блудницам – всякой боязнь, всякой страх и управа к путям божеским и мирным (ЦМД: 297).
Таким же образом изображено царство Тамары, которая «как солнце пускала на всех свет своего ореола, относясь ко всем с равным почетом. Так через милости, которыми наделяла всех, она подвигала Бога на милость, так берегла время и так усиливала друзей, однако, не чем-нибудь обретенным ложью и несправедливостью» (ЦМТ: 51). Давид Возобновитель сравнивается с Богом по размаху своей деятельности – «эти великие дела, от Бога лишь возможные, так легко управил этим, как никто легко не управил бы так» (ЦМД: 297), а Тамара прямо называется «вместе со святой троицей образующей четверицу» (ИАШ: 18).
Таким образом, земная слава является не целью, а следствием, результатом Божьей милости, залогом которой выступает базирующаяся на агиографической парадигме праведность монарха[199 - В данном контексте особенно важно изображение смерти монарха: смерть Давида 24 (8) января 1125 г. летописец интерпретирует как Божью милость после завершения всех задуманных дел: «Так же во время благоприятное и подобающее призвал Бог возлюбившего Его и вечно желавшего навечно царствовать у Него. <…> Ибо во время зимнее, при мире и покое всего царства, не во внешней оконечности, но посреди своих царств, в местах, им же самим наперед учиненных для упокоения и успения, как бы дремой некой благообразной уснул с отцами своими. И самого по себе этого довольно для извествования усвоенности его Богу» (ЦМД: 300). Также и царица Тамара «провела дни свои в радости» и «в двадцать три года (правления) сумела заключить доблестное царствование во всех его проявлениях», оставив после себя наследников «прекрасных, желанных, каких все хотят иметь, достойных восхваления, имеющих царственный облик, разумом исполненных, украшенных мудростью и преисполненных всеми доблестями» (ЦМТ:53). В грузинской политической теологии Бог призывает к себе монарха после завершения всех задуманных дел (реализации программы государственности). Само же царство, оставленное наследникам, изображается как царство мира, справедливости и закона.].
Как мы смогли убедиться, в ЦМД, ЦМТ и ИАШ, так же как в ЦВГ, концепция земной славы подчинена небесной, однако выражена более конкретно: с одной стороны, земная слава – это отсвет небесной, перенос райского состояния на политический контекст, выраженный в идее праведной монархии. С другой стороны, она имеет конкретное знаковое и материальное выражение: в ЦМД это «многие вышние от Бога милости, поспешества, одоления и победы… и царства, страны, города и крепости, которые Бог отдавал ему» (ЦМД: 285). О царице Тамаре говорится, что «путем соблюдения во всем заповедей Божьих она обрела милость Божью, и благословил Бог жизнь ее и умножил плод и колосья ее. <…> Скрасил Господь дни ее жизни честью и времена ее миром» (ЦМТ: 53).
В ЦМД мы также встречаем внешнеполитическое выражение концепции земной славы, своеобразную внешнеполитическую программу государственности, в глазах историка Божьей милостью реализованной Давидом Возобновителем:
Ибо султана посадил данником себе, царя же греческого, как домашнего своего. Низложил язычников, уничтожил варваров, к послушанию привел царей и к рабству – государей, в бегство обратил арабов, в добычу – измаильтян, пылью сотворил персов и смердами – князей их (ЦМД: 294).
Идея Божьей милости в грузинской политической теологии следует библейской парадигме и воплощается в государстве царя-праведника, побеждающего врагов и живущего в мире с соседями. Согласно библейской парадигме избранности, милость Божья выражается в благословенном умножении, под которым может подразумеваться умножение земных благ. Концепция земной славы в КЦ манифестируется на двух уровнях – идеальном, более или менее общем для христианской политической теологии, выраженном в идее божественности монарха, который «реализует» царство Божье на земле, и более конкретно-политическом, задающем программу идеальной грузинской государственности. Этот аспект в его связи с внешнеполитической легитимацией я обнаруживаю в скрытой полемике с византийской имперскостью и с идеей имперскости вообще. Об этом речь пойдет в следующей части.
III. Стратегии внешнеполитической легитимации
Эту часть я начну с внешнеполитического позиционирования идеализируемого средневековыми историками царства Давида Возобновителя и Тамары. Грузинская средневековая политическая теология изображает идеального монарха святым воином, воплощающим праведность и справедливость. При этом образ святого воина, как в выше рассмотренном случае св. Георгия, позволяет актуализацию обеих ипостасей – мученика и победоносца – или даже совмещение этих ипостасей в одном тексте, как в случае с Вахтангом Горгасалом. Начиная с истории царя царей Давида «Kартлис Цховреба» актуализирует образ победоносца, а ИАШ прямо сравнивает Георгия III, отца царицы Тамары (1156–1184), со св. Георгием:
воистину восприявший подвиги и венец первомученика [Георгия]: если он победил одного дракона, этот непобедимый воин, тезка Георгия [не только по имени], но и по правдивости ума, поразил многое множество аспидов и ехидн (ИАШ: 21).
При этом, как мы уже смогли убедиться, метафизические категории зла и добра могут переноситься на политический контекст. Если применение христианских символов в контексте политического противостояния с мусульманскими (нехристианскими) странами не создает особых проблем, особую важность приобретает возможность применения образов христианской политической теологии для описания конфликтов с христианскими, в первую очередь православными, странами (с Византией в ХI–XIII веках, с Россией в XIX веке). Эта возможность связана с серьезными культурно-семантическими сдвигами и требует особого объяснения.
В грузинской литературе следы латентного антивизантинизма можно обнаружить уже в эпоху эмансипации Грузии от Византии, то есть с конца XI века (после поражения византийцев при Манцикерте в 1071 году и ослабления византийских позиций на востоке). Термин «антивизантинизм» не совсем точно выражает смысл проблемы, которая после основания грузинского царства в результате объединения абхазского и картлийского царств в 1008 году состояла в стремлении к большей политической самостоятельности и расширению царства за счет северо-восточных владений империи, а начиная с Давида Возобновителя – и в попытках культурного соперничества с Византией на востоке[200 - ЦКМ и ЦВГ однозначно ориентированы на Bизантию. ЦКМ говорит о (политической) легитимации грузинского христианства Восточно-римской империей: царь Мириан, принявший христианство, посылает послов императору Константину, тот, в свою очередь, присылает в Картли часть Животворящего Креста, священников и каменщиков для возведения церквей. Таким образом, летопись реагирует на политическую переориентацию Картли с Ирана на Византию. В ЦВГ священник Петр называет поход Вахтанга совместно с персами на Византию войной против «детей Божьих», а греки «суть племя Господне по обету», сам же Вахтанг перед смертью завещает «не забывать любви к грекам» (ЦВГ: 95). Зависимость грузинских княжеств от Византии выражается также в византийском придворном титуле куропалата (позже также севаста и кесаря), которые грузинские «эрисмтавары» (правители Картли с VI в. по 888 г.), а затем цари носили начиная от VI в. до конца XI в. «Летопись Картли», повествующая о взятии Тбилиси императором Ираклием (610–641) в 627 г. и его победе над эрисмтаваром Степанозом, объясняет поражение Степаноза его связью с персами. В некоторых грузинских летописях присутствует латентный антивизантинизм, хотя и в этих случаях средневековые историки сталкиваются со сложностью легитимации.]. К примеру, ИАШ называет византийского императора «царем всего Запада и Греции» (ИАШ: 27), в то время как сама Грузия «локализируется» историком на востоке. Конечно, это соперничество следует рассматривать в контексте культурной зависимости и ориентации Картли на Византию начиная с VII века (то есть со времени церковного раскола грузин и армян в 607 году и переориентации грузинских царств и княжеств с монофизитства на халкедонитство). Средневековая Грузия IX–XIII веков – страна «византийского содружества» (Оболенский), признающая первенство византийского императора. Именно на этом фоне я рассмотрю несколько примеров оспаривания Грузией первенства Византии.
Одним из редких текстов «Картлис Цховреба», прямо манифестирующих антивизантинизм, является «Житие и повествование Багратонианов» Сумбата Давитис-дзе. Легитимационная стратегия в нем строится на изображении Bизантийского императора отступником. Смерть императора Константина VIII в ходе войны с Багратом IV объясняется Божьим гневом:
И тогда как Восток, охваченный волнением, испытывал невзгоды, настиг гнев молниеносно безрассудного царя Константина, наподобие неверного Юлиана, за немилость к царю нашему Баграту, за опустошение страны (Сумбат: 43).
Изображение Константина отступником позволяет Сумбату представить грузин мучениками за веру.
И они, как преданные и истинные мученики Божьи, были готовы пожертвовать собой и жертвовали собой ради земных господ своих, и были готовы пролить кровь свою, согласно словам апостолов, и мужались (Сумбат: 43).
Именно в свете сказанного следует рассматривать интерпретацию иконографии св. Георгия Георгием Маисурадзе, согласно которому распространенные в Грузии иконы, на которых св. Георгий убивает Диоклетиана, выражали направленную против Византии политическую теологию грузинских царей времен войн Георгия I (1014–1027) и Баграта IV (1027–1072) с Василием II (976–1025) и Константином VIII (1025–1028)[201 - Maisuradze G. Op. cit. S. 97.]. Изображение византийского императора отступником позволяет распространять на него символы христианской политической теологии.
Признаками отхода от византийского влияния являются отказ Давида Возобновителя от византийских придворных титулов в конце ХI века и введенные им изменения в чеканке монет[202 - Монеты являются своеобразными индикаторами, позволяющими реконструировать политическую легитимацию эпохи. Именно в монетах находит выражение концепция легитимации византийского императора в качестве «наместника Христа» на земле. Начиная с Юстиниана II (685–695; 705–711), портрет императора на аверсе заменяется изображением Христа, уступая высший суверенитет небесному царю, а легенда victoria augustorum заменяется на rex regnatum. (Restle M. Kunst und byzantinische Mьnzprдgung von Justinian I. vis zum Bilderstreit. Athen, 1964. S. 12; цит. по: Belting H. Op. cit. S. 157). По Брекенриджу, «император, ответственный перед своим Хозяином, предстает перед людьми одновременно как божественный помазанник на земле и как апостол истинной веры, собственно православия» (Breckenridge J.D. The Numismatic Iconography of Justinian. N.Y., 1959. P. 19. Цит. по: Belting H. Op. cit. S. 157). Согласно ряду ученых, монета с изображением Христа на аверсе играет пропагандистскую роль и является определенной реакцией на арабские монеты, которые называют халифа Абул Аль Малика «наместником Аллаха» и «властителем православных» (Ibid. S. 158).]. В частности, изображавшуюся при предшественниках Давида (Баграте IV (1027–1072) и Георгии II (1072–1089) на аверсе грузинских монет Влахернскую Богоматерь впервые заменили изображением самого царя в византийском орнате с надписью «Христос, прославь Давида Царя абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян»[203 - Капанадзе Д. Грузинская нумизматика. Тбилиси, 1969. С. 66 (на груз. языке).]. Известна также монета, на аверсе которой помещена арабская надпись «царь царей Давид, меч мессии»[204 - Pеконструкция Капанадзе. Там же. С. 70.], которая фигурирует на грузинских монетах до царицы Русудан (1222–1245) (в женском варианте «поклонница мессии»). «Меч мессии», образ, восходящий к библейской апокалиптике, но также используемый в Евангелии от Иоанна, в первую очередь подразумевает божественную справедливость, однако имеет также сильные политические импликации[205 - Bennema C. The Sword of the Messiah and the Concept of Liberation in the Fourth Gospel // Biblica. 2005. Vol. 86. P. 35–58.]. Наказание неправедных, одна из функций меча мессии, в грузинском контексте прямо связывается с войной с «неверными». Царский меч как атрибут коронации вносится в алтарь и прислоняется к животворящему кресту, символически принимая от него силу[206 - Джавахишвили И. История грузинского права // Джавахишвили И. Сочинения. Тбилиси, 1984. Т. VII. С. 153 (на груз. яз.).]. Этот аспект также присутствует в образе меча мессии, который на монете фактически отсылает к ритуалу коронации. Внешнеполитический контекст появления на грузинских монетах меча мессии, неизвестного в Византии, и арабский язык надписи указывают на изменения политической концепции в направлении ее переориентации на восток – ибо именно восток (непосредственное мусульманское окружение) становится адресатом «послания» монеты[207 - Капанадзе Д. Указ. соч. С. 72.]. Поэтому грузинские монеты с середины царствования Давида Возобновителя до конца царствования Русудан вполне возможно рассматривать в контексте внешнеполитической легитимации: полемической формулой «меч мессии» грузинские цари пытаются оспорить (по крайней мере на «востоке») у Византии претензию на апостольство и защиту истинной веры. (Сюда же вписывается и демонстративная поддержка религиозных центров на всем христианском востоке; в ЦМД Давид как освободитель христианских земель от мусульман называется вторым Павлом и Константином). При наследниках Давида Возобновителя именно культурная и религиозная политика, пользуясь современными выражениями, ставится во главу угла во внешнеполитической риторике, что находит свое выражение и в монетах. Например, на монете царицы Тамары появляется арабская надпись «Царица цариц, величие мира и религии, Тамара, дочь Георгия, поклонница мессии» ; на монетах Георгия IV (1213–1222) – также арабская надпись «Царь царей, величие мира и религии, Георгий, сын Тамары, меч мессии»[208 - Там же. С. 105. Перевод Пахомова несколько неточен, слово «швенеба» переводится скорее как «украшение», а не как «величие».], а на монетах Русудан – «Царица царей и цариц, величие мира, царства и религии, Русудан, дочь Тамары, поклонница мессии, да возвеличит Бог победы его!»[209 - Там же. С. 105. Перевод Пахомова несколько неточен, слово «швенеба» переводится скорее как «украшение», а не как «величие».]
История царицы Тамары также прежде всего рисует ее защитницей религии, однако важно, что это происходит непосредственно перед завоеванием Константинополя латинянами в 1204 году, то есть на фоне упадка внешнеполитического значения Византии. Византийский император Алексей III Ангел (1195–1203), которого грузинская летопись называет «ангаром» (комментарий к тексту указывает не на ошибку [Ангар – Ангел], а на возможную интерпретацию [ангари – корыстолюбец]), отобрал у монахов «с Черной горы, из Антиохии и с острова Кипра, также и со Святой горы и из многих других мест» золото, данное им царицей Тамарой для монастырских нужд. «Когда об этом узнала царица Тамара, взамен послала на имя святых отцов золото в еще большем количестве и этим еще более посрамила дьявола» (ЦМТ: 46). Таким образом, мы еще раз сталкиваемся с изображением византийского императора как отступника от идеала христианского монарха. Немаловажно, что основание трапезундской империи Алексием I Комнином (1204–1222) при помощи царицы Тамары объясняется именно нехристианским поведением Алексея III:
Но разгневалась на греческого царя, отправила небольшое войско из Западной Грузии, и эти отняли у греков Лазику, Трапезунт, Лимон, Самисон, Синоп, Керасунд, Китиору, Амастриду, Араклию и все земли Пеблагонии и Понта, и дала их своему родственнику Комнену, сыну Андроника, который тогда сам находился у царицы Тамары, обретя у нее убежище (ЦМТ: 43).
Летописец, так же как и в тексте Сумбата, связывает завоевание Константинополя латинянами именно с «отступничеством» императора: болгарский царь, к которому бежал Алексей, высыпал перед ним великое множество золота и так сказал: «Вот, Алексей, предмет сей твоего желания, золото это бери вместо каких бы то ни было пищи и питья, так как из-за этого золота ты погубил царский дом христианский и развалил самодержавие греков». И так умер этот жалкий человек с голоду, лишенный помощи от Бога (ЦМТ: 46–47).
Что же помешало грузинской политической теологии оспаривать первенство у византийских императоров не только в сфере защиты религии, но также и в политической сфере на идеологическом уровне? В силу ряда обстоятельств, к которым я обращусь ниже, грузинской исторической литературе свойственна латентная антиимперскость. Если мы рассмотрим сюжет основания Картлийских царств, то увидим одну парадигму, развернутую в двух сюжетах:
1) основание первого мифического Грузинского царства мифическим эпонимом грузин Картлосом связано с восстанием сыновей Таргамоса (общего предка кавказских народов согласно «Житию грузинских царей») под руководством старшего брата Хаоса (мифического эпонима армян);
2) основание первого иберийского царства связано с восстанием Парнаваза из рода Картлоса, наследника картлийских мамасахлисов, против поставленного Александром Македонским наместника Азона.
Таким образом, одним из важных структурирующих элементов сюжета является отпад от универсальной империи, в первом случае – вавилонской, а во втором – эллинской Александра Македонского. Противостояние превосходящей по политической силе империи является структурирующим звеном исторического сюжета, налагающим определенный отпечаток на дальнейшее осмысление идеи грузинской государственности.
Для интересующего нас периода важен аргумент Дмитрия Оболенского. Интерпретируя войну царя болгар Симеона с Византийской империей с точки зрения политической теологии, Оболенский пишет:
Политическая мысль, по крайней мере в Восточной Европе, находилась во власти идеи единой универсальной империи с центром в Константинополе. По определению эта империя была уникальным и всеохватным институтом. И вот Симеон, вдохновленный неудержимыми амбициями, убежденный в естественном превосходстве всего византийского и хорошо знающий восточно-римскую политическую философию, избрал единственный логический для него курс – попытаться стать хозяином расширенной Византийской империи, которая бы включала и Болгарию. Для достижения этой цели он должен был захватить Константинополь и взойти на императорский трон[210 - Obolensky D. Op. cit. P. 105.].
Амбиции грузинских царей не распространялись так далеко даже после падения Константинополя в 1204 году. Однако в грузинских летописях встречаются следы более или менее скрытой полемики с идеей имперскости. Отсутствие имперской амбиции, даже в период расцвета грузинской государственности, требует, на мой взгляд, более детального рассмотрения и интерпретации.
В Житии царя царей Давида встречается несколько странный пассаж, в котором историк сравнивает Давида с Александром Македонским:
И если бы Давид персидское имел царство, или греческую и римскую силу, или других великих царств, тогда бы увидал ты деяния его, превыше других хваленых! (ЦМД: 298).
Аналогичную мысль высказывает автор ИАШ по отношению к царице Тамаре: «не то что одна Грузия, но и весь мир был недостоин царствования Тамары» (ИАШ: 88). Имплицитную формулу, содержащуюся в историях Давида и Тамары, можно эксплицировать следующим образом (разрешая тем самым апорию имперскости и антиимперскости): степень праведности и примерности этих монархов делает их достойными владеть миром, однако библейский императив, превалирующий в мышлении средневековых грузинских историков, ориентация на библейскую модель вступают в конфликт с идеeй империи, которая служит скорее негативной, а не идеальной моделью.
Процитированные выше высказывания интересны не только и не столько свойственной им идеализацией Давида и Тамары, но, на мой взгляд, в первую очередь тем, что содержат имплицитную формулу идеальной грузинской государственности, базирующейся на скрытой полемике с Византийской и в более широком смысле – с имперской моделью. В этом свете важен следующий пассаж из ЖЦТ: во время коронации Тамаре «поставили счастливый трон вахтанговский, престол давидовский, который прежде для луны приготовил царь царей Саваоф Элогим, чтобы владеть миром от моря до моря и от реки до края земли» (ЦМТ: 28). Ключом к интерпретации данного пассажа является отсылка к 71-му псалму о царе Соломоне:
Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю; во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна; он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли; падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах; цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему; ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет; от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его; и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его; будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле; будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем племена, все народы ублажат его (Пс 71: 6–17).
Эта отсылка важна в нескольких смыслах: во-первых, она актуализирует династический миф грузинского царского рода Багратиони, объявляющий библейского царя Давида своим прямым предком; во-вторых, что более важно, содержит программу идеальной государственности, с которой сравнивается царство Тамары; в-третьих, имплицитно сравнивает царство Тамары с соседней Византией. Подтверждение этому мы находим в части жития, где историк подводит итоги царствования Тамары: здесь библейский образ царя Cоломона (с филологической точки зрения, которая здесь представлена быть не может, историк разворачивает на протяжении всего повествования сложную метафору: Давид Возобновитель – Тамара/Давид – Соломон), присутствующий в начале царствования, уже «реализован исторически», однако этот образ дополняется некоторыми важными штрихами, позволяющими шире рассмотреть контекст полемики с идеей византийской имперскости и имперскости вообще.
Она (Тамара) не старалась остаться без соседей (то есть не пыталась покорить мир); она и дома к дому не присоединяла, и земли к земле чужой, а удовлетворялась собственными родовыми имениями, чтобы не считали ее несправедливой и падкой на стяжание. Соответственно с тем, как высшая правда судила всех правых, она тоже не страхом действовала на соседей, а сама защищала их от устрашителей и даже делала их самих страшными для врагов. Далеко отбросила ненасытность, свойственную пиявке, не делала ядовитыми плоды и вредным содеянное. Она восседала как судья меж соседствующими царями, следила, чтобы никто не начинал войны или пытался набросить ярмо насилия друг на друга. И, ставя себя им в пример, считалась вторым Соломоном среди царей (ЦМТ: 52).
Отсылка к книге пророка Исайи создает пространство для антиимперской интерпретации: