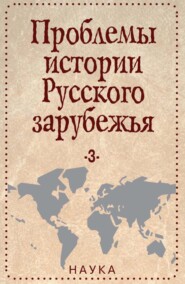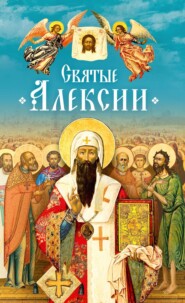По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От Даниэля Дефо до юного Кольриджа, от Ватто до Гойи, от Фишера фон Эрлаха до Камерона мы видим картину цветущего разнообразия и открытости перспектив в области искусств, даже в тех случаях, когда внешние обстоятельства реального социального бытования выглядят довольно тягостными. Потому и можно уверенно утверждать, что художественная культура столетия была по-настоящему светлой. Она излучает некие особые флюиды. Художники то и дело упираются в трудные условия существования, в безнадежную действительность, но все равно дышат полной грудью по той причине, что им даны многообразные возможности творческой самореализации. Доступный арсенал художественных средств был небывало богат и обилен, открыт и доступен. Чувство близости или достижимости новых времен и иных берегов было острым и волнующим. Будущее неотвратимо, но оно пока еще ничем себя не запятнало, его кровавые безумства и тупые ограничения еще не показали свои лица. Перемены еще не обманули, еще не обрушились на головы людей те разочарования и удары истории, которые с такой силой обрушились на людей XIX века, а затем и на людей XX столетия.
Мировоззрение зрелого и «упертого» Просвещения было в высшей степени ограниченным, закостеневшим и в этом смысле «антихудожественным», но художники без особого напряжения выскальзывали из хватки этого Голиафа. Было много приемов и ходов, чтобы не оказаться запертым в клетке новой воинствующей идеологии. Многие художники интересовались и увлекались идеями Просвещения, но догматическими почитателями такового не становились.
Приведу единственный, но особо показательный пример: творческая и культурная стратегия Гете. Подобно многим другим деятелям искусств своего времени, он очень интересовался новыми эмпирическими науками и верил в прогресс и разум. Он был человек Нового времени, притом европеец до мозга костей. Но он с легкостью уворачивался от уже готовой идеологической западни и самым непринужденным образом увлекался и интересовался разного рода далекими перспективами и альтернативными идеями и учениями.
Он погружался не только в рыцарское Средневековье, но и в изучение культур, религий и эстетик Востока, интересовался символикой масонов и розенкрейцеров, их мистической натурфилософией. Работа над «Фаустом» (которая началась в годы молодости художника и продолжалась несколько десятилетий) отразила эти интересы. Поэт в течение многих лет изучал Коран и любил подчас цитировать его (возможно, первый подобный случай в культуре христианского Запада). В 1814 году он записал в качестве своей творческой программы: «Превзойти стихами перса». Начиналась работа над мудрой и всемирной книгой, которая получила название «Западно-восточный диван». Дело не в том, что Гете тяготел к мистицизму как таковому или к исламскому Востоку как таковому. Мастер прежде всего тяготел к полноте возможностей творческой реализации[67 - Ср.: Брагинский К. С. Западно-восточный синтез в «Диване» Гете и классическая поэзия. М., 1963; Аникст А. А. Гете и Фауст. От замысла к свершению. М., 1983.].
Многогранные и универсальные, неуемные люди искусства просто не могли пропустить такой интересный и многообещающий предмет, как неофициальный или неевропейский духовный опыт. Тайные учения и эзотерические ритуалы, священные книги далеких народов – теперь без этого нельзя. Человек современный, человек беспокойный и динамичный не может игнорировать хорошую возможность расширить свой горизонт и заглянуть в новые, манящие измерения жизни. Архитекторы, писатели, живописцы, музыканты Франции, Германии, Англии и России были теснейшим образом связаны с масонством, а новый «ориентализм» превращается в действенный компонент интеллектуальной и художественной жизни Запада.
Многообразие духовного опыта, разных учений о человеке и обществе, разных представлений о высоких смыслах и главных ценностях – это средства освобождающие, расширяющие горизонт и помогающие найти дорогу в нелегких исторических и социальных условиях.
Искусство XVIII века было светлым и праздничным не в том смысле, что оно только и делало, что улыбалось да радовалось. Ему было внятно особого рода мыслеощущение: что бы ни случилось с человеком, каким бы ни было безнадежным общество, как бы ни плохо повернулась история, это еще не финал. Не тупик. Выход возможен. Перспективы не исчерпаны. Впереди много удивительного и волнующего.
Здесь не ставится задача описать альтернативно понимаемую «историю свободного творчества» (она же «история художественной ауры») сколько-нибудь систематическим образом. Я предлагаю наброски и выборочные прикидки, не более того. Чтобы рассказать о том, как реализуется свобода творчества в произведениях крупнейших художников Нового времени, понадобится целая книга. Она пишется. Там получают свое место Леонардо, Брейгель, Микеланджело, Рембрандт, Веласкес. И Сезанн, и Александр Иванов, и Репин. Не обойтись без Шекспира и Сервантеса, без Пушкина и Гоголя, без Толстого, Достоевского и Чехова.
На уровне фактологии история искусства Нового времени переживает постоянные встряски, колебания, повороты, ускорения, смешения «вчера» и «завтра» и другие симптомы неудержимой гонки по трудной трассе, постоянного пересматривания достигнутых результатов. На уровне смыслового послания искусство этой большой эпохи овевает нас воздухом открытых горизонтов. Шедевры Нового времени наделены особой разбуженностью внутренней жизни, ясностью сознания и готовностью к поиску, развитию, перемене, к дерзким совмещениям, острым экспериментам, к погружению в глубины архаики, одним словом – к живой жизни. Если назвать такие излучения «аурой», то это будет правильное слово.
Языком победы искусство повествует о поражениях и тупиках, о «неудаче творения» и обреченности человеческой особи. «Герою весело», der Held ist heiter, как выразился Фридрих Ницше; и это при том, что герою вовсе не гарантированы победы. Обреченному герою тоже в известном смысле весело при полном сознании своей обреченности. В этом ключе я воспринимаю и вызывающую, трубную «Клятву Горациев» Луи Давида, и апокалиптические картины Тернера, и близкую к ним «Гибель Помпеи» Карла Брюллова, и «народнические» картины Репина, и последние автопортреты Ван Гога, и, наконец, «Авиньонских девиц» Пикассо. История искусства Нового времени есть в известном смысле именно история такого рода ауры. Такая история вовсе не отменяет ни историю стилей, ни историю идей. Она сильно добавляет им жизни.
Вы спрашиваете, как было дело в двадцатом веке? Такого живописного и пластического мастерства, какое мы видим в шедеврах прошлого, в двадцатом веке стало явно маловато. Кому по силам писать, как Веласкес, как Ван Гог, как Рембрандт? Вопрос риторический. Предки владели «языком победителей» в области живописи и графики, а их потомки – нет. Во всяком случае, такого не видно.
Вероятно, критерий «языка победителей» сохраняет свою значимость и в двадцатом веке, и в двадцать первом. Однако случилось перемещение качества этого языка в другие виды искусства. Великая живопись осталась в прошлом. Это не фатально. Хватит с нас просто хорошей живописи двадцатого века – Кандинского и Ларионова, Эдварда Хоппера и Фрэнсиса Бэкона, и других. За предыдущие эпохи накоплено столько, что можно без ущерба подождать век-другой с производством великих живописных шедевров. К тому же я не вижу настоящего упадка или провала в живописном деле. Даже в измотанной и обескураженной России начала XXI века есть хорошие живописцы – Наталья Нестерова и Владимир Брайнин, Таир Салахов и Павел Никонов, и другие.
История искусства стремительно и дерзко устремляется на дотоле неведомые территории. Таковых оказалось несколько. Например, осуществляется выработка языка акционизма. Действие, акция, поведенческий жест оказываются эффективными орудиями новых экспериментальных течений. Перформанс приобретает большую силу воздействия в деятельности дадаистов и Марселя Дюшана. Дерзкие и артистичные акции придумывали Владимир Маяковский, Артюр Краван, Вальтер Зернер, Сальвадор Дали. Классические перформансы Ива Клейна или Джона Кейджа, выполненные в 50-е и 60-е годы двадцатого века, обладают свойствами зрелого классического художественного языка – с его лаконизмом, остротой, остроумием, философскими парадоксами и прочее.
На памяти поколения моих отца и матери искусство фотографии вырастает из детских штанишек и достигает высокого уровня к середине двадцатого столетия. Фотографические отпечатки и негативы поступили в собрания лучших музеев Европы и Америки, в университетские курсы истории искусств. Выставки фотоискусства превратились в крупные явления художественной жизни. На переходе к двадцать первому веку цифровые технологии и компьютер начинают на наших глазах порождать новые виды интерактивного искусства.
Еще более молодое искусство кино порождает самые известные шедевры двадцатого века. Появляются мастера кино, которых мы по праву ставим рядом с крупнейшими художниками прошлого. О судьбах искусства кино тоже есть любители потревожиться, как и о судьбах живописи и литературы в наступившую эпоху планетарной попсы. Но это уже вопрос особый, и не здесь его обсуждать.
Визуальные искусства разрослись и заняли обширные новые территории. Язык видео-арта буквально за считанные годы обретает качества такого психологического воздействия, которому могли бы позавидовать мастера Возрождения, барокко и романтизма. Брюс Науманн, Гэри Хилл, Билл Вайола и другие делают видео-арт большим искусством. Это произошло буквально на памяти моего поколения.
Живопись и скульптура заняли скромное, но достойное место в панораме искусств двадцатого века. Но история искусств в целом вовсе не стала беднее. Новые возможности визуальных искусств получили блестящие воплощения, и их будущее остается многообещающим.
Взятая в ее полноте, продолжающаяся история искусств по-прежнему говорит вещи дерзкие и опасные, подрывает нормы культуры и демонстрирует поражение человека как главный результат его деятельности и познания. Прекрасно, умно и талантливо она говорит о нашей некрасивости, глупости и бездарности. Опасная тайна людей облачена, однако же, в удивительные одежды искусств, изложена так, как если бы речь шла о великом достижении совершенного и едва ли не богоравного человечества.
Мы узнаем о себе истину, которая совсем не красит нас, земных людей. Но она предстает перед нами такой, что нам не хочется отвернуться, замкнуться в красивые фантазии или покончить с собой. Нам становится радостно и легко с тяжкой ношей истины о нас самих. Нас освобождают и от глупенького незнания, и от ужасного знания. Свободное искусство Нового времени говорит правду о человеческом несовершенстве, о «поврежденной жизни» (термин Т. Адорно), о великой неудаче. Нелегкая правда не унижает, а возвышает, внушает надежду и легкость поступи. «Ноша моя легка», словно выговаривает она.
В. А. Крючкова
Увидеть невидимое. Эстетика возникновения-исчезновения в искусстве XX века
«Искусство не воспроизводит видимое, оно делает видимым»[68 - Шее P. Thеorie de l'art moderne. Gen?ve, P. 34.]. Высказывание Пауля Клее, которое часто приводится как программное для XX века, было бы справедливо и по отношению к искусству любой другой эпохи. На протяжении своей многовековой истории оно вводило в поле зрения незримые магические силы, предъявляло первобытным охотникам отсутствующих животных, наделяло зримым образом богов и фантастических существ, показывало въявь моменты мифологических сказаний и Священного писания, олицетворяло общие понятия, выражало эмоциональные состояния художника. Даже в реалистическом портрете, пейзаже, в бытовом жанре получало визуализацию нечто скрытое за привычной поверхностью вещей. Ведь реализм был сосредоточен на аналитическом исследовании окружающей действительности, на том, чтобы восполнить пробелы в знаниях о ней – проявить социальные типы, психологические состояния и личностные черты изображаемых людей.
Этот нимб эвокативных значений произведения был назван заимствованным у антропософии и оккультизма словом «аура». В своем знаменитом эссе Беньямин использует это понятие как критерий демаркации традиционного и нового искусства. Последнее утратило ауру в силу своей шоково-развлекательной тактики, отвечающей требованиям массовой публики. Техническое репродуцирование, размножение уникального творения, также возникшее под давлением запросов масс, – другая сторона того же процесса.
Действительно, «аура», как некая озаренность произведения значениями, привлеченными из ментальности эпохи, из исторической традиции, из личных идеалов художника, не столь типична для искусства XX века. Но оно «делает видимым», то есть предъявляет глазу то, что ранее уходило из поля зрения, показывает процесс постепенного проступания образа из хаотической тьмы. Работая с формами исчезающими и возникающими, на глазах меняющими свой лик, новейшее искусство вводит зрителя в поле загадок и сомнений, побуждает к вопросам об основаниях этой непрерывной изменчивости. Так называемый абсурдизм, энигматическое соединение несоединимого, также взывает к внутренней работе сознания, к поиску выхода из противоречий. Можно предположить, что такой тип художественного мышления сложился вне зависимости от «восстания масс», просто в силу логики исторического процесса.
Последовавший за реалистическим направлением импрессионизм унаследовал задачу отображения окружающей действительности и при этом заострил, сузил луч, высвечивающий свойства быстротечных явлений. Тонко настроенная оптика живописи анализировала перемены освещения, трепет воздуха, то есть состояния прозрачной, а значит, проницаемой для глаза и в обычных условиях невидимой среды. Импрессионизм вплотную приблизился к феноменальному миру, постигаемому в чувственном опыте, а значит, в фокусе живописи предстала субъективная видимость вещей – внешний мир в единстве с воспринимающим его глазом. Так завершился начавшийся еще в эпоху Возрождения переход искусства от теологических оснований к антропологическим.
В XX столетии обращение к мистике, к высшему миру духовных сущностей случалось не часто и воспринималось как реликтовый остаток прошлого. Искусство отказалось от аллегорий, от намеков на запредельный, недоступный земному глазу мир. Лексика идеалистической метафизики иногда использовалась, но, скорее, в качестве метафор. Идея незримого, ускользающего от чувственного восприятия возникала снова и снова, но теперь она обозначала не потусторонние сущности, не идеальные субстанции, но ограничения и загадки зрительного восприятия.
«Запредельный» мир, выпадающий из эмпирического опыта, несомненно существует, поскольку человеческое познание ограничено структурами нервной системы, способной воспринять лишь малую часть сигналов, исходящих от внешнего мира. Так, глаз реагирует лишь на весьма узкий диапазон электромагнитных волн, отражаемых материальными поверхностями. Точно так же слух ограничен верхним и нижним порогами.
Человек сам является частью природы, и его органы чувств организованы по ее законам. Эти нервные устройства кодируют поступающие из внешнего мира послания по встроенным в них программам. Что такое цвет, очертания предметов, как не перекодировка электромагнитных импульсов, их переложение на язык зрительных ощущений? Что такое звук, как не претворение воздушных колебаний в слуховой образ? Познавательная деятельность, художественное творчество основаны на этих дистанционных органах чувств, воспринимающих информацию посредством волн. Но даже те ощущения, что возникают при прямом контакте с объектом – осязание, обоняние, вкус – являются результатом переработки физических и химических свойств в аппарате перцепции. Все, что остается за пределами чувственности, все, что не схватывается рецепторами, можно назвать трансцендентным миром – трансцендентным в гносеологическом, скорее кантовском смысле, но не в смысле метафизическом.
Отсюда нетрудно увидеть, что человеческая чувственность, одновременно замкнутая в собственных структурах и открытая миру, функционирует на некой переходной грани, постоянно балансируя между познанным и непознаваемым, явленным и лишь предугадываемым. Эта граница постоянно колеблется, смещается (поскольку человеческое сознание способно выходить за пределы чувственности, преодолевать заданные природой рамки), побуждая к вопросам, непрекращающимся попыткам обрести верное видение (видение как зрение и как понимание). В зазоре между известным и неведомым, постигаемым и недоступным, зримым и незримым локализуется художественная деятельность эвристического свойства. «Пограничное» зрение непременно ошибается, попадает в ловушки, теряет из виду предмет, находит его вновь, но уже в другом облике, и искусство показывает эти провалы и творческие находки нашего видения.
В этом смысле и надо понимать вышеприведенное изречение Клее. «Сделать видимым» – значит вывести объект из зоны невидимости, из слепого поля, и показать его словно заново рожденным, обретенным в преобразованном восприятии. Примером могут послужить две картины Клее, выстроенные из однотипных прямоугольных форм. Поначалу «Вид города с красно-зелеными акцентами» (1921, Кельн, частное собрание) воспринимается как совершенная абстракция. Однако название призывает к поиску обозначенного в нем сюжета, и наш глаз с удовольствием предается этой работе, извлекая из разноцветных скоплений вид островерхих крыш, квадратных стен с черными провалами окон и дверей, возвышающихся вдали скал, колоколен и старинных башен. Зримая реальность, первоначально скрытая в хаотичных скоплениях, проясняется. Предметное видение формирует пространство: планы раздвигаются в глубину, одни формы выходят вперед, другие отступают, и вся структура начинает колебаться перпендикулярно плоскости. Появляются и тонкости световой среды: карабкающийся по холму старый город представлен в час, когда лучи заходящего солнца еще ярко высвечивают вертикальные поверхности, но уже надвигается вечерняя синева, заливающая просветы между домами и небесную высь.
Все происходит, как в реальности, когда в сумеречный час мы с трудом ориентируемся в окружении, и лишь угадав, что' перед нами, мысленно назвав предметы, мы начинаем различать их. Психологические исследования показывают, что зрительные ощущения (фактически лишь набор плывущих цветовых пятен) организуются в предметное видение под воздействием предшествующего опыта и вытекающих из него мысленных моделей. В ответ на световые раздражители мозг выдвигает предположение-догадку, «гипотезу» объекта, и тогда сенсорные данные стягиваются, оседают на категориальной конструкции, складываясь в реальную форму. Как и в картине Клее, реальность всплывает из сумеречного хаоса беспредметности.
Другая картина как будто не выходит за пределы абстракции, но также отсылает к внешней реальности – музыке. «Старинное звучание. Абстракция на черном фоне» (1925, Базель, Художественный музей) – композиция из расположенных рядами квадратов, заполненных тускло мерцающими тонами. Эти клетки, как будто прочерченные неверной рукой по мягкой основе, слегка сдвигаются, изгибаются. В центре они ярко освещены, а к краям блекнут, уплывая в темноту. То ярко сияющие, то меркнущие квадратики, подвижные, хотя и плотно пригнанные друг к другу, вызывают ассоциации с перебором клавиш клавесина. Клее, бывший почти профессиональным музыкантом, видимо обладал исключительным даром синестезии, во всяком случае, его умение передавать музыкальные звучания в красках не имеет себе равных. Цвета сложных, приглушенных оттенков (все краски проложены по черной основе) словно подернуты патиной, «утоплены в прошлом», и как будто случайные вздутия, надломы красочной поверхности усиливают это ощущение антикварной драгоценности. Живопись и музыка приведены в полное соответствие, то есть звук стал зримым, а краска зазвучала, впитала в себя голоса старинных инструментов. Художнику вновь удалось «сделать видимым» невидимое.
Приемы работы Клее, весьма разнообразные, проистекали из убежденности художника в том, что произведение искусства должно следовать законам природы и не имитировать законченные формы, а воспроизводить сам процесс их зарождения и развития. Абстракцию он понимал как нечто, лежащее за пределами собственно визуального, как некую силу, предшествующую творению – Urbildliche. Эта сила сосредоточена в точке, подобно сингулярному состоянию материи до Большого взрыва, или гамете, содержащей в себе программу развития организма: «Точка, рассматриваемая динамически, как активное начало; нарастание энергии, направленной вовне, в различные стороны, неукротимо определяет ориентированность движения. Восхождение точки к центральной ценности есть обозначение момента космогенеза. Этот процесс соответствует идее всякого начала: рождения, излучения, вращения, взрыва, вспышки фейерверка, снопа»[69 - Шее Р. Das bildnerische Denken. Bd. I. Form- und Gestaltungslehre. Basel; Stuttgart, S. 22.]. Животворящая сила, управляющая процессами художественного морфогенеза, незрима, но опознается в произведении по следам своего движения.
В акварели «Избранный город» (1927, Мюнхен, частное собрание) бегущие меандрами линии выталкивают из своих переплетений, то есть находят, «избирают» вид удаленного городка, где в тесных улочках строения толпятся, перекрывают друг друга и спускаются по холму вниз, к синей полосе реки. Овал луны, «избранный» тем же методом, кажется то ли островком, оторвавшимся от поселения, то ли зеркалом, принявшим в себя его облик. Ведь у Клее природные и человеческие создания творятся по одной и той же программе, и мерцания небесного светила подобны призрачному видению города в полутьме. Во всяком случае, то и другое является, возникает по прихоти линии, прокладывающей свой путь.
Пронизанный динамикой рисунок Клее обретает свойства хореографии: линия идет то мерным шагом, то сбивается с такта, высоко подпрыгивая или долго кружась на месте. Наш глаз следит за траекторией точки, вначале путаясь в ее меандрах, а затем обнаруживая в возникающих пересечениях образы городов, замков, цветущей флоры, рыб, причудливых животных, антропоморфных созданий. Бег незримой энергии творит плоть визуального образа.
Авангардное искусство, как известно, стремилось к «самоочищению» – освобождению от всех привнесенных извне, «посторонних» значений. И по мере отказа от аллегорий, умозрительных символов, «анекдотичности», «копирования ретинальных образов» все больше оголялась, выступала на первый план формальная (пред-изобразительная) конструкция. Зримый мир как будто отступал, а то и вовсе исчезал в отвлеченных схемах.
Перед искусством встала новая проблема: может ли эта усеченная, редуцированная до низших уровней система быть содержательной? Возможно ли смысловое наполнение произведения без символов, повествовательных сюжетов, даже без внятных образов реальности? Рене Магритт, художник-теоретик, отнюдь не расстававшийся с изображением, писал: «Символы ничего не сообщают нам ни о том, что они символизируют, ни о том, что они должны, по предположению, „представить“ в виде фигур. Художник может мыслить образами, но только в том случае, если он освободился от предрассудков, обязывающих его нечто „выражать“, „представлять“ или „символизировать“ идеи, чувства, впечатления. Такая мысль может стать видимой в живописи, но ее смысловое содержание останется скрытым от нас, так же, как и смысл мира»[70 - Magritte R. Les Mots et les Images. Choix d'еcrits. Bruxelles, P. 182–183.].
Искусство Магритта – это размышления о загадках изображения, причем такого изображения, которое принято называть «правдивым», реалистическим. Фигуры и предметы в его картинах, написанные по всем школьным правилам, освобождены от любых коннотаций, от романтического флера, от экспрессивных качеств. Это «голая правда», лишенная всякой «художественности», переданная в намеренно объективной, безличной манере. В автобиографических заметках «Линия жизни» Магритт писал: «Собственно говоря, на смену формальным качествам, всякий раз благосклонно отмечаемым критикой, пришло объективное изображение предметов, ясное и доступное тем, чей вкус не испорчен искусствоведческими предвзятостями. Этот отстраненный способ изображения предметов, на мой взгляд, приближается к единому для всех стилю, в котором нет места личным пристрастиям и ничтожным влечениям»[71 - Ibid. P. 48.]. Однако эти протокольные фиксации, удивляющие своей элементарностью, и в самом деле содержат в себе «тайну» – загадки и парадоксы изобразительного языка. Правдоподобие достигается иллюзорными приемами, а значит, является хорошо рассчитанным обманом зрения. Глаз охотно вверяется уловкам светотени, проявляющей объем, сходящимся линиям, обозначающим пространство, градациям цвета, передающим фактуру и освещенность. Но что именно воспринимают органы зрения человека – реальность или ее поверхность, иллюзорную пелену? Чем отличается образ внешнего мира от воспоминания или мечты? Насколько достоверны наши представления о действительности?
Задаваясь такими, по сути гносеологическими, вопросами, Магритт часто вводил в свои картины образы, связанные со зрением, – глаз, зеркало, окно, занавес. Глаз, по которому, как по отражающей плоскости, скользят облака, – отнюдь не «зеркало души», а «Фальшивое зеркало» внешнего мира (1935, частное собрание). В подлинном же зеркале отражается не лицо, а спина стоящего перед ним человека – вещь вполне возможная, если персонаж, находясь между двумя зеркалами, поставленными под некоторым углом, перекрывает собой первичное отражение («Недопустимое воспроизведение», 1937, Роттердам, Музей Бойманс – Ван Бёниниген). Занавес у Магритта часто прикрывает изображение, создавая в нем странные провалы («Прекрасный мир», 1962, частное собрание), или создает обрамление, намекающее на театральную иллюзорность того, что открывается за ним, а то и просто свертывается в рулон вместе с нанесенным на него пейзажем («Воспоминания святого», 1960, Хьюстон, собрание Мени л).
Один из любимейших образов Магритта – проем окна, открывающий внешний мир и одновременно символизирующий его границу, переступить которую человеку не дано. Знаменитая серия с окном, перекрытым живописным пейзажем, точно повторяющим пейзаж реальный, демонстрирует подлинные апории, которые призывают к размышлениям о загадках мира реального и воображаемого, живой природы и ее имитации («Человеческий удел», 1933, Вашингтон, Национальная галерея; «Человеческий удел», 1935, Генф, частное собрание; «Прогулка Евклида», Миннеаполис, Институт искусств; «Ключ к полям», 1933–1936, Мадрид, Музей Тиссен-Борнемиса). Объективистская манера Магритта точно передает видимое, но это именно видимость, поверхность вещей.
Не является ли человеческое восприятие, преобразующее сигналы внешнего мира в зримые образы, таким же заслоном, как живописная «обманка»? Как различить видение и видимость, как найти надежный ход к достоверному миру, скрытому за иллюзорным покрывалом майи?
Магритта весьма интересовал вопрос о соотношении видимого и невидимого, скрытого и открытого, явного и мыслимого. Так, в переписке с Мишелем Фуко он замечал по поводу незримости мысли: «Она невидима в точности так же, как удовольствие или страдание. Но живопись привносит сложность: есть мысль, которая видит и которая может быть описана зримым образом. „Менины“ есть зримый образ незримой мысли Веласкеса»[72 - См.: Фуко М. Это не трубка. М., С. 78.]. Магритт не случайно упоминает «Менины» – картину, ставшую классическим образцом размышлений художника об искусстве. Переходы из реальности в воображаемый мир весьма интересовали бельгийского художника как зримые воплощения незримой мысли. Он продолжает: «Значит, невидимое может изредка становиться видимым? При условии, что мысль будет состоять исключительно из видимых фигур. Стоит только понять, что видимое может быть скрытым, но что именно невидимое ничего не скрывает: можно знать его или не ведать о нем, но ничего более»[73 - Там же.].
Видимые вещи у Магритта и в самом деле часто скрыты: люди изображаются со спины, их лица могут быть завернуты в ткань, перекрыты зависшим яблоком, букетом, взлетевшей птицей. Такие загадки разрешимы, стоит только отодвинуть заслон. Однако видимость легко переходит в кажимость, в зрительный фантом. Вот фигуры проезжающей по лесу всадницы и ее лошади то скрываются за деревьями, то сами перекрывают их («Достоверность пробела», 1965, Вашингтон, Национальная галерея). Пространство, рассеченное древесными стволами на вертикальные полосы, незаметно для глаза расслаивается: объемные формы и пространственные паузы, перепрыгнув, поменялись местами. При этом просвет перекрыл фигуру коня, а его ноги, как будто побродив среди деревьев, вышли на полянку переднего плана, оставив корпус далеко позади. То, что невозможно в реальности, в сфере видимости (то есть изображения на плоскости) случается беспрепятственно. Высвободившаяся из плоти вещей визуальность утверждает свои права, «пробел», то есть пустота, доказывает свою равновеликость материальным объемам. Замечательно, что изображаемый сюжет только выигрывает от этого зрительного абсурда: мы видим, как мелькают среди деревьев, то исчезая, то появляясь в другом месте, лошадь и наездница.
«Сделать мысль зримой» – так формулировал Магритт задачу картин, построенных на парадоксальных, невозможных сочетаниях: над ночным пейзажем сияет ясное небо («Царство света», 1954, Брюссель, Королевский музей изящных искусств); большое зеркало в руках женщины перекрывает ее торс спереди, но показывает его со спины, создавая странную перекрутку фигуры («Опасные связи», 1926, частное собрание); увиденное снаружи распахнутое окно открывает вид не интерьера, а улицы («Хвала диалектике», 1936, частное собрание); правильная перспектива комнаты надламывается, перекашивается несомасштабными пространству фигурами («Великанша», 1929–1930, Кельн, музей Людвига). Все это отличается от сюрреалистического абсурдизма, возникающего из грез и вольных фантазий подсознания. «Картины-теоремы» (так называл их Магритт) требуют интеллектуального решения, поскольку ставят перед зрителем подлинные проблемы – проблемы натуроподобного изображения. Художник сочинял алогичные миры по неумолимой логике заданных правил и допущений, обнаруживал в «несомненной» очевидности сомнительные места, запутанные узлы и провалы. Так, в картине «Попытка невозможного» (1928, Тойота, Муниципальный музей искусств) новоявленный Пигмалион творит своей кистью стоящую перед ним живую женщину.
Изобразительный язык был для Магритта не способом самовыражения, а именно языком – общим достоянием, универсальным средством общения. Он сознательно опрощал свою манеру, подводил ее к стандартам массового печатного ширпотреба. Но этот обезличенный стиль, предназначенный для беспристрастного описания реальности, обнаруживает способность к зрительным парадоксам. Считывая общие места привычно «правдивого» изображения, зритель вдруг сталкивается с противоречием. И, поскольку противоречие требует разрешения, оно приводит в движение мысль. В визуальных головоломках Магритта натуроподобная живопись размышляет о самой себе, сомневается в своих аксиомах, критически исследует собственные посылки. Все это и означает «сделать мысль зримой», перевести в поле видимости невидимую работу сознания.
Искусство XX века часто называют субъективным. Однако во многих случаях речь должна идти об интерсубъективности – о всеобщих, внеличностных свойствах ментальных процессов. Художники этого обширного круга стремились не к самовыражению, не к излиянию собственных эмоций, а к экспериментальному исследованию зрительного восприятия, высвечиванию его потаенных уголков. Жан Дюбюффе, художник во многих отношениях противоположный Магритту, ставил перед собой такие же задачи: «Моя цель – изобразить не объект или место, но самоё мысль, облечь ее в чувственную оболочку. По моему убеждению, произведение должно адресоваться непосредственно к мысли, привести ее в движение, а для этого необходимо говорить на ее языке, или, по крайней мере, на языке, в котором она может себя опознать»[74 - Цит. по: Jean Dubuffet, les derni?res annеes [Cat. de l'exposition]. Paris, P. 161.].
При рассматривании работ Дюбюффе из серии «Урлуп» глаз пребывает в непрерывном поиске, извлекая предметные формы из густых переплетений и отрывочных конфигураций. Такие картины, как «Банк двусмысленностей», (1963, Париж, Музей декоративных искусств), «Зыбь виртуального» (1963, Париж, Национальный музей современного искусства), кишат разноцветными, наползающими друг на друга зачаточными формами, которые на мгновение срастаются в фигуры человечков, узнаваемых и неведомых животных, но тут же распадаются и вступают в новые связи, смыкаясь с другими очертаниями. Непрерывно вьющиеся по поверхности линии формируют однородную – подрагивающую, пузырящуюся – поверхность. Глаз, нырнув в эту бурлящую биомассу, вылавливает из нее все новые и новые образования. Схваченные им фантомные фигуры, цепляясь за соседние «нити», за внутренние «перемычки», изгибаются, вертятся, кувыркаются, приседают и гримасничают, всплывают и исчезают, уступая место своим утопленным до поры соперникам. Дюбюффе считал, что «всё есть пейзаж», поскольку «ментальный танец, раскручивающийся в сознании человека», вовлечен в те же ритмы, что и материальная природа[75 - См.: Dubuffet 1901-Paris, P. 6.].
Таким «внутренним пейзажем» являются его большие полотна из серии «Театры памяти», где человеческие фигурки, набросанные в манере ар брют, взяты в некие капсулы, «воздушные пузыри», плавающие в пучине абстракции. Они как будто блуждают в лесной чаще или всплывают из глубоководья, продираются сквозь густые переплетения, нагромождения обломков, едва уклоняясь от их толчков. Человечки окликают друг друга, спорят, насмехаются, бахвалятся, а то дрожат от страха («Переплетающиеся видения», 1976, частное собрание; «Неопределенные ситуации», 1977, частное собрание). В «Дешифровщике» (1977, Сент-Этьен, Музей современного искусства) поместившийся в самом центре персонаж как будто пытается «дешифровать» (то есть понять, а значит – увидеть) надвигающиеся на него со всех сторон отрывочные формы – следы, знаки природной и человеческой деятельности. Заключенный в вытянутый прямоугольник, он как будто выхвачен из невнятного хаоса неким проявляющим оптическим устройством.
В таких картинах, как и в других сериях, фигуры разных размеров заключены в собственное пространство, так что зрение приходится постоянно перенастраивать, выбирая нужный план предполагаемой перспективы: «Шкала меняется от одной зоны к другой, как при регулировке бинокля. Отсюда проистекает эффект пространства, скомпонованного из различных планов, или из выгородок, где верх и низ, далекое и близкое весьма неопределенны»[76 - Цит. по: Jean Dubuffet, les derni?res annеes. P. 125.]. Масштаб фигур задает меру пространства, продавливает плоскость на определенную глубину, так что в восприятии возникает некое складное пространство, состоящее из выдвижных компартиментов.
Для Дюбюффе видение и мышление были тесно взаимосвязаны, и свою задачу он видел в том, чтобы, изменив видение, освободив его от коросты затвердевших привычек, дать толчок мысли, побудить ее к действию. Образы, хранящиеся в нашей памяти, свернуты, сжаты до общих очертаний и, как правило, связаны с обозначающими их понятиями. По мнению этого первооткрывателя art brut, человек с улицы, царапающий свои каракули на стене, прямо и непосредственно передает то, что видит в своем сознании, и его пример весьма поучителен для профессионального художника: Неумелые, кривые рисунки, по мысли Дюбюффе, возвращают мировосприятие к его докультурным истокам, то есть к врожденным свойствам сознания: «Поставленная цель – изменить мышление, и для ее достижения необходимо лишить его основного инвентаря. Предложить ему другие опорные категории, отличные от тех, которыми оно пользуется. То есть категории нестабильные, изменчивые, переливчатые. У искусства нет других задач, кроме задачи изменения мышления»[77 - Ibid. P. 164.].