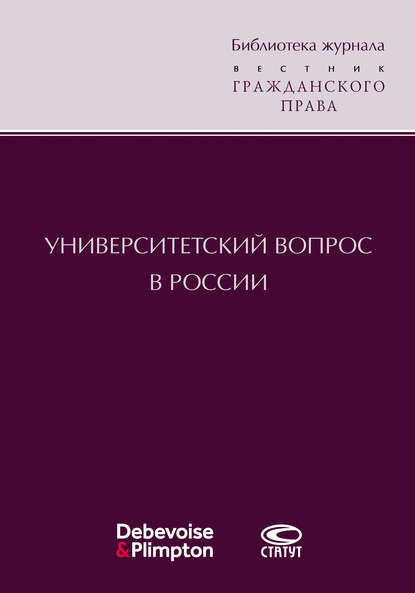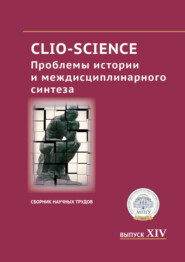По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Университетский вопрос в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но возвратимся к учебникам и их отношению к науке в собственном смысле, чтобы поставить дальнейший вопрос.
Может быть, руководства содержат по крайней мере сумму достигнутой в данное время наукою мудрости в области тех наиболее общих и крупных проблем, которые составляют их предмет?
Для нас все-таки особенно ценны наиболее общие положения нашей науки, истина, а по крайней мере лучшее, наиболее совершенное приближение к истине, в области известной совокупности более общих и крупных вопросов. Поэтому поставленный вопрос имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение, между прочим, и для желающих сознательно учиться или сознательно направлять учение других.
К сожалению (особенно с точки зрения тех, которые склонны усматривать в учебниках не только начало, но и удовлетворительный конец ознакомления с наукою), на поставленный вопрос может быть только отрицательный ответ.
Прежде всего нельзя забывать, что наука реально живет и – особенно в Новое время – быстро развивается в психике многих ученых, но того, что теперь находится в «лучших умах» представителей мыслительного процесса данной области науки, знать и сообщить в руководстве невозможно. Нам, ученым, доступно только то (кроме добытого собственным умом), что наши commilitones, соратники в борьбе за истину, уже поведали миру; говоря практически, нам доступно обыкновенно только последнее печатное слово, но не последняя мудрость науки. А это две очень различные вещи.
Пожалуй, то, что находится в умах более посредственных, а тем более совсем слабых не идет дальше (или даже находится более или менее далеко позади) последней «печатной мудрости» науки. Но среди серой массы тружеников науки, двигающих ее вперед разве в капиллярных и микроскопических ее разветвлениях, имеются и сильные и подчас могучие умы, иногда много прежних крупных и, казалось, крепких идейных строений в мысли разрушающих и заменяющих их более совершенными идейными строениями, – может быть, только более близкими к истине станциями, может быть, вполне соответствующими истине решениями. И к ним, заметим, относятся не только несколько известных нам крупнейших и знаменитых в данной науке ученых, но и, может быть, столько же только начинающих привлекать взоры ученого мира или даже и совсем еще неизвестных (кроме разве небольшого кружка слушателей начинающего доцента) ученых.
И чем крупнее их идеи, чем глубже они врезываются в теперешнюю структуру науки, чем больше их размер и размах, может быть, ведущий к основной перестройке всего здания, к созданию новой школы и новой эпохи, тем больше ceteris paribus промежуток времени между появлением их в уме ученого и передачею их в виде печатного труда на всеобщее пользование. Несомненно, что много великих научных ценностей было унесено их творцами в гроб, потому что они не успели их поведать миру; это особенно легко возможно в области таких идейных систем, для разработки и облечения коих в форму книг требуются десятилетия. Много великих научных трудов и крупных систем было издано великими авторами их на склоне лет как зрелый плод всей их жизни. Много крупного и ценного оказывается часто в так называемых посмертных изданиях, т. е. изданных по оконченным до смерти, но не напечатанным, или еще не оконченным, или во всяком случае окончательно не отделанным рукописям, или же по начатым только рукописям, кускам их, отрывкам… А крупнейшие и гениальные ученые, даже долго жившие, несомненно, всегда уносят много настоящего золота идейного в гроб, ибо ценные идеи появляются и мыслятся быстро, в умах сильных и гениальных мыслителей – в большом изобилии, а книги пишутся очень медленно (очень кропотливый и тяжелый труд!), и в каждой книге сообщается только то, что к данной «теме» относится.
Мелкий золотой песок науки сыплется быстрее, мелкие ученые с их немногими и небольшими идейками «выписываются» сравнительно быстро, но относительно целых глыб научного золота, относительно крупных и ценнейших, новые широкие горизонты открывающих и новые эпохи создающих идей и систем таковых, едва ли будет преувеличением сказать, что «последнее слово науки» в смысле печатной литературы отстает по крайней мере на десятилетия от последней мудрости науки в лице ее наиболее сильных и могучих борцов.
Между прочим, теперь научный барометр в области нравственных, правовых, экономических – вообще гуманных наук, а отчасти и в области философии начинает показывать приближение грандиозной бури, которая, вероятно, потрясет до оснований наши вообще (по сравнению с развитием некоторых других наук) довольно жалкие научные зданьица, подчас построенные на куриных ножках, на совершенно жалких и неподходящих фундаментах (например, теперешняя печатная нравственная и правовая мудрость в области философии нравственности и права покоится в значительной степени на субъективном нравственном и правовом нигилизме, на незнании и непризнании особой духовной природы сих явлений, на сведении их к индивидуальным или массовым вожделениям и интересам, к пожеланиям известной «пользы», к стремлениям к известным желательным для решающих факторов «целям» и т. п., так что, собственно, надлежало бы последовательно выбросить за борт соответственные особые науки за отсутствием особого, отличного от других предмета). Эта буря очистит затхлый и гнилой воздух пошлого житейского «материализма», отчасти связанного с еще недавно господствовавшим в области философии и естественных наук (а отчасти и в области общественных наук (ср., например, философские основания так называемого исторического материализма, а равно марксизма в тесном смысле в области политэкономии)) теоретическим материализмом, отчасти же имеющего собственные корни в некоторых болезнях века. Эта буря даст толчок нашим наукам и вызовет коренную перестройку. Симптомы этой приближающейся и, по-видимому, быстро надвигающейся научной революции отчасти проявляются и в печати, подчас в довольно неудачной и, так сказать, насильственной форме, в форме как бы только еще полусознательного, но сильного стремления в сторону, противоположную той, которая господствовала в науке второй половины XIX в., – стремления, начинающего столь сильно давить и толкать, что люди готовы ухватиться за что попало, хотя бы, например, и за память покойного Кёнигсбергского Философа, который бы крайне был удивлен и изумлен, увидев, что? в одних областях приурочивают к его гносеологии, в других областях (например, в области политической экономии) – к его категорическому нравственному императиву и вообще практическому (в философском смысле) идеализму, какие усилия употребляются для того, чтобы найти у него и те специальные новые идеи, которые ему не только никогда и в голову не приходили, но противоположному которым он ясно и категорически учит на каждом шагу. Более обстоятельно и в более глубоком виде и интересной форме можно познакомиться с разными симптомами зреющего в умах ученых поворота и переворота идей путем слушания их лекций. Знакомящиеся с науками только по учебникам имеют дело с тем направлением и миросозерцанием, которое лет 10–20 тому назад задавало тон и торжествовало в аудиториях, но теперь, по крайней мере в некоторых университетах, уже подвергается принципиальной критике и начинает уступать место более идеальному миросозерцанию (этим, между прочим, в значительной степени объясняются и такие, например, явления, как имеющие характер предсмертных судорог движения марксизма и экономического материализма вообще).
Кроме слушания лекций, средством ознакомления с теперешним с каждым годом все живее и живее бьющимся пульсом науки могут служить отчасти коллегиальное общение и научные беседы в главных центрах научного производства. Темы и характер этих бесед, отражающееся в них настроение и миросозерцание быстро меняют свою окраску и свое направление, что, может быть, даже незаметно самим участникам такого постоянного общения, но положительно поражает приезжающих «в гости» от времени до времени.
Между прочим, для ученых, желающих быть в курсе дела и не отставать, особенно для находящихся вдали от главных столиц науки, весьма полезными и даже необходимыми следует признать периодические поездки во время каникул, а еще лучше на более продолжительное время в те научные центры, где их науки бьют особенно живым и сильным ключом. Поэтому одним из начал рациональной университетской политики является всяческое облегчение и поощрение заграничных поездок с научною целью и командировок не только для начинающих ученых, но и для профессоров. Этим был бы усилен приток новых идей и научного воодушевления и творчества. Погружение в научную спячку профессора более вредит кафедре и университету, чем перерыв его деятельности с временным замещением его или даже без замещения в течение года.
Как бы то ни было, не может подлежать никакому сомнению, что настоящее «последнее слово науки» и то «слово» ее, которое содержится в наличных печатных произведениях, – это две различные вещи и что печатная мудрость науки необходимо находится позади подлинной последней мудрости ее, никогда ее не догоняя.
Что же касается систематических руководств, то по их адресу надо к сказанному добавить еще, что они, в свою очередь, отстают от уровня даже последней печатной, т. е. непременно несколько отставшей, мудрости науки.
И при лучшем мыслимом вооружении автора руководства для того, чтобы следить за текущею, и притом текущею все более широкою рекою, литературою по множеству разветвлений его специальности и по смежным областям науки[42 - Сюда относятся знание языков, образованность в сфере различных наук, обильные материальные средства на приобретение текущей литературы и надлежащее развитие своей библиотеки (университетская библиотека этого условия отнюдь не может заменить, хотя и она необходима и доставляет очень важную помощь).], а равно при постоянной затрате большого труда и времени для поддержания такой связи с движением литературы все-таки быть в курсе дела можно (особенно в новейшее время) лишь в известной степени, в относительном смысле.
А затем, и при превосходной школе и силе мышления в данной области и могучем критическом таланте для того, чтобы уметь правильно познать и оценить научное золото в этом море литературы и отличить его от мишуры, все-таки это может быть достигнуто силами одного автора руководства лишь в сравнительно скромной степени, но отнюдь не в идеальном совершенстве.
Один выудит одно, другой другое из тех зерен золота, которые рассеяны в монографической, журнальной и т. д. ученой литературе, так что уже во всяком случае ознакомление с несколькими новейшими руководствами скорее может дать некоторое представление о современном состоянии науки, нежели чтение одного руководства, даже и очень хорошего. Но, затем, наука представляет, особенно в новейшее время, процесс, развивающийся с очень большою и быстро ускоряющеюся быстротою, и пока закончилось печатание систематического руководства науки, она уже убежала вперед даже в виде печатной своей тени.
Фактически руководства и учебники, по которым учится юношество, обыкновенно являются отставшими от новейшего уровня науки в гораздо большей степени, чем это можно было бы предполагать на основании вышеизложенных общих соображений. Я уже не говорю о положении некоторых наших университетских наук, руководства по которым, изучаемые студентами, иногда были изданы десятки лет тому назад учеными, уже тогда далеко не бывшими на уровне науки, а затем переиздавались без всякого изменения или с такими изменениями, которые вовсе не приближали учебник к достигнутому уровню науки[43 - Например, имеющий наибольшее распространение в провинциальных университетах учебник Ренненкампфа «Юридическая энциклопедия» представляет переделку более обширного руководства того же автора, уже в 1868 г., т. е. в год своего появления, весьма слабо и отстало отражавшего тогдашний уровень теории права, притом переделку, ни на шаг не подвинувшую содержание вперед, а только сократившую его и испортившую и в других отношениях для приноровлению к экзаменному зубрению по программе, «изданной Министерством народного просвещения в 1888 г. для производства испытаний в государственных испытательных комиссиях» (слова в кавычках взяты из краткого, но очень ясного предисловия). Отсталость этого ходкого учебника можно приблизительно оценить в полстолетия. Таких же находящихся в ходу учебников, которые представляются отставшими на одно ученое поколение – на 30, 20 лет и т. п., немало (хотя по датам изданий этого иногда не видно).]. Даже если остановиться на таких учебниках, которые имеют сравнительно новую или даже совсем недавнюю дату, например 1900 или 1901 г. (таких, конечно, сравнительно весьма немного, например, и в Германии), и авторами которых являются первые светила науки, постоянно и исключительно преданные упорному научному труду, и то совершенно ошибочно было бы думать, будто уровень этих передовых учебников равен уровню, достигнутому монографической и журнальной литературой.
Солидные учебники издаются обыкновенно только после многолетней профессорской деятельности, чаще всего на старости лет; но когда вся система науки уже в такой степени переработана ученым, что он имеет смелость (в Германии, например, это большая смелость) выступить с систематическим руководством, его научный ум, приобретя большую солидность и превосходные качества во многих отношениях, уже потерял в большей или меньшей степени то качество, которое свойственно главным образом молодости, а именно способность не бояться новизны, уметь понять, оценить и усвоить то ценное, которое заключается в новейших движениях науки, в бесчисленных научных произведениях молодого поколения.
Как бы то ни было, мне кажется, не было бы преувеличением сказать, что и хорошая сравнительно учебная литература (где таковая существует) по крайней мере в среднем на десятилетие отстает от монографического и журнального уровня литературы тех же наук.
Конечно, это положение, как и установленные раньше, имеет различное значение в разных областях знания. Я руководствовался главным образом наблюдениями в области общественных наук. Есть области науки, где указанные несоответствия значительно меньше, есть и такие области, где эти несоответствия еще более поразительны. Бывают периоды уменьшения указанных расстояний (во времена относительного застоя), бывают и периоды поразительного увеличения этих расстояний (времена молодости новой науки, а равно периоды кризисов, смены школ и направлений или просто большого подъема научного воодушевления и творчества).
III.
Предыдущие замечания имели в виду ценные положения науки, научные истины или более или менее удачные приближения к истине, так сказать, плоды научного процесса, продукты научного производства, не касаясь самой процедуры добывания этих положений, самого процесса научного творчества.
Учебные руководства, compendia, представляют собой своего рода склады и магазины важнейших результатов производительного научного процесса, получаемых из многих лабораторий и кабинетов научного производства.
Наука представляет собой процесс постоянного методического мышления, направленного на создание и добывание новых истин и идей, на критику и разрушение ошибок и заблуждений или менее совершенных построений, а в компендиях преподносятся известные, главным образом положительные результаты, известные твердые отложения, кристаллизации, получающиеся в результате научного процесса.
Тот факт, что учебники не дают и не могут давать отражения тех мыслительных процессов, той мыслительной процедуры, главнейшие результаты которой они сообщают, впрочем, столь ясен и несомнителен, что излишне на нем подробно останавливаться.
Интереснее установить здесь следующее, идущее значительно дальше положение.
Prima facie можно было бы подумать, что этот процесс отражается по крайней мере в тех монографиях, из которых извлекаются главным образом положения для учебников (мы, конечно, предполагаем действительно научные и солидные учебники, а не те, которые представляют собой компиляции по нескольким чужим учебникам). Большая солидная монография с обстоятельнейшею аргументацией – тезис, подчас в несколько строчек, как результат ее в учебнике (кстати, тезис, читать который в авторитетном учебнике авторам монографий бывает, с одной стороны, конечно, весьма лестно и приятно, но, с другой стороны, обыкновенно и довольно неприятно, если у них чуткие научные «нервы»; вообще, научные идеи в своем движении от первых творцов к публичному, так сказать, потреблению почти всегда в каждой инстанции подвергаются некоторому опошлению, а когда они дойдут до широкой взрослой публики или учебников для детей, перейдя все стадии движения научного света от центра производства до широкого публичного потребления, то и узнать их часто нелегко – такой пошлый вид и тривиальную или прямо извращенную форму они иногда получают).
Конечно, в монографической литературе, питающей учебную, содержится обыкновенно не только наиболее продуманная и с любовью и художественно в научном смысле отделанная формулировка идеи, попадающей в виде более или менее удачной копии в учебник, но и некоторое отражение происшедшего для ее получения развития, лучшего определения и т. д. мыслительного процесса в уме «первоизобретателя». Но может быть речь именно только о некотором отражении, а никогда о верном изображении действительно происшедшего творческого процесса.
Прежде всего следует строго отличать научный процесс доказательства от процесса творческого мышления. Последний предшествует первому, и нередко они друг на друга совсем непохожи. При этом не только порядок течения мыслей в этих двух процессах не совпадает, а весьма часто процесс доказательства идет прямо обратным ходом по сравнению с творческим процессом (например, творчество идет в дедуктивном, сообщение и доказательство в индуктивном направлении, или наоборот), но и мыслительный материал бывает в большей или меньшей степени различный.
Но главное, что нужно принять во внимание для понимания отношения не только монографии, но и всякого печатного произведения к подлинному процессу научного мышления, к естественному, так сказать течению мыслей, – это тот несомненный факт, что писание для печати вовсе не означает излияния на бумагу (в форме символических, условных знаков алфавита) именно тех мыслей и в таком порядке, в каком они появляются в нашем уме в момент свободного мышления (хотя бы, например, во время предварительного размышления о тех вопросах, по которым мы имеем в виду написать монографию, статью и т. п.). Само собою разумеется, я предполагаю вполне честное, убежденное и искреннее писание и вовсе не имею в виду разногласие мысли и письма в таком направлении. Совершенно вне такого предположения, естественное и свободное мышление в уме ученого и его научное произведение в печатном виде или в виде рукописи для печати – две совершенно различные вещи, подчас довольно мало похожие друг на друга.
Изучение и изложение характера, направлений и причин этого различия потребовало бы много места и времени. Относящиеся сюда проблемы (они психологического свойства) и их изучение имели бы немалый теоретический интерес, пожалуй, и важное практическое значение (например, хотя бы для сознательного и методического обучения искусству писать и самообучения писательству), но для нас здесь теоретическое углубление в эту область не необходимо, а достаточно только констатировать и подтвердить, что интересующие нас процессы именно являются двумя совершенно различными, друг с другом отнюдь не совпадающими процессами. Для этой цели достаточно напомнить, например, следующие факты.
Производство и отделка хотя бы и не ученой рукописи для печати или даже просто письменное изложение мыслей не для печати, а, например, для сообщения в виде писем друзьям, для подачи в виде ученического сочинения учителю представляют собой манипуляцию, требующую особой выучки и сноровки и представляющую для необученных подчас непреоборимые, до отчаяния доводящие затруднения, совершенно независимо от тех мыслей, которые должны составить содержание письма, ученического сочинения и т. п. Вспомним гимназические времена, трагикомический вопрос: «Как начать?» и т. п.
Даже рукописи опытных, вполне «владеющих пером» писателей бывают подчас испещрены переделками и поправками; разные части перечеркиваются, а подчас переделываются несколько раз.
Но особенно наглядную иллюстрацию нашего положения доставляют стенограммы произносимых по свободному течению мыслей (а не заученных наизусть по предварительно составленной рукописи) речей. Кому приходилось заниматься корректурой для печати своих же стенографированных речей (например, лекций, речей в ученом обществе, в законосовещательной комиссии), тот знает, сколь неприятна и трудна эта задача. Нередко оказывается, что овчинка выделки не стоит: гораздо легче и скорее забраковать совсем стенограмму и написать извлечение главного содержания речи заново. Предо мною лежит книга под заглавием «Министерство финансов. Стенографические отчеты и журналы заседаний Высочайше учрежденной Комиссии по пересмотру законоположений о биржах и акционерных компаниях» (1898). Но если бы кто вывел из этого заглавия заключение, что он здесь может найти, так сказать, фотографии произнесенных в этой Комиссии речей, то это было бы весьма большим заблуждением. Заседания длились по 3–4 часа и были всецело заполнены речами, а «стенограммы» их (заседаний) занимают по 40–50 и даже меньше небольших страниц не особенно убористой печати; некоторые речи были весьма продолжительны и обстоятельны и длились подчас около часу или больше, а «стенограммы» их можно громко, не спеша прочесть за 10 минут или меньший промежуток времени. То же относится к так называемым «стенографическим отчетам» парламентских заседаний и т. п. Почти никогда не следует, читая печатные «стенограммы» каких-либо заседаний, воображать, что это действительно стенограммы, точные записи произнесенных слов. С другой стороны, точные стенографические отчеты, если бы таковые печатались и издавались, представляли бы собой по большей части довольно странные литературные произведения, которые бы весьма неприятно было читать, хотя соответственные речи, может быть, были превосходными речами именно как речи.
Иногда приходится читать университетские курсы под заглавием «Лекции, читанные в таком-то академическом году в таком-то университете»; иногда такие книги соблюдают даже некоторые внешние формы лекций, например разделены не на главы, а на «лекции», начинающиеся обращением «Messieurs» (особенно часта такая форма книг у французов) или «М. Г.!». Я уверен, что по крайней мере в 90 % случаев это простая фикция (и рационального смысла в таких выдумках я не вижу). Не фиктивны эти внешние формы разве в тех случаях, когда сами действительно читанные лекции были фикциями в том смысле, что собственно не произносились свободные речи в порядке естественного течения мыслей профессора, а считывалось или произносилось по памяти заученное наизусть содержание годной для печати рукописи.
Не умеющие или по каким-либо причинам не желающие свободно говорить в аудитории профессора так иногда делают: пред ними рукопись или печатные листы, и они медленно читают, поглядывая то в свое «пособие», то на слушателей, или даже смотрят только на страницы «пособия». Последнее, по-моему, предпочтительнее, ибо, во-первых, так легче читать, во-вторых, не приходится видеть обыкновенно очевидно скучающих или борющихся с дремотою жертв этой операции, хотя бы их всего было одна или две во всей аудитории. Некоторые же (сюда относятся подчас очень старательные и усердные лекторы) читают лекции наизусть в точном смысле этого слова, т. е. они произносят заученные наизусть слова заготовленной раньше рукописи. Но и от таких лекций, как бы они ни были хороши в качестве глав печатного труда, обыкновенно веет таким холодом и такою скукою, что относительно них я вообще полагаю вместе с противниками лекций вообще, что читать книгу – гораздо более подходящее занятие, нежели слушание лекции.
Должен, впрочем, оговориться, что некоторые ораторы, готовящиеся к речи путем «зубристики», все-таки подчас произносят очень хорошие речи. Я не отрицаю абсолютно возможности так изготовить рукопись, что она вполне приноровлена к требованиям и вызову впечатления свободной речи, а также возможности такого произнесения наизусть слов и предложений такой рукописи, что получается более или менее полная иллюзия свободной речи. При известном обучении и упражнении, может быть, этого искусства можно было бы достигнуть всякому оратору или университетскому лектору. Между прочим, я полагаю, что «оратору» этого легче достигнуть, чем ученому лектору. Ибо в области ораторского искусства в собственном смысле есть много таких средств (неудобных или прямо шокирующих в случаях применения в области строго научной лекции), которые легко создают иллюзию подлинной жизни и свободного течения мысли и чувства (жесты, радостное, печальное и т. п. выражения лица, «цветы красноречия», как бы нечаянно появляющиеся, и т. п.).
Как бы то ни было, произнесение наизусть заученного лишь при особом искусстве этого рода может представлять более или менее удачный суррогат свободной речи и вызывать иллюзию свободного течения мыслей и чувства.
По существу все-таки остается правильным наше положение, что дело идет о двух совершенно различных явлениях с различною структурою, с различным характером и назначением.
Поэтому стенографическая или иная точная копия свободного «громкого мышления» обыкновенно совершенно негодна для печати, а глава рукописи или книги – обыкновенно негодный предмет для лекции, и даже трудно с успехом выдать громкое произнесение ее за свободное «громкое мышление».
Этим я, конечно, отнюдь не умаляю значения и ценности ни того, ни другого и считал бы даже странным и неуместным рассуждение о том, что? лучше, в частности лучше ли быть (например, студенту) слушателем свободной речи или читателем книги. Странно было бы рассуждать о том, что? лучше – сапоги или шапка, и доказывать, что сапоги отличаются такими-то несомненными преимуществами пред шапкою. Поскольку дело идет о покрытии головы, то, несмотря на все преимущества сапог, их бо?льшую прочность и всякие другие заслуги, все-таки шапка лучше, и обратно; и самые решительные приверженцы идеи о многочисленных превосходствах шапок по сравнению с сапогами не стали бы спорить, что, несмотря на все несомненные, с их точки зрения (им, например, больше нравится мягкость, легкость и т. д., чем прочность и другие свойства сапог), преимущества шапок, все-таки уж лучше обуваться сапогами, нежели шапками.
Я только в качестве склонного в некоторому «педантизму ученого», да к тому же юриста, внес бы в это рассуждение пред подписью в знак согласия одну оговорку.
Мыслимы и бывают такие сапоги или такие шапки, что лучше ни того, ни другого не надевать: например, бумажная шутовская шапка или гнилая и издающая неприятный запах шапка тоже именуется шапкой, но подчас предпочтительнее остаться с непокрытой головой, чем пользоваться такими шапками.
Если мне интересно и желательно познакомиться с мыслительным процессом данного лица, например гениального философа или знаменитого ученого специалиста, и этот виртуоз мысли великодушно снисходит до удовлетворения такого моего желания, предлагая мне слушать его свободные, только «громкие» размышления по разным важным и серьезным проблемам, то я, естественно, брошу всякие, хотя бы и превосходные и даже написанные еще более гениальными людьми, учебники и буду с радостью его слушать, удивляясь разве его великодушию, его готовности посвятить меня в свою гениальную умственную лабораторию, раскрыть предо мною тайны своего удивительного мышления. Слушание его я бы с величайшею радостью предпочел даже чтению им же самим написанного учебника (обыкновенно такой альтернативы вовсе нет, потому что учебник доступен всякому), ибо я понимаю, что мое желание, т. е. желание непосредственно ознакомиться с ходом, процессом и приемами мышления этого гениального человека или хотя бы просто выдающегося и талантливого мыслителя (о пользе этого и резонности такого желания см. ниже), отнюдь не может быть удовлетворено чтением хотя бы даже им самим сочиненного учебника; и вообще, наиболее непосредственный, лучший мыслимый способ удовлетворения такого моего желания именно тот, который он мне великодушно предложил, согласившись раскрыть, так сказать, предо мною двери своей интимнейшей мыслительной лаборатории.
IV.
До сих пор у нас шла речь о чисто интеллектуальной стороне научного процесса – о научных знаниях (III) и научном мышлении (IV) в тесном смысле этих слов.
Но интеллектуальным элементом не исчерпывается существо научного процесса. В жизни науки принимает участие и весьма существенную роль играет еще иной элемент – элемент чувства, целый ряд чувств особого рода, возвышенного свойства.
Наука есть такое явление духа человеческого, которое, подобно религии, поэзии, нравственности, способно вызывать чистую и незаинтересованную любовь и уважение к себе, воодушевление особого свойства, подчас величайший энтузиазм и поднимать этими чувствами дух человеческий высоко над личными житейскими интересами, над мелочами и пошлостями жизни. Истина заключает в себе нечто божественное, как добро, красота…
Наши выражения «чистая и незаинтересованная любовь и уважение», «воодушевление особого свойства» не дают, впрочем, анализа и определения того чувства особого рода – его можно назвать «научным чувством», – которым живет и дышит наука. Язык человеческий вообще не имеет средств, путем которых можно было бы выразить и определить существо разного рода чувств и таким образом, например, познакомить другого с таким чувством, которое ему раньше не было известно по личному внутреннему опыту. Наиболее ценное и высокое в духовной жизни зиждется на чувстве. Нравственность зиждется на особом, не поддающемся анализу и определению чувстве долга, право имеет подобный же фундамент – только здесь чувство нашего долга является в то же время чувством права, притязания другого, между тем как нравственный долг есть свободный долг без чувства права, притязания другого на известное поведение с нашей стороны. Эстетика зиждется на опять-таки не поддающемся анализу и определению чувстве красоты. Этим в значительной степени объясняется то явление, что ученые и философы до сих пор ломают себе головы над определением морали; юристы до сих пор не сумели определить существо права; точно так же и эстетики научного определения изучаемого ими предмета до сих пор нам не сумели доставить. Каких только формул для определения морали, права ни предлагалось и ни предлагается! Кант – великий философ не только гносеологии, но и права и морали – отверг все предыдущие определения морали и права и не без иронии говорил о юристах, которые «еще ищут определение для своего понятия права»; вместо других определений он предложил собственные, по-видимому, очень глубокие формулы существа морали и права, но не нашел и он того, чего без успеха искали до него философы древности, Средних веков и Нового времени. И собственно такого определения, какое мы, например, имеем для понятий «круг», «треугольник» и т. п., и быть не может для права, как и для морали, и обычные формулы и теории, которые пытаются без ссылки на не поддающееся определению нравственное чувство или чувство права дать определение нравственности или права, представляют покушения с негодными средствами. Перестанет сбиваться с пути философия права, как и моральная философия, по нашему крайнему разумению, только тогда, когда она осознает это положение дела, когда в основу теории будет положено признание и констатирование этого чувства sui generis. Теперь юристам еще странным подчас кажется, если изучать право как психическое явление sui generis путем соответственного психологического метода…
И существо, и природа науки, по моему мнению, собственно, вовсе не охватываются и не определяются ходячими формулами, игнорирующими свойственный ей элемент чувства. А тот, кто не испытывал и не знает того чувства sui generis, о котором мы говорили выше, собственно, не знает науки и не причастен к ней, подобно тому как не мог бы знать существа поэзии тот, который бы рассуждал о стихах и т. п., но не знал чувства красоты, или подобно тому как не знал бы вовсе существа религии тот, который бы целые книги написал о египетском культе и божествах и о разных других религиях, но никогда не испытывал и потому не знает и знать не может тех особых чувств мистического характера, которым соответствует понятие религиозного чувства и без знания которого религия вообще понята и познана быть не может.
Может быть, руководства содержат по крайней мере сумму достигнутой в данное время наукою мудрости в области тех наиболее общих и крупных проблем, которые составляют их предмет?
Для нас все-таки особенно ценны наиболее общие положения нашей науки, истина, а по крайней мере лучшее, наиболее совершенное приближение к истине, в области известной совокупности более общих и крупных вопросов. Поэтому поставленный вопрос имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение, между прочим, и для желающих сознательно учиться или сознательно направлять учение других.
К сожалению (особенно с точки зрения тех, которые склонны усматривать в учебниках не только начало, но и удовлетворительный конец ознакомления с наукою), на поставленный вопрос может быть только отрицательный ответ.
Прежде всего нельзя забывать, что наука реально живет и – особенно в Новое время – быстро развивается в психике многих ученых, но того, что теперь находится в «лучших умах» представителей мыслительного процесса данной области науки, знать и сообщить в руководстве невозможно. Нам, ученым, доступно только то (кроме добытого собственным умом), что наши commilitones, соратники в борьбе за истину, уже поведали миру; говоря практически, нам доступно обыкновенно только последнее печатное слово, но не последняя мудрость науки. А это две очень различные вещи.
Пожалуй, то, что находится в умах более посредственных, а тем более совсем слабых не идет дальше (или даже находится более или менее далеко позади) последней «печатной мудрости» науки. Но среди серой массы тружеников науки, двигающих ее вперед разве в капиллярных и микроскопических ее разветвлениях, имеются и сильные и подчас могучие умы, иногда много прежних крупных и, казалось, крепких идейных строений в мысли разрушающих и заменяющих их более совершенными идейными строениями, – может быть, только более близкими к истине станциями, может быть, вполне соответствующими истине решениями. И к ним, заметим, относятся не только несколько известных нам крупнейших и знаменитых в данной науке ученых, но и, может быть, столько же только начинающих привлекать взоры ученого мира или даже и совсем еще неизвестных (кроме разве небольшого кружка слушателей начинающего доцента) ученых.
И чем крупнее их идеи, чем глубже они врезываются в теперешнюю структуру науки, чем больше их размер и размах, может быть, ведущий к основной перестройке всего здания, к созданию новой школы и новой эпохи, тем больше ceteris paribus промежуток времени между появлением их в уме ученого и передачею их в виде печатного труда на всеобщее пользование. Несомненно, что много великих научных ценностей было унесено их творцами в гроб, потому что они не успели их поведать миру; это особенно легко возможно в области таких идейных систем, для разработки и облечения коих в форму книг требуются десятилетия. Много великих научных трудов и крупных систем было издано великими авторами их на склоне лет как зрелый плод всей их жизни. Много крупного и ценного оказывается часто в так называемых посмертных изданиях, т. е. изданных по оконченным до смерти, но не напечатанным, или еще не оконченным, или во всяком случае окончательно не отделанным рукописям, или же по начатым только рукописям, кускам их, отрывкам… А крупнейшие и гениальные ученые, даже долго жившие, несомненно, всегда уносят много настоящего золота идейного в гроб, ибо ценные идеи появляются и мыслятся быстро, в умах сильных и гениальных мыслителей – в большом изобилии, а книги пишутся очень медленно (очень кропотливый и тяжелый труд!), и в каждой книге сообщается только то, что к данной «теме» относится.
Мелкий золотой песок науки сыплется быстрее, мелкие ученые с их немногими и небольшими идейками «выписываются» сравнительно быстро, но относительно целых глыб научного золота, относительно крупных и ценнейших, новые широкие горизонты открывающих и новые эпохи создающих идей и систем таковых, едва ли будет преувеличением сказать, что «последнее слово науки» в смысле печатной литературы отстает по крайней мере на десятилетия от последней мудрости науки в лице ее наиболее сильных и могучих борцов.
Между прочим, теперь научный барометр в области нравственных, правовых, экономических – вообще гуманных наук, а отчасти и в области философии начинает показывать приближение грандиозной бури, которая, вероятно, потрясет до оснований наши вообще (по сравнению с развитием некоторых других наук) довольно жалкие научные зданьица, подчас построенные на куриных ножках, на совершенно жалких и неподходящих фундаментах (например, теперешняя печатная нравственная и правовая мудрость в области философии нравственности и права покоится в значительной степени на субъективном нравственном и правовом нигилизме, на незнании и непризнании особой духовной природы сих явлений, на сведении их к индивидуальным или массовым вожделениям и интересам, к пожеланиям известной «пользы», к стремлениям к известным желательным для решающих факторов «целям» и т. п., так что, собственно, надлежало бы последовательно выбросить за борт соответственные особые науки за отсутствием особого, отличного от других предмета). Эта буря очистит затхлый и гнилой воздух пошлого житейского «материализма», отчасти связанного с еще недавно господствовавшим в области философии и естественных наук (а отчасти и в области общественных наук (ср., например, философские основания так называемого исторического материализма, а равно марксизма в тесном смысле в области политэкономии)) теоретическим материализмом, отчасти же имеющего собственные корни в некоторых болезнях века. Эта буря даст толчок нашим наукам и вызовет коренную перестройку. Симптомы этой приближающейся и, по-видимому, быстро надвигающейся научной революции отчасти проявляются и в печати, подчас в довольно неудачной и, так сказать, насильственной форме, в форме как бы только еще полусознательного, но сильного стремления в сторону, противоположную той, которая господствовала в науке второй половины XIX в., – стремления, начинающего столь сильно давить и толкать, что люди готовы ухватиться за что попало, хотя бы, например, и за память покойного Кёнигсбергского Философа, который бы крайне был удивлен и изумлен, увидев, что? в одних областях приурочивают к его гносеологии, в других областях (например, в области политической экономии) – к его категорическому нравственному императиву и вообще практическому (в философском смысле) идеализму, какие усилия употребляются для того, чтобы найти у него и те специальные новые идеи, которые ему не только никогда и в голову не приходили, но противоположному которым он ясно и категорически учит на каждом шагу. Более обстоятельно и в более глубоком виде и интересной форме можно познакомиться с разными симптомами зреющего в умах ученых поворота и переворота идей путем слушания их лекций. Знакомящиеся с науками только по учебникам имеют дело с тем направлением и миросозерцанием, которое лет 10–20 тому назад задавало тон и торжествовало в аудиториях, но теперь, по крайней мере в некоторых университетах, уже подвергается принципиальной критике и начинает уступать место более идеальному миросозерцанию (этим, между прочим, в значительной степени объясняются и такие, например, явления, как имеющие характер предсмертных судорог движения марксизма и экономического материализма вообще).
Кроме слушания лекций, средством ознакомления с теперешним с каждым годом все живее и живее бьющимся пульсом науки могут служить отчасти коллегиальное общение и научные беседы в главных центрах научного производства. Темы и характер этих бесед, отражающееся в них настроение и миросозерцание быстро меняют свою окраску и свое направление, что, может быть, даже незаметно самим участникам такого постоянного общения, но положительно поражает приезжающих «в гости» от времени до времени.
Между прочим, для ученых, желающих быть в курсе дела и не отставать, особенно для находящихся вдали от главных столиц науки, весьма полезными и даже необходимыми следует признать периодические поездки во время каникул, а еще лучше на более продолжительное время в те научные центры, где их науки бьют особенно живым и сильным ключом. Поэтому одним из начал рациональной университетской политики является всяческое облегчение и поощрение заграничных поездок с научною целью и командировок не только для начинающих ученых, но и для профессоров. Этим был бы усилен приток новых идей и научного воодушевления и творчества. Погружение в научную спячку профессора более вредит кафедре и университету, чем перерыв его деятельности с временным замещением его или даже без замещения в течение года.
Как бы то ни было, не может подлежать никакому сомнению, что настоящее «последнее слово науки» и то «слово» ее, которое содержится в наличных печатных произведениях, – это две различные вещи и что печатная мудрость науки необходимо находится позади подлинной последней мудрости ее, никогда ее не догоняя.
Что же касается систематических руководств, то по их адресу надо к сказанному добавить еще, что они, в свою очередь, отстают от уровня даже последней печатной, т. е. непременно несколько отставшей, мудрости науки.
И при лучшем мыслимом вооружении автора руководства для того, чтобы следить за текущею, и притом текущею все более широкою рекою, литературою по множеству разветвлений его специальности и по смежным областям науки[42 - Сюда относятся знание языков, образованность в сфере различных наук, обильные материальные средства на приобретение текущей литературы и надлежащее развитие своей библиотеки (университетская библиотека этого условия отнюдь не может заменить, хотя и она необходима и доставляет очень важную помощь).], а равно при постоянной затрате большого труда и времени для поддержания такой связи с движением литературы все-таки быть в курсе дела можно (особенно в новейшее время) лишь в известной степени, в относительном смысле.
А затем, и при превосходной школе и силе мышления в данной области и могучем критическом таланте для того, чтобы уметь правильно познать и оценить научное золото в этом море литературы и отличить его от мишуры, все-таки это может быть достигнуто силами одного автора руководства лишь в сравнительно скромной степени, но отнюдь не в идеальном совершенстве.
Один выудит одно, другой другое из тех зерен золота, которые рассеяны в монографической, журнальной и т. д. ученой литературе, так что уже во всяком случае ознакомление с несколькими новейшими руководствами скорее может дать некоторое представление о современном состоянии науки, нежели чтение одного руководства, даже и очень хорошего. Но, затем, наука представляет, особенно в новейшее время, процесс, развивающийся с очень большою и быстро ускоряющеюся быстротою, и пока закончилось печатание систематического руководства науки, она уже убежала вперед даже в виде печатной своей тени.
Фактически руководства и учебники, по которым учится юношество, обыкновенно являются отставшими от новейшего уровня науки в гораздо большей степени, чем это можно было бы предполагать на основании вышеизложенных общих соображений. Я уже не говорю о положении некоторых наших университетских наук, руководства по которым, изучаемые студентами, иногда были изданы десятки лет тому назад учеными, уже тогда далеко не бывшими на уровне науки, а затем переиздавались без всякого изменения или с такими изменениями, которые вовсе не приближали учебник к достигнутому уровню науки[43 - Например, имеющий наибольшее распространение в провинциальных университетах учебник Ренненкампфа «Юридическая энциклопедия» представляет переделку более обширного руководства того же автора, уже в 1868 г., т. е. в год своего появления, весьма слабо и отстало отражавшего тогдашний уровень теории права, притом переделку, ни на шаг не подвинувшую содержание вперед, а только сократившую его и испортившую и в других отношениях для приноровлению к экзаменному зубрению по программе, «изданной Министерством народного просвещения в 1888 г. для производства испытаний в государственных испытательных комиссиях» (слова в кавычках взяты из краткого, но очень ясного предисловия). Отсталость этого ходкого учебника можно приблизительно оценить в полстолетия. Таких же находящихся в ходу учебников, которые представляются отставшими на одно ученое поколение – на 30, 20 лет и т. п., немало (хотя по датам изданий этого иногда не видно).]. Даже если остановиться на таких учебниках, которые имеют сравнительно новую или даже совсем недавнюю дату, например 1900 или 1901 г. (таких, конечно, сравнительно весьма немного, например, и в Германии), и авторами которых являются первые светила науки, постоянно и исключительно преданные упорному научному труду, и то совершенно ошибочно было бы думать, будто уровень этих передовых учебников равен уровню, достигнутому монографической и журнальной литературой.
Солидные учебники издаются обыкновенно только после многолетней профессорской деятельности, чаще всего на старости лет; но когда вся система науки уже в такой степени переработана ученым, что он имеет смелость (в Германии, например, это большая смелость) выступить с систематическим руководством, его научный ум, приобретя большую солидность и превосходные качества во многих отношениях, уже потерял в большей или меньшей степени то качество, которое свойственно главным образом молодости, а именно способность не бояться новизны, уметь понять, оценить и усвоить то ценное, которое заключается в новейших движениях науки, в бесчисленных научных произведениях молодого поколения.
Как бы то ни было, мне кажется, не было бы преувеличением сказать, что и хорошая сравнительно учебная литература (где таковая существует) по крайней мере в среднем на десятилетие отстает от монографического и журнального уровня литературы тех же наук.
Конечно, это положение, как и установленные раньше, имеет различное значение в разных областях знания. Я руководствовался главным образом наблюдениями в области общественных наук. Есть области науки, где указанные несоответствия значительно меньше, есть и такие области, где эти несоответствия еще более поразительны. Бывают периоды уменьшения указанных расстояний (во времена относительного застоя), бывают и периоды поразительного увеличения этих расстояний (времена молодости новой науки, а равно периоды кризисов, смены школ и направлений или просто большого подъема научного воодушевления и творчества).
III.
Предыдущие замечания имели в виду ценные положения науки, научные истины или более или менее удачные приближения к истине, так сказать, плоды научного процесса, продукты научного производства, не касаясь самой процедуры добывания этих положений, самого процесса научного творчества.
Учебные руководства, compendia, представляют собой своего рода склады и магазины важнейших результатов производительного научного процесса, получаемых из многих лабораторий и кабинетов научного производства.
Наука представляет собой процесс постоянного методического мышления, направленного на создание и добывание новых истин и идей, на критику и разрушение ошибок и заблуждений или менее совершенных построений, а в компендиях преподносятся известные, главным образом положительные результаты, известные твердые отложения, кристаллизации, получающиеся в результате научного процесса.
Тот факт, что учебники не дают и не могут давать отражения тех мыслительных процессов, той мыслительной процедуры, главнейшие результаты которой они сообщают, впрочем, столь ясен и несомнителен, что излишне на нем подробно останавливаться.
Интереснее установить здесь следующее, идущее значительно дальше положение.
Prima facie можно было бы подумать, что этот процесс отражается по крайней мере в тех монографиях, из которых извлекаются главным образом положения для учебников (мы, конечно, предполагаем действительно научные и солидные учебники, а не те, которые представляют собой компиляции по нескольким чужим учебникам). Большая солидная монография с обстоятельнейшею аргументацией – тезис, подчас в несколько строчек, как результат ее в учебнике (кстати, тезис, читать который в авторитетном учебнике авторам монографий бывает, с одной стороны, конечно, весьма лестно и приятно, но, с другой стороны, обыкновенно и довольно неприятно, если у них чуткие научные «нервы»; вообще, научные идеи в своем движении от первых творцов к публичному, так сказать, потреблению почти всегда в каждой инстанции подвергаются некоторому опошлению, а когда они дойдут до широкой взрослой публики или учебников для детей, перейдя все стадии движения научного света от центра производства до широкого публичного потребления, то и узнать их часто нелегко – такой пошлый вид и тривиальную или прямо извращенную форму они иногда получают).
Конечно, в монографической литературе, питающей учебную, содержится обыкновенно не только наиболее продуманная и с любовью и художественно в научном смысле отделанная формулировка идеи, попадающей в виде более или менее удачной копии в учебник, но и некоторое отражение происшедшего для ее получения развития, лучшего определения и т. д. мыслительного процесса в уме «первоизобретателя». Но может быть речь именно только о некотором отражении, а никогда о верном изображении действительно происшедшего творческого процесса.
Прежде всего следует строго отличать научный процесс доказательства от процесса творческого мышления. Последний предшествует первому, и нередко они друг на друга совсем непохожи. При этом не только порядок течения мыслей в этих двух процессах не совпадает, а весьма часто процесс доказательства идет прямо обратным ходом по сравнению с творческим процессом (например, творчество идет в дедуктивном, сообщение и доказательство в индуктивном направлении, или наоборот), но и мыслительный материал бывает в большей или меньшей степени различный.
Но главное, что нужно принять во внимание для понимания отношения не только монографии, но и всякого печатного произведения к подлинному процессу научного мышления, к естественному, так сказать течению мыслей, – это тот несомненный факт, что писание для печати вовсе не означает излияния на бумагу (в форме символических, условных знаков алфавита) именно тех мыслей и в таком порядке, в каком они появляются в нашем уме в момент свободного мышления (хотя бы, например, во время предварительного размышления о тех вопросах, по которым мы имеем в виду написать монографию, статью и т. п.). Само собою разумеется, я предполагаю вполне честное, убежденное и искреннее писание и вовсе не имею в виду разногласие мысли и письма в таком направлении. Совершенно вне такого предположения, естественное и свободное мышление в уме ученого и его научное произведение в печатном виде или в виде рукописи для печати – две совершенно различные вещи, подчас довольно мало похожие друг на друга.
Изучение и изложение характера, направлений и причин этого различия потребовало бы много места и времени. Относящиеся сюда проблемы (они психологического свойства) и их изучение имели бы немалый теоретический интерес, пожалуй, и важное практическое значение (например, хотя бы для сознательного и методического обучения искусству писать и самообучения писательству), но для нас здесь теоретическое углубление в эту область не необходимо, а достаточно только констатировать и подтвердить, что интересующие нас процессы именно являются двумя совершенно различными, друг с другом отнюдь не совпадающими процессами. Для этой цели достаточно напомнить, например, следующие факты.
Производство и отделка хотя бы и не ученой рукописи для печати или даже просто письменное изложение мыслей не для печати, а, например, для сообщения в виде писем друзьям, для подачи в виде ученического сочинения учителю представляют собой манипуляцию, требующую особой выучки и сноровки и представляющую для необученных подчас непреоборимые, до отчаяния доводящие затруднения, совершенно независимо от тех мыслей, которые должны составить содержание письма, ученического сочинения и т. п. Вспомним гимназические времена, трагикомический вопрос: «Как начать?» и т. п.
Даже рукописи опытных, вполне «владеющих пером» писателей бывают подчас испещрены переделками и поправками; разные части перечеркиваются, а подчас переделываются несколько раз.
Но особенно наглядную иллюстрацию нашего положения доставляют стенограммы произносимых по свободному течению мыслей (а не заученных наизусть по предварительно составленной рукописи) речей. Кому приходилось заниматься корректурой для печати своих же стенографированных речей (например, лекций, речей в ученом обществе, в законосовещательной комиссии), тот знает, сколь неприятна и трудна эта задача. Нередко оказывается, что овчинка выделки не стоит: гораздо легче и скорее забраковать совсем стенограмму и написать извлечение главного содержания речи заново. Предо мною лежит книга под заглавием «Министерство финансов. Стенографические отчеты и журналы заседаний Высочайше учрежденной Комиссии по пересмотру законоположений о биржах и акционерных компаниях» (1898). Но если бы кто вывел из этого заглавия заключение, что он здесь может найти, так сказать, фотографии произнесенных в этой Комиссии речей, то это было бы весьма большим заблуждением. Заседания длились по 3–4 часа и были всецело заполнены речами, а «стенограммы» их (заседаний) занимают по 40–50 и даже меньше небольших страниц не особенно убористой печати; некоторые речи были весьма продолжительны и обстоятельны и длились подчас около часу или больше, а «стенограммы» их можно громко, не спеша прочесть за 10 минут или меньший промежуток времени. То же относится к так называемым «стенографическим отчетам» парламентских заседаний и т. п. Почти никогда не следует, читая печатные «стенограммы» каких-либо заседаний, воображать, что это действительно стенограммы, точные записи произнесенных слов. С другой стороны, точные стенографические отчеты, если бы таковые печатались и издавались, представляли бы собой по большей части довольно странные литературные произведения, которые бы весьма неприятно было читать, хотя соответственные речи, может быть, были превосходными речами именно как речи.
Иногда приходится читать университетские курсы под заглавием «Лекции, читанные в таком-то академическом году в таком-то университете»; иногда такие книги соблюдают даже некоторые внешние формы лекций, например разделены не на главы, а на «лекции», начинающиеся обращением «Messieurs» (особенно часта такая форма книг у французов) или «М. Г.!». Я уверен, что по крайней мере в 90 % случаев это простая фикция (и рационального смысла в таких выдумках я не вижу). Не фиктивны эти внешние формы разве в тех случаях, когда сами действительно читанные лекции были фикциями в том смысле, что собственно не произносились свободные речи в порядке естественного течения мыслей профессора, а считывалось или произносилось по памяти заученное наизусть содержание годной для печати рукописи.
Не умеющие или по каким-либо причинам не желающие свободно говорить в аудитории профессора так иногда делают: пред ними рукопись или печатные листы, и они медленно читают, поглядывая то в свое «пособие», то на слушателей, или даже смотрят только на страницы «пособия». Последнее, по-моему, предпочтительнее, ибо, во-первых, так легче читать, во-вторых, не приходится видеть обыкновенно очевидно скучающих или борющихся с дремотою жертв этой операции, хотя бы их всего было одна или две во всей аудитории. Некоторые же (сюда относятся подчас очень старательные и усердные лекторы) читают лекции наизусть в точном смысле этого слова, т. е. они произносят заученные наизусть слова заготовленной раньше рукописи. Но и от таких лекций, как бы они ни были хороши в качестве глав печатного труда, обыкновенно веет таким холодом и такою скукою, что относительно них я вообще полагаю вместе с противниками лекций вообще, что читать книгу – гораздо более подходящее занятие, нежели слушание лекции.
Должен, впрочем, оговориться, что некоторые ораторы, готовящиеся к речи путем «зубристики», все-таки подчас произносят очень хорошие речи. Я не отрицаю абсолютно возможности так изготовить рукопись, что она вполне приноровлена к требованиям и вызову впечатления свободной речи, а также возможности такого произнесения наизусть слов и предложений такой рукописи, что получается более или менее полная иллюзия свободной речи. При известном обучении и упражнении, может быть, этого искусства можно было бы достигнуть всякому оратору или университетскому лектору. Между прочим, я полагаю, что «оратору» этого легче достигнуть, чем ученому лектору. Ибо в области ораторского искусства в собственном смысле есть много таких средств (неудобных или прямо шокирующих в случаях применения в области строго научной лекции), которые легко создают иллюзию подлинной жизни и свободного течения мысли и чувства (жесты, радостное, печальное и т. п. выражения лица, «цветы красноречия», как бы нечаянно появляющиеся, и т. п.).
Как бы то ни было, произнесение наизусть заученного лишь при особом искусстве этого рода может представлять более или менее удачный суррогат свободной речи и вызывать иллюзию свободного течения мыслей и чувства.
По существу все-таки остается правильным наше положение, что дело идет о двух совершенно различных явлениях с различною структурою, с различным характером и назначением.
Поэтому стенографическая или иная точная копия свободного «громкого мышления» обыкновенно совершенно негодна для печати, а глава рукописи или книги – обыкновенно негодный предмет для лекции, и даже трудно с успехом выдать громкое произнесение ее за свободное «громкое мышление».
Этим я, конечно, отнюдь не умаляю значения и ценности ни того, ни другого и считал бы даже странным и неуместным рассуждение о том, что? лучше, в частности лучше ли быть (например, студенту) слушателем свободной речи или читателем книги. Странно было бы рассуждать о том, что? лучше – сапоги или шапка, и доказывать, что сапоги отличаются такими-то несомненными преимуществами пред шапкою. Поскольку дело идет о покрытии головы, то, несмотря на все преимущества сапог, их бо?льшую прочность и всякие другие заслуги, все-таки шапка лучше, и обратно; и самые решительные приверженцы идеи о многочисленных превосходствах шапок по сравнению с сапогами не стали бы спорить, что, несмотря на все несомненные, с их точки зрения (им, например, больше нравится мягкость, легкость и т. д., чем прочность и другие свойства сапог), преимущества шапок, все-таки уж лучше обуваться сапогами, нежели шапками.
Я только в качестве склонного в некоторому «педантизму ученого», да к тому же юриста, внес бы в это рассуждение пред подписью в знак согласия одну оговорку.
Мыслимы и бывают такие сапоги или такие шапки, что лучше ни того, ни другого не надевать: например, бумажная шутовская шапка или гнилая и издающая неприятный запах шапка тоже именуется шапкой, но подчас предпочтительнее остаться с непокрытой головой, чем пользоваться такими шапками.
Если мне интересно и желательно познакомиться с мыслительным процессом данного лица, например гениального философа или знаменитого ученого специалиста, и этот виртуоз мысли великодушно снисходит до удовлетворения такого моего желания, предлагая мне слушать его свободные, только «громкие» размышления по разным важным и серьезным проблемам, то я, естественно, брошу всякие, хотя бы и превосходные и даже написанные еще более гениальными людьми, учебники и буду с радостью его слушать, удивляясь разве его великодушию, его готовности посвятить меня в свою гениальную умственную лабораторию, раскрыть предо мною тайны своего удивительного мышления. Слушание его я бы с величайшею радостью предпочел даже чтению им же самим написанного учебника (обыкновенно такой альтернативы вовсе нет, потому что учебник доступен всякому), ибо я понимаю, что мое желание, т. е. желание непосредственно ознакомиться с ходом, процессом и приемами мышления этого гениального человека или хотя бы просто выдающегося и талантливого мыслителя (о пользе этого и резонности такого желания см. ниже), отнюдь не может быть удовлетворено чтением хотя бы даже им самим сочиненного учебника; и вообще, наиболее непосредственный, лучший мыслимый способ удовлетворения такого моего желания именно тот, который он мне великодушно предложил, согласившись раскрыть, так сказать, предо мною двери своей интимнейшей мыслительной лаборатории.
IV.
До сих пор у нас шла речь о чисто интеллектуальной стороне научного процесса – о научных знаниях (III) и научном мышлении (IV) в тесном смысле этих слов.
Но интеллектуальным элементом не исчерпывается существо научного процесса. В жизни науки принимает участие и весьма существенную роль играет еще иной элемент – элемент чувства, целый ряд чувств особого рода, возвышенного свойства.
Наука есть такое явление духа человеческого, которое, подобно религии, поэзии, нравственности, способно вызывать чистую и незаинтересованную любовь и уважение к себе, воодушевление особого свойства, подчас величайший энтузиазм и поднимать этими чувствами дух человеческий высоко над личными житейскими интересами, над мелочами и пошлостями жизни. Истина заключает в себе нечто божественное, как добро, красота…
Наши выражения «чистая и незаинтересованная любовь и уважение», «воодушевление особого свойства» не дают, впрочем, анализа и определения того чувства особого рода – его можно назвать «научным чувством», – которым живет и дышит наука. Язык человеческий вообще не имеет средств, путем которых можно было бы выразить и определить существо разного рода чувств и таким образом, например, познакомить другого с таким чувством, которое ему раньше не было известно по личному внутреннему опыту. Наиболее ценное и высокое в духовной жизни зиждется на чувстве. Нравственность зиждется на особом, не поддающемся анализу и определению чувстве долга, право имеет подобный же фундамент – только здесь чувство нашего долга является в то же время чувством права, притязания другого, между тем как нравственный долг есть свободный долг без чувства права, притязания другого на известное поведение с нашей стороны. Эстетика зиждется на опять-таки не поддающемся анализу и определению чувстве красоты. Этим в значительной степени объясняется то явление, что ученые и философы до сих пор ломают себе головы над определением морали; юристы до сих пор не сумели определить существо права; точно так же и эстетики научного определения изучаемого ими предмета до сих пор нам не сумели доставить. Каких только формул для определения морали, права ни предлагалось и ни предлагается! Кант – великий философ не только гносеологии, но и права и морали – отверг все предыдущие определения морали и права и не без иронии говорил о юристах, которые «еще ищут определение для своего понятия права»; вместо других определений он предложил собственные, по-видимому, очень глубокие формулы существа морали и права, но не нашел и он того, чего без успеха искали до него философы древности, Средних веков и Нового времени. И собственно такого определения, какое мы, например, имеем для понятий «круг», «треугольник» и т. п., и быть не может для права, как и для морали, и обычные формулы и теории, которые пытаются без ссылки на не поддающееся определению нравственное чувство или чувство права дать определение нравственности или права, представляют покушения с негодными средствами. Перестанет сбиваться с пути философия права, как и моральная философия, по нашему крайнему разумению, только тогда, когда она осознает это положение дела, когда в основу теории будет положено признание и констатирование этого чувства sui generis. Теперь юристам еще странным подчас кажется, если изучать право как психическое явление sui generis путем соответственного психологического метода…
И существо, и природа науки, по моему мнению, собственно, вовсе не охватываются и не определяются ходячими формулами, игнорирующими свойственный ей элемент чувства. А тот, кто не испытывал и не знает того чувства sui generis, о котором мы говорили выше, собственно, не знает науки и не причастен к ней, подобно тому как не мог бы знать существа поэзии тот, который бы рассуждал о стихах и т. п., но не знал чувства красоты, или подобно тому как не знал бы вовсе существа религии тот, который бы целые книги написал о египетском культе и божествах и о разных других религиях, но никогда не испытывал и потому не знает и знать не может тех особых чувств мистического характера, которым соответствует понятие религиозного чувства и без знания которого религия вообще понята и познана быть не может.