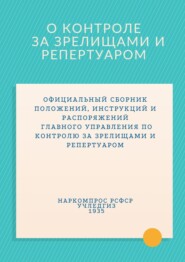По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мусульмане в новой имперской истории
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Архивная революция оказалась частью и моей биографии. Темой моих исследований служат религиозные и правовые практики мусульман-суннитов Северного Кавказа, в основном из Нагорного Дагестана. Меня в особенности интересует, как в период бесконечных и глобальных государственных реформ, начавшихся на дореволюционном Кавказе еще во второй трети XIX в. и продолжавшихся при советской власти, их жизнь менялась на микроуровне – в сельских общинах, или джамаатах. Я занимаюсь этим более двадцати пяти лет, где-то с начала 1990-х годов. Наряду с полевыми этнографическими материалами моими источниками служат документы на восточных и русском языках из государственных и частных собраний Дагестана. Для любого историка, которому случилось жить и работать при советской власти, ясно, что постановка такой научной проблемы была по меньшей мере проблематичной даже в позднем Советском Союзе. По этой причине архивная революция продолжает иметь для меня очень личное значение. В этой работе я хочу поделиться наблюдениями, вынесенными из опыта архивной работы в регионе и за его пределами, обсудить некоторые общие проблемы изучения и издания архивных источников, с которыми сталкиваются в своей профессиональной работе востоковеды и историки-русисты.
Мусульмане Дагестана в дореволюционных обзорах и цифрах
Наиболее ценными из публикаций времен архивной революции стали, пожалуй, издания источников. Они совершенно перевернули привычное для поздней советской эпохи представление об исламе как о чем-то далеком и зарубежном. Публикации последних лет показали, что ислам – по крайней мере, на Северном Кавказе – непременно присутствовал в политике и идеологии России. С завоевания региона во второй трети XIX в. до середины XX в. не иссякали проекты переустройства мусульманского сообщества и разные предложения по созданию из лояльной режиму части мусульманской духовной элиты прослойки «мусульманского духовенства» на казенном содержании. В этом направлении особенно много сделал московский историк Д.Ю. Арапов, неутомимый издатель документов и докладных записок об исламе имперского и раннего советского времени. Ему же принадлежит обзорное фундаментальное исследование государственно-мусульманских отношений в Российской империи и ее регионах, включая Северный Кавказ, на протяжении всего периода существования этого государственного образования[159 - Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII в. – начало XX в.) М., 2004; Ислам в Российской империи: законодательные акты, описания, статистика / сост. и вступ. статья Д.Ю. Арапова. М., 2001; Императорская Россия и мусульманский мир / сост. Д.Ю. Арапов. М., 2006; С.Г. Рыбаков и его «Обзор организации духовной жизни мусульман России» / изд., комм, и предисл. Д.Ю. Арапова, Е.И. Лариной. М., 2006; Д.Ю. Арапов, Г.Г. Косач. Ислам и мусульмане по материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 год. Нижний Новгород, 2007; Ислам и советское государство: сборник документов / сост., автор предисловия и примечаний Д.Ю. Арапов. Вып. 1–3. М., 2010–2011.].
В Советском Союзе власти не обделяли мусульман Северного Кавказа своим вниманием. Партия, правительство и органы ГБ неустанно следили за ними, как за малыми неразумными детьми, охраняя их от влияния неофициальных религиозных лидеров. Политика в отношении ислама колебалась от открытых гонений и массовых репрессий до признания «традиционного российского ислама» и создания для мусульман специальных огосударствленных форм религиозной жизни в рамках региональных муфтиятов, сочетавших функции высшего шариатского суда, администрации по управлению религиозными имуществами, полиции нравов и органов надзора за политической лояльностью. Такие муфтияты создавались на российском Кавказе дважды – в 1872 г. в Кавказском наместничестве и в 1944 г. в Дагестане и в Азербайджане. Эти учреждения, как и сама империя вместе с Союзом, были сильно бюрократизированы, благодаря чему мы обладаем многочисленными примерами работы их канцелярий. Целую книгу документов Духовного управления мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) собрал и издал Г.И. Какагасанов[160 - Власть и мусульманская религия в Дагестане, 1917–1991. Документы и материалы / сост., введ., примеч. Г.И. Какагасанова, М.М. Амирхановой, Д.М. Бутаева. Махачкала, 2007.].
Архивная революция в России и на Кавказе не может продолжаться вечно. В последние годы крупнейшие архивы страны стали закрываться по экономическим причинам. Инакомыслящим в России уже не зажимают рот. Но взамен политических свобод государство лишило впавшую в нищету академическую науку ощутимой поддержки. Первым ударом для русистов всего мира было закрытие на неопределенный срок Российского государственного исторического архива (РГИА) в С.-Петербурге, здание которого было захвачено администрацией города под коммерческие проекты. Недавно новое здание архива открылось на окраине города, но не для историков. Похоже, скоро за ним последует обветшавший Российский государственный военно-исторический архив (далее: РГВИА) в центре старой Москвы, уже почти снесенной усилиями администраций Лужкова и Собянина. Архивы Дагестана и других республик российского Северного Кавказа еще не закрыли своих дверей перед читателями. Доступными здесь остаются центральные республиканские собрания и бывшие партийные архивы, в Дагестане включенные в состав Центрального государственного архива (ЦГА РД). Перешедшие к ФСБ архивы КГБ никогда широко не открывались, а с конца 1990-х годов практически недоступны для историков.
Не следует преувеличивать достижений архивной революции. Существенные претензии можно предъявить к порожденным ею изданиям. Как уже говорилось, представленные в них материалы дают довольно ущербную картину жизни мусульман России. В официальных (и официозных, как правило) источниках мусульманская духовная элита предстает как злостный нарушитель общественного порядка, вечно пытающийся обойти «законы о культах», ускользнуть от государственной регистрации, даже прикарманить деньги верующих[161 - См., например: Сулаев И.Х. Документы ГАРФ и ЦГА Республики Дагестан о взаимоотношениях институтов государства и ислама второй половины XX в.// Отечественные архивы. 2006, № 2.]. Мусульмане отчасти сами виноваты в этом, поскольку, по мысли законодателя, они не способны представить себя в государстве и нуждаются в государственных помочах (здесь нельзя не вспомнить «18 брюмера…» Маркса и «Ориентализм» Э. Саида)[162 - Said ЕЖ Orientalism. London, 2003. Р. XXVII.]. Кроме того, в подавляющем большинстве постсоветских изданий перепутаны самые банальные исламские реалии и даже арабские имена (например, эпонима движения ваххабитов постоянно называют Абд ал-Ваххабом или даже просто ал-Ваххабом[163 - См., например: Заурбекова Г.В. Ваххабизм в Чечне. Сер.: Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 163. М., 2003. С. 5, 12 и далее passim; Yemelianova G. Islam in the North-Western Caucasus // CEMOTI. Paris, 2004. No. 38: Islam au Caucase. P. 39.], хотя тот был лишь его отцом!). Многие понятия, вероятно, не были понятны самим издателям и потому не объяснены. Дагестанским изданиям, даже добротно сработанному сборнику Какагасанова, не хватает хорошего исламоведческого комментария.
На Северном Кавказе, как и в других мусульманских регионах России, предметом исследования служат исключительно источники на русском языке. В фондах на арабском языке никто не работает. Помню, просматривая читательские записи в книгах учета Центрального государственного архива Республики Дагестан в Махачкале, я обнаружил имена Г.И. Какагасанова, И.Х.Сулаева и некоторых других знатоков исламско-государственных отношений в бывших партийных и НКВДшных фондах на русском языке. Но к сотням арабских дел фондов шариатских судов (Ф. р-37, р-49, р-182), работавших на территории республики в 1920–1927 гг., еще никто практически не обращался. Это печальное и, к сожалению, повсеместное явление объясняется просто – за редкими исключениями (тот же Д.Ю. Арапов) историки-русисты не имеют необходимой востоковедной подготовки, а исламоведы-классики, по устоявшейся с поздних советских времен традиции, занимаются более ранними эпохами. Им современный ислам просто не интересен.
Изучение мусульманских окраин России ???-?? вв. только по русским источникам дает крайне искаженную картину. Ущербность такого подхода хорошо видна на Северном Кавказе, русификация которого представляет относительно недавнее явление. До 1927 г. языком культуры, школы, власти и закона в Дагестане оставался литературный арабский (ал-фусха). Единственным новшеством было введение в делопроизводстве местных судов и сельских администраций григорианского календаря. Но и арабский язык, по дореволюционной российской статистике, знало не более 5 % населения[164 - Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее: ЦГА РД). Ф. 21. Оп. 5. Ср. Обзор Дагестанской области за 193 г. Темир-Хан-Шура, 1915. Ведомость 19.]. Даже заседания шариатских судов проходили на одном из местных языков и уже после вынесения приговора записывались на арабском. Еще в 60-х годах XX в., путешествуя по отдаленным горным районам, таким как Цунтинский, этнографы и искусствоведы, не владевшие местным наречием, вынуждены были возить с собой переводчика[165 - Гольдштейн А. Башни в горах Дагестана. М., 1977. С. 53.]. Такую иерархию письменных и устных языков нельзя забывать при анализе архивных документов того времени.
Все это показывает сложность архивной работы в регионе. Как востоковед, я хорошо понимаю своих коллег, призывающих к изучению долго игнорировавшихся источников на восточных языках[166 - Об этом немало писали и говорили известные специалисты по дореволюционной и советской Средней Азии А. Халид и А. Дюдуаньон. Этот тезис красной нитью проходит и в их докладах на конференции Islamic Institutions and Muslim Culture in the Interwar Soviet Union, 1919–1939, проходившей в декабре 2009 г. в Университете им. Мартина Лютера в Галле (Германия). Доклады конференции были изданы на английском языке в журнале “Die Welt des Islams” (2010. Vol. 50. Nos. 3–4. Special Theme Issue. A Muslim Interwar Soviet Union).]. Это важно, но не решает проблемы, как показывает пример с шариатскими судами в Дагестане. Во многом вопрос упирается в критерии исламскости, по-разному понимаемые востоковедами, этнологами и политологами. Все зависит от того, чему отдать предпочтение – устным источникам, говорящим о живой мусульманской традиции, или нормативным текстам на восточных языках? А если верно последнее, каким именно – Корану и Сунне (идущей от пророка традиции), освященным многовековой традицией, или творчеству современных исламских интеллектуалов? Ответ на эти вопросы в значительной степени зависит от профессиональной подготовки. Конечно, нельзя объять необъятного и заниматься востоковедением и этнологией одновременно, но, как мне кажется, выход из наметившегося источниковедческого кризиса кроется именно в сравнительном изучении различных архивов и, более того, разных типов источников, соперничающих друг с другом, но и дополняющих друг друга. Попробую пояснить свою мысль на примерах из собственного опыта работы в архивах.
От эпохи российского завоевания Северного Кавказа осталось немало анонимных описаний обстановки в регионе, составленных офицерами Кавказской армии. Внешне они выглядят весьма беспристрастно. Возможно, по этой причине многие из них легли в основу так ценившего анонимность и объективность советского нарратива о присоединении Северного Кавказа к России[167 - См.: История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. -1917) / Ред. Н.Л. Нарочницкий. М., 1988.]. Один случай помог мне понять, что за таким общим «объективным» текстом могут скрываться частные своекорыстные интересы. В 2003 г. московский историк В.А. Захаров опубликовал извлеченную им из фондов РГВИА краткую записку по истории появления на российском Кавказе суфийского братства Накшбандийа-Халидийа и связанного с ним мусульманского повстанчества (мюридизма)[168 - Захаров В.А. Записка «Некоторые сведения, извлеченные из Священной книги Магомета с объяснением шариатского и тарикатского учений» // Сборник Русского исторического общества. Т. 7. Россия и мусульманский мир / под ред. Д.Ю. Арапова. М., 2003. С. 99–104. Опубликованный В.А. Захаровым документ хранится в Российском государственном военно-историческом архиве (далее: РГВИА). Ф. 232. В.И. Гурко. Он. 1. Д. 22. Л. 40-42об.]. Документ был обнаружен в личном фонде участника Кавказской войны (1817–1864) генерала В.И. Гурко. Он не имел ни подписи, ни даты. По упомянутым в тексте именам и реалиям Захаров верно отнес его к 1840–1843 гг. Работая осенью 2005 г. в Рукописном фонде Института истории, археологии и этнографии (РФ ИИАЭ. Ф. 1) в Махачкале, я случайно натолкнулся на источник этой записки. Довольно банальный и полный общих мест текст скрывал под собой захватывающую «туземную» интригу.
Оказалось, что Захаровым была опубликована краткая выжимка из записки подполковника Юрьева «Замечания о шариатном и тарикатском учении Шамиля, распространяемом между кавказско-горскими племенами». Юрьев служил в корпусе жандармов Кавказской области и препроводил свою записку императору в Петербург через начальника III Отделения графа А.Х. Бенкендорфа в октябре 1841 г. Записка прошла немало бюрократических инстанций. Бенкендорф передал ее министру иностранных дел князю А.И. Чернышеву, тот – Николаю I, после чего документ был «спущен» вниз в российскую военную администрацию на Кавказ. Сначала он попал к начальнику Кавказской области генералу П.Х. Граббе, затем к командующему Отдельным кавказским корпусом генералу Е.А. Головину, а от него – в Штаб Кавказской армии. Император нашел сообщаемые Юрьевым сведения о причинах возмущения горцев российским владычеством важными и приказал Граббе подготовить ответную докладную записку с руководствами к действию. По этой причине, а также в силу требований бюрократического делопроизводства, записка Юрьева копировалась в разных инстанциях и все более сокращалась. С 7 листов она сократилась в копии Гурко до 2 столбцов![169 - Дело, хранящееся в Дагестане, представляет собой машинописную копию, снятую в 70-х годах XX в. с оригинала из РГВИА. № 6448. Л. 1-82. К настоящему времени инвентарные номера дел РГВИА поменялись, и установить точные координаты московского документа пока не удалось.]
Расследование по делу Юрьева, проведенное российской военной администрацией на Кавказе, показало, что автором записки был вовсе не Юрьев, а его знакомый майор русской армии кабардинец Яков (точнее Якуб) Шарданов, человек пишущий, но кляузный и нечистый на руку. Этнологам он известен как автор одного из первых описаний адатов Большой Кабарды[170 - Рукопись его сочинения была опубликована на полтораста лет позже, уже в самом конце советской эпохи, кабардинским этнологом Х.М. Думановым: Материалы Я.М. Шарданова по обычному праву кабардинцев первой половины XIX в. / сост., введ. и примеч. Х.М. Думанова. Нальчик, 1986.]. Прежде Шарданов работал секретарем Кабардинского временного суда, но был отставлен от должности по многочисленным жалобам на его притеснения простых кабардинцев и местной мусульманской знати. В особенности Шарданов враждовал с также находившимися на русской службе кабардинским эфенди Шеретлуковым и князем Хаджи-Мисостом Ата-жукиным. Не случайно в записке он обвинил обоих в сношениях с Шамилем и антирусских замыслах. Оставшись не у дел, Шарданов жалуется на «произвол» туземных начальников и «невнимательность приставов магометанских народов из русских чиновников, действиями коих более руководят личные выгоды, чем справедливость», из-за чего, по его уверениям, кабардинцы и перебегают к Шамилю. Оригиналом записки 1841 г. был донос Шарданова на Атажукина и Шеретлукова, поданный полковнику Тараскину. Когда по проверке данных его отвергли, Юрьев превратил его в Записку, поправил стиль и подал в обход начальства Кавказской армии царю. Остается сказать, что все кончилось хорошо: в Петербурге поверили не Юрьеву с Шардановым, а кавказским военным и дали обоим кляузникам хороший нагоняй.
Итак, под «объективными» описаниями могут скрываться разборки между фракциями мусульманской элиты на русской службе. Еще большей осторожности требует к себе имперская и советская статистика, которую часто переписывают без всякого анализа. Приведу пример с количеством мечетей. Имперская статистика 1913 г. насчитывала в Дагестанской области 1711 суннитских мечетей, включая 343 пятничные (джами или джума). При этом в Андийском и Гунибском округах не было отмечено ни одной действующей пятничной мечети, а в Аварском – всего 19 джума. Эти данные меня очень удивили. Я объехал немало селений этого округа, находящихся ныне на территории Ахвахского, Ботлихского, Гумбетовского, Цумадинского и Цунтинского районов, и посетил там несколько десятков джума-мечетей, построенных в XVII–XIX вв. (самая ранняя из них, в с. Хуштада, датируется по строительной надписи 1600-01 гг.[171 - См.: Бобровников В.О. Новые эпиграфические данные по истории ислама в северо-западном Дагестане // Дагестанский лингвистический сборник. М., 1999. Вып. 6. С. ЪЪ.]) и не перестававших работать до закрытия в период сталинских репрессий конца 20-х – начала 40-х годов XX в. В Аварском округе их тоже должно было быть на порядок больше. Причина, вероятно, кроется в неполной отчетности, вызванной задержками в поступлении окружной статистики в центр области.
Учет населения по области был введен только в 1860-1880-е годы. Вести его обязали сельских мулл и шариатских судей (кади). Но приучить дагестанских мусульман к российским нормам бюрократического делопроизводства удалось не сразу. В архивах мне попадались инструкции окружных начальников о правилах ведения судебного делопроизводства и метрик, выпущенные в конце 1890-х гг. и даже накануне революции 1917 г. Тем не менее, вплоть до передачи метрик в государственные ЗАГСы в 1920-е гг., власти не сумели добиться регулярной отчетности из селений. Сельские муллы небрежно составляли метрики, не всегда вставляя нужные данные в отведенные для них графы таблиц, перескакивая с года на год, добавляя забытые прежде имена и даты. К тому же метрики сначала писались на арабском языке и только в округах сводились воедино и тогда переводились на русский. Среди копий в моем архиве есть тому яркие доказательства, например, скопированная мной в одной частной библиотеке в Махачкале метрика из с. Анди 1889 г., выдержки из которой я привожу ниже в моем переводе с арабского.
Книга регистраций смертей и браков Андийского сельского суда
[172 - Здесь и далее зачеркнуто в оригинале.]
[173 - В оригинале пропущен порядковый номер записи.]
Поразительно, как здесь «прыгают» даты и порядковые номера. Составитель таблицы словно издевается над имперским бюрократическим порядком. В советской религиозной статистике еще больше путаницы и нестыковок. Причины этого ясны. С одной стороны, в 1920-е годы была уничтожена дореволюционная статистика. С другой, поменялись нормы и критерии ее составления. В разгар антирелигиозной кампании 1930-х годов мечети стали делили на три категории: «закрытые», «действующие» с зарегистрированными муллами и «незакрытые недействующие» – без оных, подлежащие закрытию[174 - Судя по всему, такое деление составляло особенность Северного Кавказа. В других регионах советского Востока аналогичных случаев обнаружить пока не удалось.]. Например, в секретной докладной записке председателя Агульского Райисполкома (РИК) Рамазанова в Дагестанский ЦИК 13 мая 1936 г. приведены «сведения о мечетях, как действующих, так и недействующих… в 22 незакрытых мечетах имеется одного мулла, которые отвечают перед населением, а в остальных мечетах обслуживающего муллы не имеется, а просто верующие гр[ажда]не ходят в мечеть и исполняеть молитвы, каковые (зд. мечети. – В.Б.) мы считаем незакрытыми. А остальные закрытых 15 мечетов, 2 использован под школ и склад…» (сохранены орфография и стиль оригинала) [175 - ЦГА РД. Ф. р-564. Он. 3. Д. 4. Л. 36, Збоб.]. В докладе Оргбюро Цунтинского отделения Союза воинствующих безбожников 17 февраля 1938 г. дана еще более дробная статистика: «в Цунтинском р[айо]не имеется сорок два мичит, из них работаят силна семь, не закрытые и не работаят 20, очин слабо работает девять» (сохранена орфография подлинника)[176 - ЦГА РД. Ф. р-238. Он. 10. Д. 16. Л. 5.].
Анализируя эти цифры, нельзя забывать, что они несли не столько информативный, сколько идеологический характер. К составлению сводок привлекали активистов Союза воинствующих безбожников. Как видно из приведенной выше докладной записки, статистика носила секретный характер и предназначалась для органов власти, связанных с общесоюзной «Культовой комиссией», ведавшей с 1929 г. регистрацией всех без исключения религиозных элит, учетом и закрытием религиозных общин на территории СССР. Чтобы наладить регулярную перерегистрацию джамаатов, необходимо было периодически получать с мест сводки. По ним можно было судить об осуществлении принципов социалистического учета религии, а также готовить к закрытию всё новые мечети и медресе, большинство из которых, по удачному выражению одного документа 1936 г., было «разрушено для культурной нужды общества»[177 - ЦГА РД. Ф. р-564. Оп. 3. Д. 4. Сведения о молитвенных зданиях Каякентского района. Л. 31.]. Цифры разных районных сводок нередко противоречили друг другу. Число закрытых мечетей завышалось, ведь между районами шло социалистическое соревнование по искоренению религии, и администрация каждого желала занять в нем первое место.
Мухаджиры в османских документах из Болгарии
В истории российского Северного Кавказа есть еще одна тема, в которой статистика приобретает политическое звучание. Это массовое переселение в Османскую империю горцев-мусульман, согнанных со своих земель российскими военными властями после окончания в 1859–1864 гг. Кавказской войны. Наибольшие споры вызывает число эмигрантов, или мухаджиров, как они называли себя сами, сравнивая с первыми мусульманами, совершившими вместе с пророком Мухаммадом переселение (хиджра) из языческой Мекки в Ясриб. По данным председателя Кавказской археографической комиссии А.П. Берже, в 1858–1865 гг., когда размеры эмиграции были наибольшими, Северный Кавказ покинуло 439 194 человека[178 - Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. Т. XXXIII. 1882. С. 167.]. С середины 1860-х гг. по начало XX в. с Кавказа выехало еще около 200 тыс. мухаджиров. Многие исследователи склонны считать эти цифры слишком заниженными. Учитывая массовую смертность среди беженцев от эпидемий и тяжестей пути, турецкий историк Кемаль Карпат оценивает количество мухаджиров, покинувших Россию, в 1,2 миллиона[179 - Karpat К.Н. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. Madison, 1985. P. 68–79.]. Выходцы из черкесской диаспоры впадают в крайность, доводя численность мухаджиров до двух миллионов человек.
Все эти данные слишком приблизительные. Во-первых, никакой точной статистики горского населения Северного Кавказа до его окончательного российского завоевания не велось. Для соблюдения условий договора 1860 г. и собственных интересов российская администрация областей долгое время преуменьшала количество выезжавших за пределы Северного Кавказа эмигрантов. Кроме того, зачастую на целую семью выдавался один паспорт (на главу семьи), и в статистику заносился один человек. К тому же далеко не все архивные документы уцелели. Часть российских архивов была сожжена вместе с Центральным государственным архивом Чечено-Ингушетии в Грозном. Еще большие потери испытали за последние полтора столетия османские архивные хранилища. Нельзя также забывать, что значительная масса мухаджиров (например, участники восстания 1877 г.) переходила границу нелегально, в основном через Главный Кавказский хребет и Закавказье. Размеры нелегальной эмиграции с дореволюционного Северного Кавказа были очень высоки. Что же касается османской статистики, то она не учитывала массовой гибели мухаджиров от голода и болезней в пути и до расселения в Турции.
Интересно, что, несмотря на открытие границ, никто еще не пытался поработать в османских архивах, сравнив статистику обеих стран, вовлеченных, по определению американского историка Марка Пинсона, в «демографическую войну»[180 - Pinson М. Demographic Warfare – an Aspect of Ottoman and Russian Policy, 1854–1866. Ph.D. Dissertation. Cambridge: Harvard University, 1970.]. Конечно, здесь остается языковой барьер – чуть ли не все российские историки, занимающиеся мухаджирами, не владеют ни арабским, ни староосманским языками, на которых велась документация в Турции до 1928 г. В 2008 г. мне представилась возможность начать такого рода работу. Вместе с группой востоковедов из Москвы и Махачкалы я совершил в ноябре поездку в Софию, где хранится мало кому известная крупная коллекция османских документов и рукописей. Попала она в Болгарию случайно. По одной версии, в 1920-е годы ее вывезли из Стамбула два афериста, скупившие документы Центрального архива (Баш Векалет Аршиеи) как «макулатуру», вагон которой был отослан ими в Софию и перепродан болгарам[181 - Шенгелия H.H. Османские документальные источники о народах Кавказа, хранящиеся в архивах Болгарии // Советское востоковедение. Проблемы и перспективы. М., 1988. С. 140.]. Есть и другая, менее романтичная, версия событий. Как бы то ни было, в Публичной библиотеке им. Кирилла и Мефодия хранится сегодня около 500 000 архивных дел, включая документы бывшей османской администрации Румелии.
Конечно, после одной экспедиции делать какие-то глобальные выводы и подсчеты общего числа эмигрировавших рано. Работа будет продолжена. Но уже сейчас можно сказать, что османские документы из Болгарии опровергают целый ряд укоренившихся в северокавказском нарративе мухаджирства клише. Это касается прежде всего представления, что в Турции эмигранты с Кавказа были брошены на произвол судьбы и гибли десятками тысяч, став жертвами российско-османского «геноцида черкесского народа»[182 - Касумов А.Х., Касумов Х.А. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за независимость в XIX веке. Нальчик, 1992; Берзег Н. Изгнание черкесов // Россия и Черкесия (вторая половина XVIII–XIX в.). Майкоп, 1995.]. Как показывают сохранившиеся в Софии финансовые ведомости османских властей, в разных вилайетах империи в 1850-1880-е годы было налажено снабжение мухажиров хлебом, лекарствами и другими необходимыми для жизни товарами. Казна тратила на это огромные средства. Например, в Сирии весной 1879 г. черкесским мухаджирам, прибывшим в Акру из Табарийи в Палестине, раздали в течение двух месяцев 3030 окка и 100 дирхемов хлеба стоимостью 5104 пиастров и 3 пара. В Табарийи за три с половиной месяца 1879 г. их содержание обошлось казне в 15 464 пиастра 15 пара[183 - Народна библиотека Св. Кирилл и Методий. Ориенталски отдел. Ф. 280Ар. Акра. № 13, 29. См. также Ф. 283Ар. № 55.]. Аналогичные расписки за тот же год дошли от других городов и селений Палестины и Сирии, разных местечек и областей османского Ближнего Востока и Северной Африки[184 - Там же. Ф. 283Ар. ал-Кудс (Иерусалим). № 54, 56; Ф. 286Ар. Тара-блус аш-Ша’м. № 61; Ф. 287Ар. Халаб. № 11; 12,43 и др.].
Документы болгарского собрания неплохо отражают сложную географию перемещений кавказских мухаджиров по Османской империи. Многие из них были сначала поселены в приграничных балканских вилайетах. Они должны были составить
своего рода буфер империи в провинциях, где мусульмане составляли меньшинство. Но после ряда проигранных войн по условиям мирных договоров Турции с Россией и западными великими державами мухаджиры вынужденно покинули добившиеся независимости Балканы, переехав вместе с османскими войсками и чиновниками на Ближний Восток, где основали черкесские поселения на территории Сирии, Иордании, Израиля. Отдельные иммигранты перебрались оттуда в Северную Африку. Некоторые поселились даже в Аравии. Хиджаз с двумя священными для мусульман городами (ал-Хараман) служил предлогом выехать из России в Турцию, ведь многие мухаджиры уехали по паспортам паломников-хаджи. Поэтому немало документов о мухаджирах хранится в фондах вилайетов Сирии (287Ар.) и Западной Триполитании (277Ар.), Хиджаза (278Ар.). Среди османских чиновников Мекки и Иерусалима попадались выходцы из Дагестана и с Кавказа, легко узнаваемые по их «фамилиям» (нисбам) ад-Дагистани и ал-Чаркиси[185 - Там же. Ф. 278Ар. Хиджаз. № 72, 104.].
Конечно, как и в России, чиновники в Турции воровали. Не все средства дошли до мухаджиров, о чем свидетельствуют жалобы, которые можно найти и в османских документах Софии[186 - Там же. Ф. 172Ар. Мачин. № 1.]. Среди мухаджиров никогда не было имущественного и социального равенства. Субсидии от османских властей порой существенно различались. Наиболее крупные денежные и продовольственные пособия в последней четверти XIX в. получали дагестанские суфии, сумевшие завоевать расположение султана Абдул-Хамида II, вообще благоволившего к суфизму, и некоторых высших сановников империи в Стамбуле и в арабских вилайетах. Из таких людей в одном из писем болгарской коллекции упомянут некий шейх Абдаллах ибн ал-Хусайн Дагистани, который вел свой род от пророка Мухаммада и потому носил почетный титул сайида. В 1879 г. он жил в Мекке, получая от правительства ежемесячную пенсию в 250 реалов (рийали куруш)[187 - Там же. Ф. 278Ар. Хиджаз. № 162.].
Шейх Абдаллах Дагистани принадлежал к числу мухаджиров, в которых привыкли видеть османских агентов. Перебравшись на арабский Ближний Восток, он поддерживал со своими последователями (муридами) в Дагестане оживленную переписку, передавая письма к ним с дагестанскими паломниками, возвращавшимися на родину. В них он, как и оставшийся в Дагестане его более известный современник шейх Абд ар-Рахман ас-Сугури, призывал мусульман совершить хиджру, бежать с российского Кавказа в османскую Турцию. О содержании этих писем известно из их копий в частных библиотеках, а также отдельных документов государственных архивов, сообщающих о перехваченных письмах такого рода[188 - ЦГА РД. Ф. п-8. On. 1. Д. 10. Л. 1–4 и др.]. Пропаганда суфиев, несомненно, сыграла свою роль в истории мухаджирского движения. Однако называть их османскими агентами, а переписку с последователями «воззваниями», как это делает большинство отечественных исследователей[189 - См., например: Эмиграция дагестанцев в Османскую империю. Сборник документов и материалов / сост. А.М. Магомеддадаев. Кн. I. Махачкала, 2000.], вряд ли справедливо. Тот же Абдаллах из Дагестана получал пенсию не за пропаганду мухаджирства, а за свои заслуги в суфизме. Не следует переносить в исследование оценки, если не сами формулировки российских архивных источников, отразивших характерные в периоды войн России с Турцией страхи пантюркизма и шпиономанию.
Переписка мухаджиров позволяет поднять вопрос о значении переводов в архивных источниках дореволюционного и раннего советского времени. Уже говорилось об игнорировании историками-русистами восточных источников, позволяющих услышать голос российских мусульман. Проблема эта имеет и другую сторону, на которой я хотел бы остановиться в завершение статьи. В архивах встречаются многоязычные тексты, примеры чему можно видеть и среди разобранных выше дел. Так, в арабских финансовых ведомостях с османского Ближнего Востока и из Северной Африки резолюции вышестоящих властей написаны на староосманском. В Записке 1841 г. жандармский офицер Юрьев не только поправил русский слог Якова Шарданова, но и с грехом пополам передал по-русски арабские понятия Корана и других исламских нормативных текстов, хорошо знакомый его кабардинскому соавтору. Наконец, интересно отметить, что, сводя воедино метрики сельских джамаатов, писари окружных администраций переводили их с арабского на русский, меняя арабскую систему имен на тюркскую при помощи отчеств на – оглы («-вич») и – кызы («-вна»), поскольку кумыкский и азербайджанский играли в Дагестане XIX – первой трети XX в. роль своеобразного lingua franca.
Во всех этих случаях отчетливо виден язык власти, точнее, определенная властная иерархия языков, в которую вписываются переводы непонятных терминов и текстов. Долгое время отечественные историки относились к ним чисто утилитарно, как и те, кому были адресованы эти документы. Пора заняться изучением политической роли переводов в системе языков власти и исторических нарративов об исламе в Российской империи и Советском Союзе. Источники с Северного Кавказа дают широкое поле для такой работы. Как уже говорилось, до середины XX в. русский язык в Дагестане знали единицы. По этой причине в течение более полувека все основные постановления публиковались здесь в переводе на арабский (а нередко также азербайджанский и кумыкский языки в арабской графике). С 1860 по 1917 гг. в крае действовало так называемое военно-народное управление, при котором мусульманские джамааты сохранили широкую судебно-административную автономию под властью офицеров русской армии. Основной ячейкой ее было сельское общество, сконструированное по образцу пореформенной крестьянской общины внутренней России. Его основные принципы определил «Проект положения о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области», принятый 26 апреля 1868 г.
Чтобы образованные мусульмане смогли понять закон и довести его до сведения неграмотных односельчан, «Проект положения» был переведен на арабский и отпечатан литографическим способом в Темир-Хан-Шуре[190 - Хазихи кава‘ид фи байан джама‘ат кура вилайат ад-Дагистан ва фи тадбир умури-хим ва-л-хукук ал-ваджиба ‘ала ахали ал-кура ли-л-фадишахиййа ва ли-л-джама‘а. Темир-Хан-Шура, 1868.]. Только через тридцать лет в той же типографии вышел параллельный русский и арабский текст постановления. Роль военно-народного управления среди реформ на Северном Кавказе сопоставима со значением крестьянской реформы во внутренних губерниях России. Новая система власти апеллировала прежде всего к народу (под которым здесь понимались в основном горцы), ища опору реформ в народных обычаях и общине. Власти попытались сгладить различия между общинниками, рабами и горской знатью. В сельскую общину допускались лишь свободные общинники (уздени) и уравненные с ними в правах рабы, освобожденные к 1867–1868 гг., принадлежащие к одному джамаату. Было бы крайне интересно проследить, каковы были установки перевода, какие военные переводчики занимались им, как повлияли на них ключевые понятия этнографии XIX в., например «поземельная община», переведенная на арабский как джама'ат ал-карйа. К сожалению, пока такой работы никто не проводил.
Проблемы перевода антисоветских текстов 1930-х годов
Кроме переводов концептуальных нормативных текстов с языка высшей имперской власти на язык туземной мусульманской элиты, имелись и обратные переводы, целью которых было довести до сведения властей мнение о них мусульманских подданных, и, если оно носило антиправительственный характер, определить меру наказания за него. Я уже говорил про переводы «воззваний» суфиев-мухаджиров последней четверти XIX – начала XX в. Времена тогда были относительно мягкие, и случалось, что дагестанцев, привозивших из-за границы письма и трактаты суфийских наставников, миловали, если оказывалось, что сочинения эти оставляют в стороне российскую политику, обсуждая отвлеченные суфийские практики (зикра, хатмов, рабиты и проч.) и правила поведения муридов в братстве. Так случилось, в частности, с Исой Мусаевым из Аксая, сначала арестованным в Терской области в 1912 г. за пропаганду «учения тариката» и приговоренного за это к бессрочной ссылке во внутренние губернии России. Однако после перевода на русский язык найденных у него бумаг отношением наместника кавказского графа И.И. Воронцова-Дашкова было решено освободить Ису от несения незаслуженного наказания[191 - ЦГА РД. Ф. п-8. On. 1. Д. 10. Л. 4.].
Положение изменилось с началом сталинских репрессий, когда даже устная критика властей стала достаточным основанием для ссылки, каторги и расстрела (по печально знаменитой 58 статье УК РСФСР). Большинство обвинительных заключений и документов о «врагах народа» из числа «мулльско-шейховских элементов» составлено на языке антирелигиозной пропаганды власть имущих. Однако среди оперативных дел НКВД, на основе которых впоследствии проводились аресты и расстрелы, встречаются документы, выдающие исламский язык местной оппозиции. Один из таких документов был недавно обнаружен дагестанским историком И.Х. Сулаевым в фонде ЦГА РД р-800. Это «Справка по агентурным ресурсам на 1 октября 1933 г.» среди мусульман и суфиев. К делу приложены две «листовки», представляющие перевод с аварского языка (в арабской графике) на русский антисоветских стихов старшего мурида Хуштадинского шейха. Документ этот вызывает двойственное отношение. С одной стороны, это очередное сфабрикованное политическое дело, тянущее на ст. 58–10 и 58–11 – контрреволюционная агитация и участие в контрреволюционной организации. С другой – текст выдержан в образах исламской апокалиптики, видит в советской власти возвещающего приход Судного дня антимессии ад-Даджжаля:
«Будь твое имя написано на дне ада, Дажжал!..
Поклялся что ли уничтожить религию?
Будь ты разрублен религиозными мечами!
Почему ты не боишься хотя бы бога?
Пусть гниют корни твоей власти!
Не оставишь ли ты на земле людей религии?
Пусть будут несчастны дни твоего тухума!
Ученые арабисты вам мешают что ли?..»
Положения другой «листовки» дальше от оригинала. Они были явно «переведены» на антирелигиозный советский язык того времени. Судный день (йаум ад-дин) превратился в нем в «приближение… конца» советской власти. Его признаками названы «создание… колхозов, артелей», «повышение правоспособности девушек», «запрещение торговли», «открытие ясель». В аварском оригинале, как можно догадаться, говорилось, что советская власть запрещает разрешенное шариатом (халал) и разрешает запретное (харам). Возможно все же, что оба текста вышли из суфийских кругов. В пользу такого предположения говорят близкие к ним по форме и содержанию арабские эпитафии, обнаруженные мной в 1995 г. на мавзолее упомянутого в деле шейха Хусейна ибн Пир-Мухаммада из Хуштада. Первая, высеченная 4 раби‘ ас-сани 1354 (6 июля 1934) г., называет его «знаменитым шейхом, совершенным наставником и учителем накшбандийского тариката, страдальцем…. умершим мучеником (шахидан) в заточении… в 1349 (1930-31) году». Слева от нее под стеклом тушью на ватмане написана эпитафия его сына Абдуллаха, скончавшегося 1 зу-л-хиджжа 1360 (20 декабря 1941) г., «скрываясь… от неверующих и лицемеров, убивающих ученых и святых (ал-‘улама’ ва-л-аулийа’) и расхищающих их добро».
С мавзолеем накшбандийских шейхов в с. Хуштада Цумадинского района связан обширный пласт местных устных преданий, прославляющих высокую религиозность горцев, их верность исламу. Он воплощает для хуштадинцев местные исламские традиции. Хуштадинцы любят рассказывать не столько про деятельность Хусейна, сколько про его гибель. Говорят, что в разгар коллективизации его арестовали и отвезли в Махачкалу. Изъятую при аресте арабскую библиотеку целый день жгли в райцентре. Хуштадинцы выкрали тело шейха. Переломив ему хребет, его в мешке привезли в селение, где тайно похоронили. Бежавший из ссылки в Казахстане сын погибшего Абдулла пробрался на родину и до смерти жил на подношения хуштадинцев, скрываясь от властей в землянке-худжра в горах над селением. После Абдуллы имамом в Хуштаде был сначала Сайпулла (ум. 1972), а затем его ученик и бывший муэдзин (будун) Шерапутдин (ум. 1995). Мне с гордостью поведали, что только благодаря самоотверженности этих имамов джума-мечеть селения ни разу не закрывалась в годы советских гонений. До 1989 г. она оставалась единственной легально действующей мечетью всего Цумадинского района[192 - Подробнее об этом см.: В.О. Бобровников. Археология строительства исламских традиций в дагестанском колхозе//Ab imperio (Казань), 2004, № 3. С. 574–575.].
* * *
Я высказал лишь некоторые методологические соображения по поводу этого интересного источника. Стихи мусульман Северного Кавказа еще абсолютно не изучены. Между тем они чрезвычайно важны. Чего стоят хотя бы арабские стихотворения руководителя антисоветского восстания 1920–1921 гг. Наджм ад-дина из Гоцоба (Гоцинского)! Завершая эту статью, я хочу еще раз отметить важность для исследования российских мусульман на Северном Кавказе таких факторов, как язык архивных источников, наличие их официального перевода, авторство анонимных служебных записок и доносов одной фракции местной мусульманской элиты на другую, критерии статистики мусульманских общин и учреждений, ее идеологический подтекст и, наконец, значение устных историй для реконструкции прошлого и настоящего значения архивных документов. Разобранные выше архивные материалы из Дагестана, Северо-Западного Кавказа и Болгарии говорят о том, что и после архивной революции исследование архивных первоисточников по истории ислама в царской и советской России далеко не закончено. Хочется надеяться, что на Северном Кавказе оно будет продолжено.
Колониализм и мусульманское сопротивление
Андижанское восстание 1898 года и «мусульманский вопрос» в Туркестане (взгляды «колонизаторов» и «колонизированных»)[193 - Статья написана в рамках проекта “Islamic Area Studies” Tokyo University (координатор – ????. H. Komatsu), а также программы автора по фонду “Fulbright” (Indiana University). Выражаю благодарность С.Н. Абашину, сделавшему мне интересные замечания в ходе работы над статьей, а также анонимному рецензенту А/и редакции за полезные советы и вопросы.]
Бахтияр Бабаджанов
В ночь на 18 мая 1898 года (по юлианскому календарю) в Андижане произошло событие, буквально всколыхнувшее тогдашний достаточно спокойный Туркестан и вошедшее в историю как «Андижанское восстание» (в местной литературе того времени – «Дукчи Эшон фитнаси»). Плохо вооруженные повстанцы в количестве около двух тысяч человек атаковали казармы царских войск в Андижане и правительственные учреждения в Ошском уезде. В андижанском гарнизоне было убито 22 и ранено 18 солдат русской армии, были жертвы среди чиновников и гражданского населения русской национальности. После ответных залпов караульной роты толпа нападавших в беспорядке рассеялась и отступила, оставив во дворе казарм убитых и раненых (около 30 человек). Предводитель восставших Мухаммад-Али по прозвищу Дукчи (Шикни) Ишан (Ишан-вертенщик) со своими ближайшими соратниками был схвачен уже 19 мая. У одного из схваченных, Субхан-кули ‘Араб-бая, при обыске был найден
Коран, в котором оказался документ, представляющий собой выданное Мухаммаду-‘Али фальшивое свидетельство о том, что он назначается халифом турецкого султана Абдул-Хамида II (1876–1909). Все предводители восстания (6 человек) были повешены, сотни других высланы в Сибирь и другие районы империи. Центром восстания было селение Мингтипа (примерно в 25 км к юго-востоку от Андижана), где находились обитель (ха-нака), Мадраса и другие сооружения, построенные Дукчи Ишаном. Весь этот комплекс вместе с находящимся рядом селением был разрушен, и на этом месте основано русское поселение.
Эти события уже становились предметом обсуждения ряда исследователей, обращавших внимание преимущественно на их хронологию, «суфийскую составляющую» в «организации» Дукчи Ишана, возможные связи ее с «Великой Портой» и т. п.[194 - Hisao Komatsu. The Andijan Uprising and Dukchi Ishan // Toyshi Kenkyu. 1986 Vol. 44. № 4. Pp. 1-31; B.M. Babadzanov. Duke! Ishan und Aufstand von Andizan 1898 //Anke von Kiigelgen, Mikhael Kemper, Dmitriy Ermakov (Eds.). Muslim Culture in Russia and Central Asia from 18th – to the Early 20th Centuries. Vol. 2 (Inter-Regional and Inter Ethnic Relations). Berlin, 1998. S. 167–191; Idem. Дукчи Ишан и Андижанское восстание 1898 года // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе (Сб. ст.) / сост. С.Н. Абашин и В.О. Бобровников. Москва, 2003. С. 251–277; Манакиб-и Дукчи Милан (Аноним жития Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 года). Введение и перевод Б. Бабаджанова. Ташкент – Берн – Алматы, 2004; Hisao Komatsu. The Andijan Uprising Reconsidered // S. Tsugitaka (Ed.). Muslim Societies: Historical and Comparative Perspectives. London, 2004. Pp. 29–61; Idem. Dar al-Islam under Russian Rule // U. Tomohiko (Ed.). Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia. Sapporo, 2007. Pp. 9-18. Неожиданное толкование моей позиции см.: Д. Алимова. История как история, история как наука. Ташкент, 2008. С. 54–65.]Меньше внимания обращалось на непосредственную связь «андижанских событий» с усилением нового витка обсуждения так называемого «мусульманского вопроса», т. е. исламской политикой не только в Туркестане, но и во всей Российской империи.
В этой статье мне хотелось бы представить реакцию на Андижанское восстание русских экспертов и политиков, особенно тех, кто работал в тогдашнем Туркестане и по-своему стимулировал новый виток обсуждения «мусульманского вопроса» в связи с восстанием[195 - См., напр. Daniel Brower. Turkestan and the Fate of the Russian Empire. London and New York, 2003. Pp. 88–10; Robert D. Grews. For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. London, 2006. Pp. 287–289, 343–347. Hisao Komatsu. Dar al-Islam under Russian Rule. Pp. 9-18.]. Эта проблема также тесно связана с историографическими и методологическими спорами о колониализме, русском «ориентализме», о статусе «русских экспертов», об их попытках ассимиляции и вовлечения «туземцев» в «цивилизационное пространство» империи. Во всяком случае, личные и порой достаточно доверительные отношения между «знатоками края», работавшими в русском Туркестане, и некоторыми представителями местной религиозной аристократии и интеллигенции вносят серьезные коррективы в широко обсуждаемые вопросы о статусе русского колониального эксперта и о специфике «русского ориентализма», заставляя прибегать к более сложным концептам, чем те, которые предлагают некоторые исследователи[196 - См. дискуссию по этому вопросу, начавшуюся после публикации статьи Натаниэля Найта по поводу возможности применения концепции «ориентализма» Эдварда Саида к Российской империи (Nathaniel Knight. Grigor’ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? I I Slavic Review. 2000. Vol. 59. Pp. 74-100). На эту статью отреагировал Адиб Халид (Adeeb Khalid. Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika. 2000. Vol. 4. Pp. 691–699), доказывая на примере деятельности знаментого Н. Остроумова правомерность применения саидовской концепции к российскому материалу. В этом же номере журнала “Kritika” опубликован ответ Найта Халиду (On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 4. Pp. 701–715) и комментарий Марии Тодоровой (Maria Todorova. Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 4. Pp. 717–727). Позже российский исследователь С.H. Абашин предложил более взвешенные подходы к оценке колониальной истории Туркестана и особенно статуса «ориенталиста-эксперта», работающего на колониальные власти. С.Н. Абашин. В.П. Наливкин: «…будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…». Кризис ориентализма в Российской империи? //Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сборник научных статей к 50-летию профессора А.В. Ремнёва / под ред. Н. Г. Суворовой. Омск, 2005. С. 44–46.]. Тем не менее, немного забегая вперед, заметим, что, несмотря на стремление ряда русских экспертов (как, например, В.П. Наливкина[197 - Там же. С. 47–56.]) преодолеть отчужденность автохтонного населения, большинству из них это не удалось.