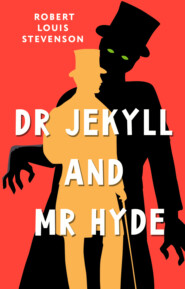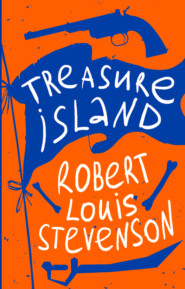По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Похищенный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне с детства внушали, что карточной игры надо избегать, что это занятие позорное. Мой отец считал недостойным христианина и вообще джентльмена рисковать своим состоянием и посягать на чужое посредством метания раскрашенного картона. Разумеется, я мог бы отговориться усталостью, что было бы достаточным извинением, но я нашел нужным объясниться напрямик. Должно быть, я страшно покраснел, по все-таки твердым голосом сказал, что не берусь судить других, но сам этим делом никогда не занимался.
Клюни перестал тасовать карты.
– Что это такое, черт возьми? – сказал он. – Что это за вигский ханжеский разговор в доме Клюни Макферсона?
– Я за мистера Бальфура готов положить руку в огонь, – сказал Алан. – Он честный и храбрый джентльмен! Не забывайте, кто говорит это: я ношу королевское имя, – прибавил он, приподнимая шляпу. – Я и мои друзья можем быть достойной компанией даже в самом избранном обществе. Но молодой человек устал, и ему следует выспаться. Если он не желает играть в карты, это не мешает составить нам партию вдвоем. Я, сэр, умею и охотно сыграю в любую игру, какую вы назовете.
– Сэр, – сказал Клюни, – вам надо знать, что в моем скромном доме всякий джентльмен может поступать, как ему вздумается. Если бы ваш друг захотел стоять на голове, я не возражал бы. Но если он, или вы, или кто-нибудь другой не совсем довольны мною, то я буду счастлив скрестить наши шпаги.
Я вовсе не желал, чтобы друзья из-за меня перерезали друг другу горло.
– Сэр! – воскликнул я. – Я очень устал, как вам объяснил Алан, и к тому же – я могу сказать это вам: ведь у вас у самого могут быть сыновья, – я обещал моему отцу не играть в карты.
– Довольно, довольно, – сказал Клюни и указал мне на постель из вереска в углу Клетки. Но все-таки он рассердился, искоса поглядывал на меня и тихонько ворчал.
Действительно, надо сознаться, мое мнение и слова, в которых я выразил его, отдавали пресвитерианством и были малоуместны среди якобитов дикой Шотландии.
Выпив водки и закусив олениной, я почувствовал какую-то странную тяжесть во всем теле и не успел лечь в постель, как меня охватило нечто вроде столбняка, и такое состояние продолжалось почти все время пребывания моего в Клетке. Иногда я приходил в себя и понимал, что вокруг происходит; остальное время я только слышал голоса или храп мужчин, точно далекие звуки журчащей реки. Пледы, висевшие прямо предо мной на стенах, то уменьшались, то опять вырастали, словно тени на потолке. Я, должно быть, иногда что-то говорил или вскрикивал, потому что время от времени с удивлением слышал ответы. Я не помню никакого определенного кошмара, а испытывал только какой-то ужас и отвращение к месту, где я находился, к постели, на которой лежал, к пледам на стене, к голосам, к огню, к самому себе…
Позвали цирюльника, который был также и доктором, чтобы прописать мне лекарство. Он говорил по-гэльски, и я ничего не понял из его слов, а болезнь помешала мне попросить перевести их на мой язык. Я хорошо сознавал, что болен; остальное меня не интересовало.
Находясь в таком печальном положении, я мало на что обращал внимание. Но Алан и Клюни большую часть времени проводили за картами, и Алан, должно быть, сначала выигрывал. Я вспоминаю, что видел их увлеченными игрой, причем на столе лежала блестящая кучка в шестьдесят или сто гиней. Странным выглядело такое богатство в гнезде, сплетенном из деревьев, на склоне утеса. Даже тогда я понимал, что такое занятие опасно для Алана, у которого не было ничего, кроме зеленого кошелька и пяти фунтов в нем.
Счастье изменило ему, должно быть, на второй день. Около полудня меня, по обыкновению, разбудили к обеду, и я, как всегда, отказался от еды, но, должно быть, выпил рюмку какой-то горькой настойки, которую мне прописал цирюльник. Слепящие лучи солнца светили в открытую дверь Клетки и беспокоили меня. Клюни сидел у стола, теребя в руках колоду карт. Алан наклонился над моей постелью, причем лицо его, приблизившееся к моим помутившимся от лихорадки глазам, показалось мне невероятно большим.
Он попросил меня дать ему денег взаймы.
– На что? – спросил я.
– О, только взаймы, – сказал он.
– Но зачем? – повторил я. – Я не понимаю.
– О Давид, – сказал Алан, – неужели ты пожалеешь дать мне денег в долг?
Я, наверное, пожалел бы, если был бы в полном сознании. Но тогда я хотел лишь одного: не видеть его лица и вручить ему деньги.
Наутро третьего дня, после того как мы провели в Клетке уже сорок восемь часов, я, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, и хотя был еще очень слаб, но уже видел предметы в их подлинных размерах и в обыкновенном, а не в фантастическом виде. Кроме того, у меня появился аппетит. Встав с постели по собственному побуждению, я, как только мы позавтракали, вышел на воздух и сел перед Клеткой на опушке леса. Стоял серенький денек, воздух был прохладный и влажный, и я все утро просидел в полудремоте, нарушаемой только хождением разведчиков и слуг Клюни, которые являлись к нему с провизией и докладами. В то время кругом было спокойно, и можно сказать, что Клюни почти открыто чинил суд и расправу.
Вернувшись в дом, я увидел, что он и Алан, отложив в сторону карты, расспрашивали слугу. Вождь повернулся ко мне лицом и заговорил со мной по-гэльски.
– Я не понимаю по-гэльски, сэр, – сказал я.
Со времени происшествия с картами все, что я говорил или делал, раздражало Клюни.
– В вашем имени больше смысла, чем в вас самих, сэр, – сказал он гневно, – потому что оно совершенно гэльское. Но дело не в том. Мой разведчик доложил мне, что местность на юге свободна. Хватит ли у вас сил идти?
Я увидел на столе карты, но золота там не было, а на той стороне, где сидел Клюни, лежала только куча исписанных бумажек. У Алана был какой-то странный взгляд. Казалось, он был чем-то недоволен, и я почувствовал смутное опасение.
– Я не знаю, хватит ли у меня сил, – сказал я, глядя на Алана, – но те небольшие деньги, которые у нас есть, помогут нам пройти большое расстояние.
– Давид, – произнес он наконец, – я проиграл деньги. Вот тебе чистая правда.
– И мои также? – спросил я.
– И твои также, – сказал Алан со вздохом. – Тебе не следовало давать их мне; я теряю рассудок, когда сажусь за карты.
– Ну, ну, – сказал Клюни, – мы играли в шутку. Все это пустяки! Понятно, вы получите обратно ваши деньги, и даже вдвойне, если позволите. Было бы странно с моей стороны оставить их у себя. Пусть не думают, что я могу огорчить джентльменов в вашем положении. Это было бы очень странно! – закричал он и, сильно покраснев, вытащил золото из своего кармана.
Алан не говорил ни слова, продолжая смотреть в землю.
– Угодно ли вам выйти со мной за дверь, сэр? – спросил я.
Клюни выразил готовность выполнить мою просьбу и последовал за мною довольно охотно, но все-таки казался взволнованным и сердитым.
– А теперь, сэр, – начал я, – позвольте сперва поблагодарить вас за великодушие.
– Что за глупости! – воскликнул Клюни. – Причем тут великодушие? Это очень неприятная история, но что же мне делать, запертому в Клетке, как не сажать за карты друзей, которых я могу принимать у себя? И если они проигрывают, то нельзя же предполагать… – Он остановился.
– Да, – сказал я, – если они проигрывают, вы возвращаете им деньги; если же они выигрывают, то уносят ваши деньги в своих карманах! Я сказал уже, что признаю ваше великодушие, но мне очень тяжело, сэр, быть поставленным в такое положение.
Затем последовало недолгое молчание, во время которого Клюни порывался заговорить, но ничего не сказал. Лицо его становилось все краснее и краснее.
– Я молод, – продолжал я, – и потому прошу у вас совета. Научите меня, как научили бы вы своего сына. Друг мой честно проиграл эти деньги после того, как честно выиграл у вас гораздо большую сумму. Могу ли я принять эти деньги обратно? Будет ли это порядочно с моей стороны? Как бы я ни поступил, вы сами понимаете, мне будет тяжело, как человеку с самолюбием.
– Это тяжело и для меня, мистер Бальфур! – сказал Клюни. – Вы, кажется, считаете меня способным разорять бедных людей. Я бы не желал, чтобы мои друзья подвергались оскорблениям в моем доме, нет! – воскликнул он с внезапной вспышкой гнева. – Или наносили бы их мне!
– Итак, вы видите, сэр, – продолжал я, – что и я имел основание вам возражать: карточная игра – плохое занятие для джентльменов. Но я жду вашего совета.
Я уверен, что если Клюни кого-нибудь ненавидел, то это был Давид Бальфур. Он взглянул на меня с воинственным видом, и на его лице я прочел вызов. Но моя молодость или присущее ему чувство справедливости обезоружили его. Разумеется, это была неприятная история для всех, принимавших в ней участие, и для Клюни не менее, чем для других, но он с честью вышел из положения.
– Мистер Бальфур, – сказал он, – вы очень щепетильны и притом большой педант, но, несмотря на это, вы настоящий джентльмен. Даю вам честное слово, вы можете принять эти деньги. Я посоветовал бы это своему сыну. Вот вам моя рука!
XXIV. Бегство. Ссора
Под покровом ночи мы с Аланом переправились через Лох-Эррохт и стали спускаться по его восточному берегу к другому убежищу около Лох-Ранноха, куда нас вел слуга Клюни. Этот малый нес наш багаж и плащ Алана. Он шел бодрым шагом, как крепкая горная малорослая лошадь. По-видимому, ноша казалась ему легкой, тогда как половина такого груза заставляла меня сгибаться в три погибели. А между тем в обыкновенной борьбе я мог бы переломать ему кости.
Без сомнения, для нас было большим облегчением шагать без ноши. И, может быть, только благодаря этому ощущению свободы и легкости в движениях я мог идти, едва оправившись от болезни. Шли мы по самым мрачным, пустынным местностям Шотландии, под облачным небом, и в сердцах наших было мало взаимного сочувствия.
Долгое время мы шли молча – рядом или гуськом – с застывшим выражением лица. Я был сердит и чванился перед своим товарищем, черпая всю свою силу в двух этих грешных чувствах; Алан тоже был сердит на меня за то, что я осудил его поступок, и стыдился, что проиграл мои деньги.
Мысль о разлуке все сильнее овладевала мной, и чем более я поддавался ей, тем более стыдился ее. Было бы прекрасно, если бы Алан повернулся ко мне и сказал: «Ступай, я подвергаюсь большой опасности, и мое общество только увеличивает опасность и для тебя». Но мне обратиться к другу, который, конечно, любил меня, и сказать: «Вы находитесь в большей опасности, чем я, поэтому ваша дружба мне в тягость. Подвергайтесь один риску и лишениям!» – нет, это было невозможно, и даже при одной мысли об этом щеки мои начинали пылать от стыда.
Правду говоря, Алан вел себя, как ребенок, вернее – что еще хуже, – как вероломный ребенок. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти без сознания, было немногим лучше кражи. А между тем он шагал рядом со мной, не имея ни гроша за душой и, как мне казалось, вполне довольный, что мог жить на деньги, которые он заставил меня принять как милостыню. Правда, я готов был поделиться ими с ним, но меня бесило, что он так уж рассчитывает на меня.
Вот какие мысли одолевали меня, но я не мог высказать их вслух, потому что это было бы невеликодушно. Однако я поступил хуже: не обмениваясь ни словом с моим товарищем, я только искоса посматривал на него.
Наконец на другой стороне Лох-Эррохта, когда мы достигли ровной, заросшей камышом земли, где идти было легко, Алан не мог больше выдержать и подошел ко мне.
Клюни перестал тасовать карты.
– Что это такое, черт возьми? – сказал он. – Что это за вигский ханжеский разговор в доме Клюни Макферсона?
– Я за мистера Бальфура готов положить руку в огонь, – сказал Алан. – Он честный и храбрый джентльмен! Не забывайте, кто говорит это: я ношу королевское имя, – прибавил он, приподнимая шляпу. – Я и мои друзья можем быть достойной компанией даже в самом избранном обществе. Но молодой человек устал, и ему следует выспаться. Если он не желает играть в карты, это не мешает составить нам партию вдвоем. Я, сэр, умею и охотно сыграю в любую игру, какую вы назовете.
– Сэр, – сказал Клюни, – вам надо знать, что в моем скромном доме всякий джентльмен может поступать, как ему вздумается. Если бы ваш друг захотел стоять на голове, я не возражал бы. Но если он, или вы, или кто-нибудь другой не совсем довольны мною, то я буду счастлив скрестить наши шпаги.
Я вовсе не желал, чтобы друзья из-за меня перерезали друг другу горло.
– Сэр! – воскликнул я. – Я очень устал, как вам объяснил Алан, и к тому же – я могу сказать это вам: ведь у вас у самого могут быть сыновья, – я обещал моему отцу не играть в карты.
– Довольно, довольно, – сказал Клюни и указал мне на постель из вереска в углу Клетки. Но все-таки он рассердился, искоса поглядывал на меня и тихонько ворчал.
Действительно, надо сознаться, мое мнение и слова, в которых я выразил его, отдавали пресвитерианством и были малоуместны среди якобитов дикой Шотландии.
Выпив водки и закусив олениной, я почувствовал какую-то странную тяжесть во всем теле и не успел лечь в постель, как меня охватило нечто вроде столбняка, и такое состояние продолжалось почти все время пребывания моего в Клетке. Иногда я приходил в себя и понимал, что вокруг происходит; остальное время я только слышал голоса или храп мужчин, точно далекие звуки журчащей реки. Пледы, висевшие прямо предо мной на стенах, то уменьшались, то опять вырастали, словно тени на потолке. Я, должно быть, иногда что-то говорил или вскрикивал, потому что время от времени с удивлением слышал ответы. Я не помню никакого определенного кошмара, а испытывал только какой-то ужас и отвращение к месту, где я находился, к постели, на которой лежал, к пледам на стене, к голосам, к огню, к самому себе…
Позвали цирюльника, который был также и доктором, чтобы прописать мне лекарство. Он говорил по-гэльски, и я ничего не понял из его слов, а болезнь помешала мне попросить перевести их на мой язык. Я хорошо сознавал, что болен; остальное меня не интересовало.
Находясь в таком печальном положении, я мало на что обращал внимание. Но Алан и Клюни большую часть времени проводили за картами, и Алан, должно быть, сначала выигрывал. Я вспоминаю, что видел их увлеченными игрой, причем на столе лежала блестящая кучка в шестьдесят или сто гиней. Странным выглядело такое богатство в гнезде, сплетенном из деревьев, на склоне утеса. Даже тогда я понимал, что такое занятие опасно для Алана, у которого не было ничего, кроме зеленого кошелька и пяти фунтов в нем.
Счастье изменило ему, должно быть, на второй день. Около полудня меня, по обыкновению, разбудили к обеду, и я, как всегда, отказался от еды, но, должно быть, выпил рюмку какой-то горькой настойки, которую мне прописал цирюльник. Слепящие лучи солнца светили в открытую дверь Клетки и беспокоили меня. Клюни сидел у стола, теребя в руках колоду карт. Алан наклонился над моей постелью, причем лицо его, приблизившееся к моим помутившимся от лихорадки глазам, показалось мне невероятно большим.
Он попросил меня дать ему денег взаймы.
– На что? – спросил я.
– О, только взаймы, – сказал он.
– Но зачем? – повторил я. – Я не понимаю.
– О Давид, – сказал Алан, – неужели ты пожалеешь дать мне денег в долг?
Я, наверное, пожалел бы, если был бы в полном сознании. Но тогда я хотел лишь одного: не видеть его лица и вручить ему деньги.
Наутро третьего дня, после того как мы провели в Клетке уже сорок восемь часов, я, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, и хотя был еще очень слаб, но уже видел предметы в их подлинных размерах и в обыкновенном, а не в фантастическом виде. Кроме того, у меня появился аппетит. Встав с постели по собственному побуждению, я, как только мы позавтракали, вышел на воздух и сел перед Клеткой на опушке леса. Стоял серенький денек, воздух был прохладный и влажный, и я все утро просидел в полудремоте, нарушаемой только хождением разведчиков и слуг Клюни, которые являлись к нему с провизией и докладами. В то время кругом было спокойно, и можно сказать, что Клюни почти открыто чинил суд и расправу.
Вернувшись в дом, я увидел, что он и Алан, отложив в сторону карты, расспрашивали слугу. Вождь повернулся ко мне лицом и заговорил со мной по-гэльски.
– Я не понимаю по-гэльски, сэр, – сказал я.
Со времени происшествия с картами все, что я говорил или делал, раздражало Клюни.
– В вашем имени больше смысла, чем в вас самих, сэр, – сказал он гневно, – потому что оно совершенно гэльское. Но дело не в том. Мой разведчик доложил мне, что местность на юге свободна. Хватит ли у вас сил идти?
Я увидел на столе карты, но золота там не было, а на той стороне, где сидел Клюни, лежала только куча исписанных бумажек. У Алана был какой-то странный взгляд. Казалось, он был чем-то недоволен, и я почувствовал смутное опасение.
– Я не знаю, хватит ли у меня сил, – сказал я, глядя на Алана, – но те небольшие деньги, которые у нас есть, помогут нам пройти большое расстояние.
– Давид, – произнес он наконец, – я проиграл деньги. Вот тебе чистая правда.
– И мои также? – спросил я.
– И твои также, – сказал Алан со вздохом. – Тебе не следовало давать их мне; я теряю рассудок, когда сажусь за карты.
– Ну, ну, – сказал Клюни, – мы играли в шутку. Все это пустяки! Понятно, вы получите обратно ваши деньги, и даже вдвойне, если позволите. Было бы странно с моей стороны оставить их у себя. Пусть не думают, что я могу огорчить джентльменов в вашем положении. Это было бы очень странно! – закричал он и, сильно покраснев, вытащил золото из своего кармана.
Алан не говорил ни слова, продолжая смотреть в землю.
– Угодно ли вам выйти со мной за дверь, сэр? – спросил я.
Клюни выразил готовность выполнить мою просьбу и последовал за мною довольно охотно, но все-таки казался взволнованным и сердитым.
– А теперь, сэр, – начал я, – позвольте сперва поблагодарить вас за великодушие.
– Что за глупости! – воскликнул Клюни. – Причем тут великодушие? Это очень неприятная история, но что же мне делать, запертому в Клетке, как не сажать за карты друзей, которых я могу принимать у себя? И если они проигрывают, то нельзя же предполагать… – Он остановился.
– Да, – сказал я, – если они проигрывают, вы возвращаете им деньги; если же они выигрывают, то уносят ваши деньги в своих карманах! Я сказал уже, что признаю ваше великодушие, но мне очень тяжело, сэр, быть поставленным в такое положение.
Затем последовало недолгое молчание, во время которого Клюни порывался заговорить, но ничего не сказал. Лицо его становилось все краснее и краснее.
– Я молод, – продолжал я, – и потому прошу у вас совета. Научите меня, как научили бы вы своего сына. Друг мой честно проиграл эти деньги после того, как честно выиграл у вас гораздо большую сумму. Могу ли я принять эти деньги обратно? Будет ли это порядочно с моей стороны? Как бы я ни поступил, вы сами понимаете, мне будет тяжело, как человеку с самолюбием.
– Это тяжело и для меня, мистер Бальфур! – сказал Клюни. – Вы, кажется, считаете меня способным разорять бедных людей. Я бы не желал, чтобы мои друзья подвергались оскорблениям в моем доме, нет! – воскликнул он с внезапной вспышкой гнева. – Или наносили бы их мне!
– Итак, вы видите, сэр, – продолжал я, – что и я имел основание вам возражать: карточная игра – плохое занятие для джентльменов. Но я жду вашего совета.
Я уверен, что если Клюни кого-нибудь ненавидел, то это был Давид Бальфур. Он взглянул на меня с воинственным видом, и на его лице я прочел вызов. Но моя молодость или присущее ему чувство справедливости обезоружили его. Разумеется, это была неприятная история для всех, принимавших в ней участие, и для Клюни не менее, чем для других, но он с честью вышел из положения.
– Мистер Бальфур, – сказал он, – вы очень щепетильны и притом большой педант, но, несмотря на это, вы настоящий джентльмен. Даю вам честное слово, вы можете принять эти деньги. Я посоветовал бы это своему сыну. Вот вам моя рука!
XXIV. Бегство. Ссора
Под покровом ночи мы с Аланом переправились через Лох-Эррохт и стали спускаться по его восточному берегу к другому убежищу около Лох-Ранноха, куда нас вел слуга Клюни. Этот малый нес наш багаж и плащ Алана. Он шел бодрым шагом, как крепкая горная малорослая лошадь. По-видимому, ноша казалась ему легкой, тогда как половина такого груза заставляла меня сгибаться в три погибели. А между тем в обыкновенной борьбе я мог бы переломать ему кости.
Без сомнения, для нас было большим облегчением шагать без ноши. И, может быть, только благодаря этому ощущению свободы и легкости в движениях я мог идти, едва оправившись от болезни. Шли мы по самым мрачным, пустынным местностям Шотландии, под облачным небом, и в сердцах наших было мало взаимного сочувствия.
Долгое время мы шли молча – рядом или гуськом – с застывшим выражением лица. Я был сердит и чванился перед своим товарищем, черпая всю свою силу в двух этих грешных чувствах; Алан тоже был сердит на меня за то, что я осудил его поступок, и стыдился, что проиграл мои деньги.
Мысль о разлуке все сильнее овладевала мной, и чем более я поддавался ей, тем более стыдился ее. Было бы прекрасно, если бы Алан повернулся ко мне и сказал: «Ступай, я подвергаюсь большой опасности, и мое общество только увеличивает опасность и для тебя». Но мне обратиться к другу, который, конечно, любил меня, и сказать: «Вы находитесь в большей опасности, чем я, поэтому ваша дружба мне в тягость. Подвергайтесь один риску и лишениям!» – нет, это было невозможно, и даже при одной мысли об этом щеки мои начинали пылать от стыда.
Правду говоря, Алан вел себя, как ребенок, вернее – что еще хуже, – как вероломный ребенок. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти без сознания, было немногим лучше кражи. А между тем он шагал рядом со мной, не имея ни гроша за душой и, как мне казалось, вполне довольный, что мог жить на деньги, которые он заставил меня принять как милостыню. Правда, я готов был поделиться ими с ним, но меня бесило, что он так уж рассчитывает на меня.
Вот какие мысли одолевали меня, но я не мог высказать их вслух, потому что это было бы невеликодушно. Однако я поступил хуже: не обмениваясь ни словом с моим товарищем, я только искоса посматривал на него.
Наконец на другой стороне Лох-Эррохта, когда мы достигли ровной, заросшей камышом земли, где идти было легко, Алан не мог больше выдержать и подошел ко мне.