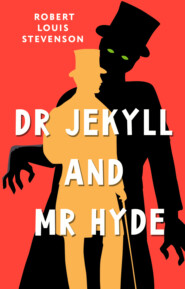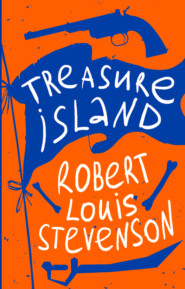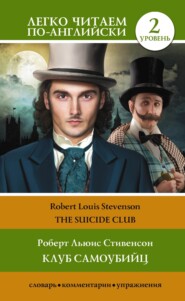По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клад под развалинами Франшарского монастыря
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я хотел бы видеть, как эти одежды обратились в прах, – сказал Жан-Мари, – я не стал бы и гнаться за этими вещами.
– У тебя нет никакого воображения! – воскликнул доктор. – Ты только представь себе эту сцену: несметные сокровища, лежащие многие века под спудом, глубоко под землею, словно спящие заколдованным сном! Эти сокровища, ведь это, так сказать, то, что могло бы создать беспечную, сытную, роскошную жизнь, лежащее без прока, без употребления; ведь это то, что могло бы купить роскошные одежды, ткани, меха, уборы и дивные художественные произведения; ведь это быстрые, как ветер, рысаки, которые теперь лежат там, под землей, недвижимые, словно над ними висит заклятье. Эти сокровища могли бы вызвать чарующие улыбки на устах красавиц, уста которых сомкнуты теперь!.. Эти сокровища могли бы породить живой, одуряющий, ошеломляющий азарт – перед глазами людей запрыгали бы карты и кости!.. Эти сокровища – ведь это дивное оперное пение! Это стройный оркестр! Это замки, дворцы, роскошные тенистые парки, сады! Это суда под сводами белых парусов, несущих их как крылья чайку!.. И все это лежит там, как в гробу, глубоко под землей, и глупые, нелепые деревья вырастают над этими богатствами и шелестят своей листвой, греясь на солнце из года в год. А клад все лежит, где лежал, и никому нет пользы от него… Нет! Одна мысль об этом может привести человека в бешенство! – докончил доктор.
– Ведь это же только богатства, – сказал Жан-Мари, – только деньги; они наделали бы много зла, я уверен.
– Глупости! – горячо воскликнул Депрэ. – Пустая философия! Оно, конечно, все это прекрасно, все эти рассуждения о вреде и зле богатств, я не спорю, но в данном случае они совершенно неуместны. В сущности, это вовсе не «только деньги», как ты говоришь, эти сосуды – дивные произведения искусства! Это старинная чеканная работа, художественная работа! Ты рассуждаешь как ребенок! Меня раздражает твоя привычка повторять ни к селу, ни к городу мои слова без всякого смысла и толка, точно попугай!
– Ну, да ведь нам нет никакого дела до этого клада, – примирительно сказал мальчик.
В этот момент они выехали на большую дорогу. Одноколка застучала по камням шоссе, и этот стук после мягкой лесной дороги, почти совершенно бесшумной, в связи с раздражением доктора заставил его замолчать. Тем временем одноколка продолжала катиться вперед, и высокие деревья леса постепенно уходили в даль, как будто безмолвно смотрели вслед проезжим, точно у них было что-то на уме. Миновав Квадрилатераль, они вскоре въехали в Франшар. Здесь они оставили свою одноколку и лошадь в одиноко стоящей маленькой гостинице, а сами пошли бродить около развалин. Все ущелье густо заросло вереском, и каменные глыбы скал и стройные березы особенно резко выделялись на этом фоне, освещенные ярким солнцем. Непрерывное жужжание пчел над цветами вереска располагало ко сну. Жан-Мари опустился на траву и, удобно расположившись под кустом, решил вздремнуть, тогда как доктор оживленно ходил взад и вперед, круто поворачиваясь и зорким глазом отыскивал интересные для него экземпляры лекарственных трав. Голова мальчика слегка склонилась на грудь, глаза сомкнулись, руки бессильно упали на колени, он задремал. Вдруг раздавшийся вблизи его внезапный крик заставил его разом вскочить на ноги. Это был странный, пронзительный, но короткий возглас, как будто оборвавшийся на половине звук. Звук этот мгновенно замер, и кругом снова воцарилась полная тишина, как будто ее никто не прерывал. Жан-Мари даже не узнал в этом возгласе голоса доктора Депрэ, но так как во всей ложбине не было живой души, кроме них, то было ясно, что этот возглас издал не кто иной, как доктор. Мальчик оглянулся вправо и влево и увидел наконец доктора Депрэ, стоявшего в нише, образуемой двумя каменными глыбами; он как будто искал глазами своего спутника, сам бледный как полотно.
– Змея? – воскликнул Жан-Мари, кинувшись к нему. – Змея? Она вас укусила? – Но вместо ответа доктор, тяжело ступая, с трудом выбрался из ниши и молча пошел навстречу мальчику, которого он, подойдя, грубо схватил за плечо.
– Я его нашел! – громко выкрикнул он задыхающимся голосом.
– Какое-нибудь редкое растение? – спросил Жан-Мари.
На это Депрэ неестественно громко расхохотался; скалы подхватили этот смех, и эхо передразнило доктора.
– Растение! – повторил доктор почти злобно. – Редкое растение! Да, поистине, очень редкое! А вот, – и при этом он вдруг вытянул вперед свою правую руку, которую он до сих пор держал спрятанной за спиной, – это одна из его цветочных чашечек!
Глазам Жан-Мари предстало грязное блюдо с налипшими комками земли и глины!
– Это? – сказал он. – Да ведь это тарелка!
– Нет, это карета, запряженная рысаками! – воскликнул доктор. – Слушай, мой мальчик, – продолжал он все более и более воодушевляясь, – я содрал там большой пласт мха из этой трещины между двух утесов; под этим мхом оказалась большая щель, и когда я заглянул в нее, я увидел… как ты думаешь, что я увидел там? Я увидел роскошный дом, дворец в Париже, с прекраснейшим парадным двором и садом, я увидел мою жену, сверкающую бриллиантами, я увидел себя депутатом, я увидел тебя, да-да, я увидел тебя в будущем… – докончил он уже с меньшим воодушевлением. – Короче сказать – я открыл Америку! – добавил он.
– Да что же это такое? – спросил мальчик, недоумевая.
– Это Франшарский клад! – воскликнул доктор. – Я нашел его! – И он кинул свою соломенную шляпу на траву и издал возглас, напоминающий крик индейцев на военной тропе. Затем он бросился к Жану-Мари и стал душить его в своих объятиях, смачивая его лицо и волосы своими слезами, после чего он растянулся на траве и захохотал так, что, вторя ему, загоготало эхо и раскатилось по всей лощине.
Но мальчик уже не обращал на него внимания; в нем проснулся другой интерес, интерес любопытного мальчугана, и едва он избавился от докторских объятий, как побежал к двум глыбам скал, вскочил в нишу, образовавшуюся между ними, и, запустив свою руку в трещину или щель в глубине ниши, стал доставать оттуда один за другим облепленные комьями земли и глины различные предметы: чаши, сосуды, светильники и кадильницы, – словом, все скрытое здесь отшельниками Франшарского монастыря. Последним он достал драгоценный ларец, тщательно запертый и весьма тяжелый.
– Вот так штука! – воскликнул мальчуган.
Но когда он оглянулся на доктора, который последовал за ним и стоя за его спиной молча следил за ним, слова замерли у мальчика на устах. Опять лицо доктора было бледно, землисто-серо, губы его подергивались и дрожали; им овладела какая-то чисто животная алчность.
– Это ребячество! – проговорил доктор почти строго. – Мы теряем драгоценное время. Скорее беги в гостиницу, возьми одноколку и пригони ее вон к тому валу или насыпи. Беги как можешь скорее и помни: ни гу-гу, ни слова, ни звука, слышишь? Я останусь здесь сторожить.
Жан-Мари исполнил все, как ему было приказано, но не без удивления и некоторого недоумения. Он пригнал одноколку к указанному месту, и затем оба они вместе переносили все найденные ими драгоценности от того места, где они были найдены, в ящик под кучерским сиденьем. Когда все было убрано и уложено в ящик, доктор сразу повеселел, словно гора свалилась у него с плеч.
– Приношу дань признательности доброму гению этой лощины, вместо жертвенного костра, жертвенного тельца и жбана вина. Кстати, я весьма расположен сейчас к последнего рода жертвоприношению, то есть к возлиянию, и почему бы нам не устроить возлияние в честь этого неизвестного доброго гения? Мы сейчас во Франшаре, и здесь можно получить английский светлый эль, ну, не классический, конечно, но прекрасный. Мы с тобой выпьем эля, мальчуган!
– Но я полагал, что этот напиток вреден, что пить его очень нездорово и, кроме того, он дорог! – сказал Жан-Мари.
– Та-та-та! – весело воскликнул доктор. – Едем в гостиницу.
И с этими словами он легко и проворно вскочил в свою одноколку, покачивая головой, совершенно повеселевший и помолодевший. Повернули лошадь, и через несколько секунд они уже подъехали к изгороди, которой был обнесен прилегавший к гостинице сад.
– Привяжи лошадь здесь, – сказал доктор, – здесь, поближе к столику, чтобы мы могли не спускать глаз с наших вещей.
Привязав лошадь, они вошли в сад и сели за столик. Доктор вошел, громко распевая то на невероятно высоких нотах, то извлекая глухие раскаты откуда-то из глубины своей гортани; затем он громко постучал пальцами по столу и потребовал эля. Он шутил и острил со слугой, и когда наконец на столе появилась желанная бутылка несравненно более насыщенная газом и потому пенившаяся гораздо сильнее, чем самое упоительное шампанское, он наполнил высокий стаканчик пеной и пододвинул его через весь стол к Жану-Мари.
– Пей, – сказал он, – пей все до дна!
– Я бы предпочел не пить, – робко возразил мальчик, помня преподанные ему наставления.
– Что? – прогремел громовым голосом доктор Депрэ.
– Я боюсь эля, у меня желудок… – сказал Жан-Мари, но доктор не дал ему докончить.
– Хочешь – пей, не хочешь – не пей! – почти свирепо накинулся на него доктор. – Только заметь себе раз навсегда, что ничего не может быть противнее педанта!
Это было нечто совсем новое для Жана-Мари, и он сидел над своим стаканом эля, не притрагиваясь к нему, погруженный в свои размышления, тогда как доктор то и дело опоражнивал и снова наполнял свой стакан. Сначала хмурясь, с недовольным видом, но постепенно поддаваясь влиянию солнца, игристого хмельного напитка и своему природному предрасположению чувствовать себя счастливым и довольным, доктор скоро повеселел.
– В кои веки раз, при случае, – сказал он наконец полунаставительно, делая этим своего рода уступку мальчику, – в кои веки раз, да еще при таких исключительных обстоятельствах!.. Этот эль настоящий нектар, напиток богов!.. Привычка тянуть постоянно эль – действительно унизительна и позорна. Вино, чистый виноградный сок – это настоящий напиток каждого француза, как я уже не раз имел случай доказывать тебе, и я, конечно, нисколько не осуждаю тебя за то, что ты отказываешься от этого заморского возбуждающего средства. Тебе могут подать вина и сладких пирожков или пирожных. Что, в бутылке уже пусто? Ну что же, мы не побрезгуем и твоим стаканом! Нечего делать, надо над ним сжалиться!
Когда все пиво было выпито, доктор принялся ворчать и раздражаться на Жана-Мари, пока тот доедал свои сладкие пирожки.
– Я сгораю от нетерпения скорее убраться отсюда, – сказал он, поглядывая на свои часы. – Боже правый, как ты долго ешь! Ты жуешь так медленно, точно беззубый старец!
А между тем сам он строжайше предписывал всегда жевать как можно медленнее, потому что в этом весь секрет долголетней жизни и здорового, исправного желудка.
Наконец его мучения окончились; оба они сели на свои места, в одноколку. Доктор Депрэ, удобно развалясь на заднем сиденье, объявил о своем решении ехать отсюда в Фонтенбло.
– В Фонтенбло? – переспросил Жан-Мари, не веря своим ушам.
– Я никогда не трачу даром слов! – грозно оборвал его доктор. – Раз я сказал, то этого должно быть довольно! Ну, пошел!
Доктору казалось, что он едет по райским долинам; все его восхищало и пленило, и все сливалось в каком-то блаженном самочувствии: и чудный свежий воздух, и яркое солнце, и зеленая ласкающая глаз листва на деревьях, и даже само движение одноколки, все это как будто дополняло его золотые мечты. Откинув назад голову и прищурив глаза, он сладко мечтал; перед ним проносились самые радужные видения; в его мозгу эль и радость творили чудеса; все, казалось, плясало и радовалось в его душе. Наконец он заговорил:
– Я хочу телеграфировать Казимиру, – сказал он. – Добрейшей души человек, но самого низкого порядка в отношении умственного развития, – ни на грош творческих способностей, ни капли поэзии; а вместе с тем он стоит любого ученого. Он сумел составить себе большое состояние и всецело обязан им самому себе и своим стараниям. Он самый подходящий человек для того, чтобы помочь нам реализовать, то есть обратить в деньги, наши драгоценности; он же найдет для нас подходящий дом в Париже и позаботится обо всем необходимом. Чудеснейший человек, и к тому же еще один из моих старейших товарищей! По его совету, могу я добавить, я поместил свой маленький капитал в турецкие акции, и теперь, когда мы приобщим к ним эту нашу добычу из развалин средневекового монастыря, то вместе с той долей, какую мы уже имеем в фондах мусульманского государства, мы с тобой, милый мальчуган, будем прямо-таки утопать в деньгах, да! Положительно утопать! Чудесные леса! – воскликнул он. – Прощаюсь с вами! Но хотя меня и призывают иные картины, я никогда не забуду вас! Память о вас запечатлелась в моем сердце! Ты видишь, Жан-Мари, что под влиянием свалившегося на меня благополучия я начал слагать дифирамбы! Таков естественный импульс души, таково было душевное состояние первобытного человека. А я – я не стану отрицать несомненного факта из ложной скромности: да, я сохранил юность души своей во всей ее девственной неприкосновенности; другой человек, который бы прожил все эти годы этой сонной, деревенской жизнью, без сомнения, заплесневел бы, размяк и стал бы однообразным, односторонним человеком, а я, я могу считать себя счастливым тем, что судьба наделила меня такой, натурой, которая помогла мне сохранить в себе всю гибкость, весь подъем, всю энергию человека, живущего полной жизнью. Новые богатства и новая сфера деятельности! Новый круг обязанностей застает меня полным сил и бодрости, полным энергии и жажды деятельности и только еще более созревшим, благодаря вновь приобретенным знаниям. И эта предстоящая перемена, Жан-Мари, вероятно, поразила тебя во мне. Ну, скажи мне теперь, разве это не показалось тебе чем-то вроде непоследовательности с моей стороны, чем-то вроде непостоянства? Ведь да? Признайся, напрасно ты стал скрывать, ведь это тебя огорчило?
– Да, – тихо произнес мальчик.
– Вот видишь, – воскликнул доктор с неподражаемой хвастливостью, – видишь, я положительно читаю у тебя в мыслях! И я ничуть этим не удивлен. Ведь твое воспитание еще далеко не закончено, и высшие обязанности человека по отношению к себе и к обществу еще не были изложены тебе. Я еще не имел времени ознакомить тебя с ними. Но сейчас достаточно будет пока одного намека на них, мы поговорим с тобой об этом впоследствии, когда будет время. Теперь, когда я снова волей судеб стал самостоятельным человеком, после того как я так долго готовился в безмолвных размышлениях, в глубоком изучении себя и законов природы, теперь мой долг призывает меня в Париж! Мои научные познания, мой несомненный дар слова – все это предназначает меня на служение моему народу и родной стране. Ложная скромность в данном случае была бы только простой уловкой; если бы слово «грех» было философическим словом, я сказал бы, что это был бы грех! Человек никогда не должен отрицать своих несомненных, очевидных и явных способностей и дарований, потому что это значит уклоняться от своих обязательств, от тех обязательств, которые вложены в него самой природой, наделившей его этими способностями; вот почему и я должен воспрянуть и приняться за дело, и делать свое дело! Я не должен быть трутнем или трусом в жизни, я не имею на это право!
Так он тараторил без умолка стараясь замаскировать словами свою непоследовательность, скрыть от чужих глаз трещину в скрижалях его недавних заветов, под пестрыми цветами красноречия; а мальчик слушал его молча, глядя на круп лошади и думая свою думу. Мозг его работал лихорадочно, напряженно, но уста безмолвствовали. Никакие слова не могли поколебать убеждений Жана-Мари, и он въезжал теперь в Фонтенбло преисполненный горечью, сожалением, негодованием, возмущением и отчаянием.
По приезде в город Жан-Мари должен был оставаться пригвожденным к своему месту на козлах ради охраны находившихся в ящике под козлами сокровищ, а доктор Депрэ порхал с какой-то странной воздушной легкостью, живостью и проворством манер из одного кафе в другое, пожимал дружески руки гарнизонным офицерам, с видом и искусством опытного знатока пил абсент (полынную водку), порхал из одного магазина в другой и возвращался нагруженный самыми разнообразными покупками: дорогими фруктами, настоящей, только что заколотой черепахой, куском превосходной шелковой материи для жены, какой-то нелепой тросточкой для себя и даже самого новейшего фасона кепи для Жана-Мари. Он входил и выходил в двери телеграфной станции, где он отправил депешу, и спустя три часа получил ответ от Казимира с обещанием приехать завтра, согласно полученному приглашению; словом, Депрэ осчастливил Фонтенбло первым ароматным дыханием своего в высшей мере благодушного настроения, озарил его первыми лучами своего счастья.
Солнце было уже совсем низко, когда они наконец тронулись в обратный путь. Тени от деревьев ложились поперек широкой белой дороги, ведущей к дому; вечернее благоухание леса неслось, как облака курений, над морем вершин зеленого леса и даже в улицах города, где накалившийся в течение дня воздух, сдавленный между белых раскаленных стен целого ряда домов, раньше был душен и неприятен, а теперь сменился приятной, отрадной прохладой, и даже здесь повеяло ароматами леса, которые приносила сюда попутная струя ветра, точно отдаленные звуки музыки. Они были на полпути от дома, когда последнее золотое пятнышко заходящего солнца сбежало с большого старого дуба, стоявшего по левую сторону от дороги; и когда они выехали из пределов леса, то долина уже подернулась прозрачной дымкой легкого тумана, и громадная бледная луна медленно всплывала на небо, красиво просвечивая сквозь тонкую и нежную листву тополей.
Доктор то пел, то свистел, то без умолку говорил. Он говорил о лесе, о войнах и об осаждении рос; и весь загораясь, начинал рассказывать о Париже; он положительно уносился в облака и в приподнятом, почти высокопарном слоге превозносил славу и заслуги политической карьеры.
Все должно было измениться отныне, и с угасающим днем уносились последние следы изжитой прежней жизни. На следующее утро должна была взойти заря новой жизни.
– Довольно! – воскликнул он. – Пора положить конец этому умерщвлению плоти! Жена моя еще красива и прелестна (или я жестоко пристрастен к ней), она не должна оставаться долее похороненной в этой глуши, она теперь должна блистать в обществе. А Жан-Мари увидит весь свет у своих ног, и все дороги к успеху, к богатству, к почестям будут ему открыты, и посмертная слава будет обеспечена ему, и самому мне также! Ах да, кстати! – добавил он. – Бога ради, прошу тебя, не болтай никому о нашей находке; ты, я знаю, парень не общительный, даже, пожалуй, чересчур молчаливый, – это качество я с радостью признаю за тобой, потому что пословица гласит: «речь – серебро, а молчание – золото»! Но в данном случае молчание очень важно. Никто не должен знать о нашем кладе, понимаешь ли ты? Только одному добрейшему Казимиру можно доверить эту тайну; нам, вероятно, придется даже переправить эти сосуды в Англию и там реализовать их.