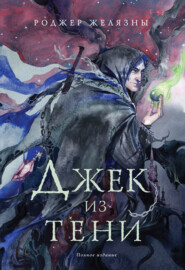По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Остров мертвых. Умереть в Италбаре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что ж, приятно знать, что кому-то ты нужен.
* * *
В положенный момент я покинул орбиту и унесся прочь от системы Покоя. Несколько часов после этого меня подташнивало, а руки то и дело начинали трястись. Я слишком много курил, и в горле у меня пересохло. Дома, на Покое, всем заведовал я. Но теперь мне снова предстояло выйти на большую арену. На мгновение мной даже овладело желание повернуть назад.
Но потом я вспомнил о Кэти, и Марлинге, и Рут, и давно покойном карлике Нике, и своем брате Чаке, и продолжил путь к точке фазового перехода, ненавидя себя.
Это случилось внезапно, сразу после того, как я вошел в фазу, когда корабль управлял собой сам.
Я начал смеяться, и меня захлестнуло ощущение безрассудства, совсем как в былые времена.
Какая разница, умру я или нет? Ради чего такого важного я жил? Ради изысканных яств? Ночей с куртизанками-контрактницами? Чепуха! Рано или поздно Токийский залив заполучит нас всех, и я знал, что со мной это тоже однажды случится, что бы я ни предпринимал. Лучше уж быть унесенным, преследуя хотя бы отчасти благородную цель, чем прозябать, пока кто-нибудь наконец не изыщет способ прикончить меня в постели.
…И это тоже была фаза.
Я начал нараспев произносить литанию на языке, который был старше всего человечества. Я делал это впервые за долгие годы, потому что впервые за долгие годы почувствовал, что достоин.
Свет в кабине как будто померк, хотя я был уверен, что горит он так же ярко, как и всегда. Маленькие индикаторы на панели передо мной отдалились, обернулись искрами, обернулись поблескивающими глазами зверей, наблюдавших за мной из темного леса. Мой голос начал звучать как чужой, и благодаря какой-то прихоти акустики доносился теперь откуда-то издалека. Я мысленно двинулся ему навстречу.
Потом к нему присоединились другие голоса. Вскоре мой собственный смолк, но остальные продолжали звучать – слабые, высокие, стихающие и набирающие силу, точно их приносил какой-то неосязаемый ветер; они легко касались моих ушей, не то чтобы маня за собой. Я не мог разобрать слов, но голоса пели. Глаза окружали меня, не приближаясь и не удаляясь, а впереди проступило сияние, очень слабое, как закат дня, полного молочно-белых облаков. В этот момент я понял, что сплю и вижу сон, и могу проснуться, если захочу. Но я не хотел. Я шел на запад.
В конце концов, под зыбким, как сон, небом путь мне преградил обрыв. Внизу была вода – вода, которую я не мог пересечь, бледная и сверкающая; над ней медленно закручивались и раскручивались туманные призраки, а вдали, очень далеко от того места, где я стоял, вытянув перед собой руку, мне – полный громоздящихся друг на друга холодных уступов, поросший каменными контрфорсами, указывающий окутанными дымкой вершинами на небо, которого я не видел, строгий, точно обработанный песком айсберг из черного дерева, – открылся источник пения, отчего шею мою обдало холодом, а волоски на ней, вполне возможно, встали дыбом.
Я увидел тени мертвых; они висели в воздухе, словно туман, или стояли, полускрытые тенью темных скал этого места. Я точно знал, что это мертвые, потому что увидел среди них непристойно жестикулирующего карлика Ника, увидел телепата Майка Шендона, едва не обрушившего империю, мою империю, человека, которого я убил собственными руками; а еще среди них были мой старый враг Данго-Нож, и Корткур Боджис, человек с компьютерным мозгом, и леди Карль с Алголя, которую я любил и ненавидел.
И тогда я призвал то, что, как я надеялся, все еще мог призвать.
Раздался гром, а небо сделалось ярким и синим, как озеро лазурной ртути. На мгновение я увидел ее стоящей там, за этими водами, в этом темном месте – Кэти, облаченную в белое; и наши взгляды встретились, и ее губы открылись, и я услышал свое имя – и более ничего, потому что следующий раскат грома принес с собой абсолютную тьму и укрыл ею тот остров и человека, что стоял на обрыве, вытянув перед собой руку. Меня, по всей видимости.
* * *
Когда я проснулся, у меня было некоторое представление о том, что все это значило. Но только некоторое. И я никак не мог истолковать этот чертов сон, как ни пытался его анализировать.
Однажды я создал Бёклинов Остров мертвых, чтобы удовлетворить прихоть группы безымянных клиентов; в голове у меня, точно призрачное драже, танцевали мелодии Рахманинова. Это была непростая работа. В первую очередь потому, что я – создание, мыслящее в основном визуальными образами. Когда я думаю о смерти – а это бывает часто – у меня перед глазами поочередно встают две картины. Первая из них – Долина теней, огромная и темная долина, что начинается между двумя массивными форштевнями из серого камня, устеленная травой, у входа залитой сумеречным светом и становящейся все темнее и темнее по мере того, как ты устремляешь свой взгляд все дальше и дальше, пока наконец перед тобой не оказывается сама чернота межзвездного пространства, только лишенная звезд, комет, метеоров и всего такого прочего; вторая же – это безумное полотно Бёклина, «Остров мертвых», тот самый остров, который только что предстал передо мной в стране снов. Из этих двух мест Остров мертвых куда более зловещ. Долина словно бы таит в себе какое-то обещание покоя. Впрочем, возможно, это потому, что я никогда не проектировал и не строил Долину теней, обливаясь потом над каждым нюансом и каждой деталью этого выворачивающего душу пейзажа. Однако – посреди планеты, во всех прочих отношениях напоминавшей Эдем, – я однажды воздвиг Остров мертвых, и он врезался в мое сознание настолько, что я не просто неспособен забыть его полностью – я стал частью его ровно в той же степени, в какой он был частью меня. И теперь эта часть меня обратилась ко мне единственным способом, которым могла, отвечая на подобие молитвы. Она предостерегала меня – я это чувствовал – и одновременно давала подсказку; подсказку, которая могла со временем обрести смысл. Символы по природе своей способны скрывать так же хорошо, как и обозначать – будь они прокляты!
Но Кэти все же увидела меня там, в глубине моего сна, а это означало, что шанс, возможно, есть…
Я включил экран и уставился на спирали света, двигавшиеся как по часовой стрелке, так и против нее, вокруг точки, находившейся прямо передо мной. Это были звезды, которые здесь, на изнанке космоса, можно увидеть лишь таким образом. Пока я висел там, а Вселенная двигалась мимо меня, я чувствовал, как слои жира, за десятилетия наросшие на брюшных мышцах моей души, воспламеняются и начинают гореть. В это мгновение человек, которым я так старался стать, умер – надеюсь, – и я ощутил, что Шимбо из Башни Темного Дерева, Повелитель Громов, все еще жив.
Я смотрел на вращающиеся звезды, ощущая благодарность, печаль и такую гордость, какую способен испытать лишь человек, переживший свою судьбу и осознавший, что он еще способен выковать себе новую.
Какое-то время спустя небесный водоворот затянул меня в темное сердце сна, лишенного сновидений и прохладного, мягкого и неподвижного – подобного, быть может, Долине теней.
* * *
Прошло около двух недель, прежде чем Лоуренс Коннер посадил свою «Модель Т» на планете Альдебаран-V, названной в честь своего первооткрывателя Дрисколлом. Точнее, около двух недель прошло на борту «Модели Т», хотя на самом деле фазовый переход произошел мгновенно. Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему. У меня нет времени писать книгу. Но если бы Лоуренс Коннер решил улететь обратно на Покой, он смог бы насладиться еще двумя неделями гимнастических упражнений, рефлексии и чтения и, вполне возможно, вернулся бы домой в тот же день, когда отбыл Фрэнсис Сэндоу, чем, несомненно, безмерно порадовал бы местную живность. Но он этого не сделал. Вместо этого он помог Сэндоу заполучить долю в торговле бриаровыми трубками, которая на самом деле была ему не нужна, – просто для прикрытия, пока он изучал те детали головоломки, которые отыскал. Не исключено, что это были перемешанные детали сразу нескольких головоломок. Поди разбери.
На мне были легкий тропический костюм и солнечные очки, потому что в желтом небе висело всего несколько оранжевых облачков, а солнце обрушивало на меня волны жара, которые разбивались о пастельные тротуары и разлетались теплыми, искажающими реальность брызгами. Я приехал на взятых напрокат слип-санях в город Миди, колонию художников, местечко, слишком яркое, хрупкое и безжалостно приморское, чтобы мне понравиться, – почти все его башни, шпили, кубы и овоиды, которые люди называли домами, офисами, студиями или магазинами, были построены из гляциллина, вещества, которое можно сделать прозрачным или непрозрачным, бесцветным или какого угодно оттенка с помощью элементарного воздействия на молекулы, – и отыскал Нюэйдж, прибрежную улочку, проехав через город, постоянно менявший цвета, напоминая мне формованное желе – малиновое, клубничное, вишневое, апельсиновое, лимонное и лаймовое – со множеством фруктов внутри.
Я нашел дом по прежнему адресу, и оказалось, что Рут была права.
Он изменился, и сильно. Когда мы жили здесь вместе, он был одной из последних твердынь, не сдававшихся поглощавшему город желе. Но теперь капитулировал и он. Там, где прежде была высокая оштукатуренная стена, ограждавшая вымощенный камнем дворик, арка с чугунными воротами, гасиенда, окружавшая маленький бассейн, воды которого разбрызгивали солнечные призраки на плитку и грубые стены, стоял теперь желейный замок с четырьмя высокими башнями. Малиновый – до поры до времени.
Я припарковался, пересек радужный мост и коснулся панели оповещения на двери.
– Этот дом свободен, – сообщил механический голос из скрытого динамика.
– Когда вернется мисс Ларис? – спросил я.
– Этот дом свободен, – повторил голос. – Если вы заинтересованы в его покупке, свяжитесь с Полом Глидденом из риелторского агентства «Солнечные брызги», авеню Семи Вздохов, дом 178.
– Мисс Ларис оставила свой новый адрес?
– Нет.
– А какое-нибудь сообщение?
– Нет.
Я вернулся к слип-саням, поднял их на восьмидюймовую воздушную подушку и отыскал авеню Семи Вздохов, когда-то называвшуюся Мейн-стрит.
Толстый и почти безволосый, если не считать серых бровей, разделенных парой дюймов кожи и таких тонких, будто каждую нарисовали единым росчерком карандаша; ниже бровей – глаза, асфальтово-серые и серьезные, а еще ниже – двойной изгиб розовых губ, улыбавшихся, должно быть, даже когда он спал, под крошечной вздернутой штуковиной, через которую он дышал, казавшейся еще крошечнее и вздернутее в окружении кусков теста, что служили ему щеками и угрожали подняться еще сильнее и поглотить ее полностью вместе со всеми остальными чертами, превратив его (за исключением маленьких проколотых ушей, в которых сверкали сапфиры) в гладкий задыхающийся ком плоти такого же кирпичного цвета, как покрывавшая его северное полушарие рубашка со свободными рукавами, – вот каким предстал передо мной мистер Глидден за своим столом в «Солнечных брызгах»; он опустил влажную руку, которую я только что пожал, и его масонское кольцо щелкнуло о керамическую розетку пепельницы, когда он поднял свою сигару, чтобы воззриться на меня, подобно рыбе, из озерца дыма, в которое погрузился.
– Присядьте, мистер Коннер, – прожевал он. – Что у меня есть такого, в чем вы нуждаетесь?
– Это ведь вы занимаетесь домом Рут Ларис на улице Нюэйдж?
– Так точно. Хотите его купить?
– Я ищу Рут Ларис, – сказал я. – Вы не знаете, куда она переехала?
Его глаза утратили прежний блеск.
– Нет, – ответил он. – Я ни разу не встречался с Рут Ларис.
– Она, должно быть, велела вам куда-то переслать ее деньги?
– Верно.
– Может, скажете, куда?
– С чего бы?
– А почему нет? Я пытаюсь ее отыскать.
– Я должен зачислить их на ее счет в банке.
– Местном?
* * *
В положенный момент я покинул орбиту и унесся прочь от системы Покоя. Несколько часов после этого меня подташнивало, а руки то и дело начинали трястись. Я слишком много курил, и в горле у меня пересохло. Дома, на Покое, всем заведовал я. Но теперь мне снова предстояло выйти на большую арену. На мгновение мной даже овладело желание повернуть назад.
Но потом я вспомнил о Кэти, и Марлинге, и Рут, и давно покойном карлике Нике, и своем брате Чаке, и продолжил путь к точке фазового перехода, ненавидя себя.
Это случилось внезапно, сразу после того, как я вошел в фазу, когда корабль управлял собой сам.
Я начал смеяться, и меня захлестнуло ощущение безрассудства, совсем как в былые времена.
Какая разница, умру я или нет? Ради чего такого важного я жил? Ради изысканных яств? Ночей с куртизанками-контрактницами? Чепуха! Рано или поздно Токийский залив заполучит нас всех, и я знал, что со мной это тоже однажды случится, что бы я ни предпринимал. Лучше уж быть унесенным, преследуя хотя бы отчасти благородную цель, чем прозябать, пока кто-нибудь наконец не изыщет способ прикончить меня в постели.
…И это тоже была фаза.
Я начал нараспев произносить литанию на языке, который был старше всего человечества. Я делал это впервые за долгие годы, потому что впервые за долгие годы почувствовал, что достоин.
Свет в кабине как будто померк, хотя я был уверен, что горит он так же ярко, как и всегда. Маленькие индикаторы на панели передо мной отдалились, обернулись искрами, обернулись поблескивающими глазами зверей, наблюдавших за мной из темного леса. Мой голос начал звучать как чужой, и благодаря какой-то прихоти акустики доносился теперь откуда-то издалека. Я мысленно двинулся ему навстречу.
Потом к нему присоединились другие голоса. Вскоре мой собственный смолк, но остальные продолжали звучать – слабые, высокие, стихающие и набирающие силу, точно их приносил какой-то неосязаемый ветер; они легко касались моих ушей, не то чтобы маня за собой. Я не мог разобрать слов, но голоса пели. Глаза окружали меня, не приближаясь и не удаляясь, а впереди проступило сияние, очень слабое, как закат дня, полного молочно-белых облаков. В этот момент я понял, что сплю и вижу сон, и могу проснуться, если захочу. Но я не хотел. Я шел на запад.
В конце концов, под зыбким, как сон, небом путь мне преградил обрыв. Внизу была вода – вода, которую я не мог пересечь, бледная и сверкающая; над ней медленно закручивались и раскручивались туманные призраки, а вдали, очень далеко от того места, где я стоял, вытянув перед собой руку, мне – полный громоздящихся друг на друга холодных уступов, поросший каменными контрфорсами, указывающий окутанными дымкой вершинами на небо, которого я не видел, строгий, точно обработанный песком айсберг из черного дерева, – открылся источник пения, отчего шею мою обдало холодом, а волоски на ней, вполне возможно, встали дыбом.
Я увидел тени мертвых; они висели в воздухе, словно туман, или стояли, полускрытые тенью темных скал этого места. Я точно знал, что это мертвые, потому что увидел среди них непристойно жестикулирующего карлика Ника, увидел телепата Майка Шендона, едва не обрушившего империю, мою империю, человека, которого я убил собственными руками; а еще среди них были мой старый враг Данго-Нож, и Корткур Боджис, человек с компьютерным мозгом, и леди Карль с Алголя, которую я любил и ненавидел.
И тогда я призвал то, что, как я надеялся, все еще мог призвать.
Раздался гром, а небо сделалось ярким и синим, как озеро лазурной ртути. На мгновение я увидел ее стоящей там, за этими водами, в этом темном месте – Кэти, облаченную в белое; и наши взгляды встретились, и ее губы открылись, и я услышал свое имя – и более ничего, потому что следующий раскат грома принес с собой абсолютную тьму и укрыл ею тот остров и человека, что стоял на обрыве, вытянув перед собой руку. Меня, по всей видимости.
* * *
Когда я проснулся, у меня было некоторое представление о том, что все это значило. Но только некоторое. И я никак не мог истолковать этот чертов сон, как ни пытался его анализировать.
Однажды я создал Бёклинов Остров мертвых, чтобы удовлетворить прихоть группы безымянных клиентов; в голове у меня, точно призрачное драже, танцевали мелодии Рахманинова. Это была непростая работа. В первую очередь потому, что я – создание, мыслящее в основном визуальными образами. Когда я думаю о смерти – а это бывает часто – у меня перед глазами поочередно встают две картины. Первая из них – Долина теней, огромная и темная долина, что начинается между двумя массивными форштевнями из серого камня, устеленная травой, у входа залитой сумеречным светом и становящейся все темнее и темнее по мере того, как ты устремляешь свой взгляд все дальше и дальше, пока наконец перед тобой не оказывается сама чернота межзвездного пространства, только лишенная звезд, комет, метеоров и всего такого прочего; вторая же – это безумное полотно Бёклина, «Остров мертвых», тот самый остров, который только что предстал передо мной в стране снов. Из этих двух мест Остров мертвых куда более зловещ. Долина словно бы таит в себе какое-то обещание покоя. Впрочем, возможно, это потому, что я никогда не проектировал и не строил Долину теней, обливаясь потом над каждым нюансом и каждой деталью этого выворачивающего душу пейзажа. Однако – посреди планеты, во всех прочих отношениях напоминавшей Эдем, – я однажды воздвиг Остров мертвых, и он врезался в мое сознание настолько, что я не просто неспособен забыть его полностью – я стал частью его ровно в той же степени, в какой он был частью меня. И теперь эта часть меня обратилась ко мне единственным способом, которым могла, отвечая на подобие молитвы. Она предостерегала меня – я это чувствовал – и одновременно давала подсказку; подсказку, которая могла со временем обрести смысл. Символы по природе своей способны скрывать так же хорошо, как и обозначать – будь они прокляты!
Но Кэти все же увидела меня там, в глубине моего сна, а это означало, что шанс, возможно, есть…
Я включил экран и уставился на спирали света, двигавшиеся как по часовой стрелке, так и против нее, вокруг точки, находившейся прямо передо мной. Это были звезды, которые здесь, на изнанке космоса, можно увидеть лишь таким образом. Пока я висел там, а Вселенная двигалась мимо меня, я чувствовал, как слои жира, за десятилетия наросшие на брюшных мышцах моей души, воспламеняются и начинают гореть. В это мгновение человек, которым я так старался стать, умер – надеюсь, – и я ощутил, что Шимбо из Башни Темного Дерева, Повелитель Громов, все еще жив.
Я смотрел на вращающиеся звезды, ощущая благодарность, печаль и такую гордость, какую способен испытать лишь человек, переживший свою судьбу и осознавший, что он еще способен выковать себе новую.
Какое-то время спустя небесный водоворот затянул меня в темное сердце сна, лишенного сновидений и прохладного, мягкого и неподвижного – подобного, быть может, Долине теней.
* * *
Прошло около двух недель, прежде чем Лоуренс Коннер посадил свою «Модель Т» на планете Альдебаран-V, названной в честь своего первооткрывателя Дрисколлом. Точнее, около двух недель прошло на борту «Модели Т», хотя на самом деле фазовый переход произошел мгновенно. Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему. У меня нет времени писать книгу. Но если бы Лоуренс Коннер решил улететь обратно на Покой, он смог бы насладиться еще двумя неделями гимнастических упражнений, рефлексии и чтения и, вполне возможно, вернулся бы домой в тот же день, когда отбыл Фрэнсис Сэндоу, чем, несомненно, безмерно порадовал бы местную живность. Но он этого не сделал. Вместо этого он помог Сэндоу заполучить долю в торговле бриаровыми трубками, которая на самом деле была ему не нужна, – просто для прикрытия, пока он изучал те детали головоломки, которые отыскал. Не исключено, что это были перемешанные детали сразу нескольких головоломок. Поди разбери.
На мне были легкий тропический костюм и солнечные очки, потому что в желтом небе висело всего несколько оранжевых облачков, а солнце обрушивало на меня волны жара, которые разбивались о пастельные тротуары и разлетались теплыми, искажающими реальность брызгами. Я приехал на взятых напрокат слип-санях в город Миди, колонию художников, местечко, слишком яркое, хрупкое и безжалостно приморское, чтобы мне понравиться, – почти все его башни, шпили, кубы и овоиды, которые люди называли домами, офисами, студиями или магазинами, были построены из гляциллина, вещества, которое можно сделать прозрачным или непрозрачным, бесцветным или какого угодно оттенка с помощью элементарного воздействия на молекулы, – и отыскал Нюэйдж, прибрежную улочку, проехав через город, постоянно менявший цвета, напоминая мне формованное желе – малиновое, клубничное, вишневое, апельсиновое, лимонное и лаймовое – со множеством фруктов внутри.
Я нашел дом по прежнему адресу, и оказалось, что Рут была права.
Он изменился, и сильно. Когда мы жили здесь вместе, он был одной из последних твердынь, не сдававшихся поглощавшему город желе. Но теперь капитулировал и он. Там, где прежде была высокая оштукатуренная стена, ограждавшая вымощенный камнем дворик, арка с чугунными воротами, гасиенда, окружавшая маленький бассейн, воды которого разбрызгивали солнечные призраки на плитку и грубые стены, стоял теперь желейный замок с четырьмя высокими башнями. Малиновый – до поры до времени.
Я припарковался, пересек радужный мост и коснулся панели оповещения на двери.
– Этот дом свободен, – сообщил механический голос из скрытого динамика.
– Когда вернется мисс Ларис? – спросил я.
– Этот дом свободен, – повторил голос. – Если вы заинтересованы в его покупке, свяжитесь с Полом Глидденом из риелторского агентства «Солнечные брызги», авеню Семи Вздохов, дом 178.
– Мисс Ларис оставила свой новый адрес?
– Нет.
– А какое-нибудь сообщение?
– Нет.
Я вернулся к слип-саням, поднял их на восьмидюймовую воздушную подушку и отыскал авеню Семи Вздохов, когда-то называвшуюся Мейн-стрит.
Толстый и почти безволосый, если не считать серых бровей, разделенных парой дюймов кожи и таких тонких, будто каждую нарисовали единым росчерком карандаша; ниже бровей – глаза, асфальтово-серые и серьезные, а еще ниже – двойной изгиб розовых губ, улыбавшихся, должно быть, даже когда он спал, под крошечной вздернутой штуковиной, через которую он дышал, казавшейся еще крошечнее и вздернутее в окружении кусков теста, что служили ему щеками и угрожали подняться еще сильнее и поглотить ее полностью вместе со всеми остальными чертами, превратив его (за исключением маленьких проколотых ушей, в которых сверкали сапфиры) в гладкий задыхающийся ком плоти такого же кирпичного цвета, как покрывавшая его северное полушарие рубашка со свободными рукавами, – вот каким предстал передо мной мистер Глидден за своим столом в «Солнечных брызгах»; он опустил влажную руку, которую я только что пожал, и его масонское кольцо щелкнуло о керамическую розетку пепельницы, когда он поднял свою сигару, чтобы воззриться на меня, подобно рыбе, из озерца дыма, в которое погрузился.
– Присядьте, мистер Коннер, – прожевал он. – Что у меня есть такого, в чем вы нуждаетесь?
– Это ведь вы занимаетесь домом Рут Ларис на улице Нюэйдж?
– Так точно. Хотите его купить?
– Я ищу Рут Ларис, – сказал я. – Вы не знаете, куда она переехала?
Его глаза утратили прежний блеск.
– Нет, – ответил он. – Я ни разу не встречался с Рут Ларис.
– Она, должно быть, велела вам куда-то переслать ее деньги?
– Верно.
– Может, скажете, куда?
– С чего бы?
– А почему нет? Я пытаюсь ее отыскать.
– Я должен зачислить их на ее счет в банке.
– Местном?