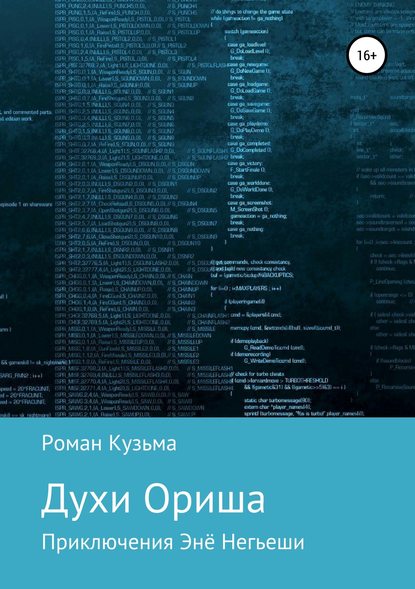По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духи Ориша
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
5
Стоявший в густой тени сомкнувших свои кроны тропических деревьев жрец баба-кекерэ – худой чернокожий мужчина, ростом достигавший почти двух метров – отдал приказ. Бартоло, на котором из одежды были лишь белые холщовые брюки, подобно трём десяткам других участников действа, выступил вперёд. Шагая по утрамбованной тысячами ног грунтовой площадке, с виду напоминавшей мини-футбольную, но вместе с тем никогда не видевшей ни ворот, ни мяча, он ощущал, как глина, едва тёплая, передаёт свою силу его босым ступням. Здесь, вдалеке от многоязычного гомона мегаполиса, за пределами фавел и пригородов с их миллионами излишне любопытных ушей и глаз, в лесной чаще укрылось место сбора членов террейру кандомбле. Многие десятилетия здесь проводились тайные богослужения, посвящённые африканским богам, вырядившимся в одежды христианских святых – типичная для Рио парадоксальная смесь.
Зазвенели многочисленные двойные колокольчики агого, зажатые в руках юных учеников – и тут же, словно эхом, отозвались бубны пандейру. Наконец, барабаны атабаке, достигавшие почти метра в высоту, обогатили мелодию своими глухими ударами, позволив струнам беримбау, внешне напоминающим огромные луки, дополнить их звучание тем вибрирующим гулом, спутать который невозможно ни с чем.
Когда прозвучали первые, наиболее торжественные такты, темп ускорился и в музыку вплёлся трескучий грохот реку-реку, превративший её в один из тех зажигательных, очаровывающих афро-бразильских ритмов, принуждающих тело само по себе пускаться в пляс. Танец, требовавший безукоризненного владения всеми элементами капоэйры, начался.
Бартоло двигался в такт музыке и ни о чём не думал – привычка, накрепко усвоенная его мускулами за годы изнурительных тренировок. Так же поступали и другие участники состязания, он знал это наверняка, хотя и не смотрел по сторонам. Под строгим присмотром местре, подчинявшихся каждому повелению жреца баба-кекерэ, юноши выполняли тщательно разученные движения капоэйры: прыжки, маховые и круговые удары ногами, перемежая их лёгкими, скользящими шагами. Бартоло, великолепно подготовленный физически, не чувствовал даже малейшей усталости и десять минут спустя – наоборот, его тело, покрывшись потом, казалось, только стало легче, безошибочно выполняя самые сложные двигательные акты.
Когда прошло четверть часа, баба-кекерэ, нетерпеливым жестом длинной, как жердь, руки приказал выйти из круга тем, кто, по его мнению, сбился с ритма или допустил погрешности в движениях. Когда гигантского роста жрец, одетый в белую с золотым шитьём тунику, посмотрел на Бартоло, сердце того ёкнуло. Казалось, от взгляда чёрных глаз, отделённых от тёмно-коричневой кожи лица только налитыми кровью белками, не ускользнули ни европейские корни, ни мельчайшие неточности в исполнении перемещения кокоринья.
Юноша чувствовал, что этот взгляд, связанный, как гласили поверья, с самим богом справедливости Ифа, пронзает его грудь, подобно копью. Бартоло стал выделывать па, придерживаясь правил их исполнения вплоть до миллиметра, одновременно изобразив на лице беззаботную улыбку – так, словно ему это не составляло ни малейшего труда. Ужасный взгляд двинулся дальше.
Из груди юноши едва не вырвался вздох облегчения: жрец никогда не поправлял ошибившегося и не помогал ему советом, в отличие от местре – он лишь исключал из списка претендентов тех, кто, по его мнению, был недостоин благосклонности великих духов Ориша. Обо всём этом он узнал едва ли не только что от местре Мауро, который за время путешествия за город к тайному капищу рассказал Бартоло о связи капоэйры и культа кандомбле.
Все эти истины и правила, многократно изложенные в виде легенд и мифов, он уже слышал ранее, однако только сейчас это прозвучало столь категорично и определённо: капоэйра и кандомбле едины.
Продолжая свой танец, Бартоло не видел никаких противоречий: действительно, те, кого капоэйра интересует лишь как средство самозащиты – а зачастую и нападения, причём далеко не всегда с добрыми намерениями, – сами поймут, что им не нужны подобного рода испытания. Здесь требуется отдать все свои силы ради постижения внутренней сути Искусства. Те же, кто полностью и всецело отдаётся музыке, смогут постичь совершенства духа, равного такому у Ориша.
И какие возможности для совершенствования тела это откроет!
От осознания открывшейся перед ним поразительной перспективы у Бартоло закружилась голова, и он с жадностью набросился на всё новые и новые знания о нормах и устоях кандомбле, которые исходили в последние часы от местре Мауро и служителей культа. Он чувствовал себя так, будто близок к откровению.
Бартоло потерял счёт времени, сосредоточившись лишь на собственной жинге. Выполняя её и прочие действия, он старался не тратить ни единого лишнего эрга, одновременно расслабляя все мышцы, не задействованные в движении. Его сознание будто отступило на задний план, дав волю мышцам самостоятельно выполнить стоящую перед ними задачу, непосильную для любого простого смертного.
Баба-кекерэ, чья длинная, костлявая фигура терялась в складках мантии цвета мороженого – о, с каким удовольствием Бартоло съел бы сейчас стаканчик! – периодически отдавал тому или иному танцору приказ: уйти. Те молча подчинялись его нетерпеливым жестам. Бартоло не обращал на них внимания, слушая лишь музыку, которая стала для него движением, а движение, текущее вдоль тела – смыслом всей жизни.
Внезапно всё стихло. Бартоло, даже не успев осмотреться, с удивлением заметил, что его ноги, словно обретя собственное сознание, остановились. Бросив полный отчаяния взгляд на баба-кекерэ, он ощутил прилив радости и свежих сил: всё было в порядке, просто танец закончился. Повинуясь приказу жреца, оставшиеся танцоры приблизились к нему, в то время как присутствующие, включая и музыкантов, отступили в чащу, где на одной из полян их ожидали выпивка и угощение. Кроме баба-кекерэ и десятка юношей остались лишь их местре.
– Все готовы одеть рукавицы? – Местре Мауро научил Бартоло, как отвечать на подобный вопрос, и он, пренебрежительно улыбнувшись, протянул руки вперёд. Остальные юноши поступили точно так же. Их местре, не делая разницы между своими учениками и чужими, приблизились, чтобы положить начало второму испытанию. Как только местре с наполовину седыми курчавыми волосами, удивительным образом контрастирующими с его тёмной, как старый ботинок, сморщенной кожей, натянул на предплечья Бартоло краги из пальмовых листьев, тот, как положено, поблагодарил его.
– Спасибо за рукавицы, местре Лазарь.
– Чтоб твои руки не мёрзли, парень.– Лицо местре было невозмутимым, как ясное весеннее небо.
Действительно, мёрзнуть Бартоло не пришлось. Каждое мгновение он ощущал жгучую боль, исходящую из-под краг, где, как ему было известно, ползали бесчисленные рыжие муравьи. Эти насекомые, отличавшиеся большими размерами и лютой злобой, способны съесть человека заживо, если им предоставить такую возможность. С течением времени старые укусы дополнялись новыми, и боль только усиливалась.
Он бросил пару нетерпеливых взглядов по сторонам. Правилами не запрещалось ни сидеть, ни стоять – и большинство юношей пользовались этим правом, – нельзя было лишь снимать или стряхивать краги, распугивая муравьёв. Наоборот, испытуемый всем своим видом должен был показывать, насколько ему приятно и удобно носить предмет гардероба, подаренный местре. Бартоло, счастливо улыбаясь, сидел в тени фернамбукового дерева и молча смотрел в пространство. Перед его глазами проплывали неведомые страны, в которых происходили устрашающие, наполненные тревогой события – и всегда кризис разрешался вмешательством героя, неизменно похожего на Бартоло внешне.
Первый юноша выбыл достаточно быстро. То был один из тех, кто предпочёл потакать боли и прыгать и трястись вместо того, чтобы полностью подчиниться ей, бесследно исчезнуть в её пламени. Вскоре, один за другим, ещё несколько человек вскочили и, ругаясь, сорвали с себя пальмовые листья. Наконец, когда Бартоло уже совершенно смирился с тем, что ему придётся расстаться с искусанными и опухшими руками, баба-кекерэ поднял вверх обе ладони, розовые на чёрно-коричневом фоне, и произнёс несколько слов на языке йоруба. Судя по тому, что все сняли листья, испытание подошло к концу. Кроме Бартоло, осталось лишь двое ребят – этим троим предстояло пройти через самые тяжёлые и нечеловеческие нагрузки.
Баба-кекерэ отвёл их в бревенчатую хижину, запираемую снаружи, в которой они могли воспользоваться лежащими на полу циновками для того, чтобы отдохнуть. Едва ли их стоило упрашивать: практически тотчас же все трое уснули.
Сон был коротким и беспокойным, а пробуждение – молниеносным. Поднявшись одним рывком и осмотревшись, Бартоло тут же сел: опасность отсутствовала, кругом царила ночь, а рядом сопели два его соперника – товарищи по тяжелейшему из возможных в капоэйре несчастий. Он также ощутил, что очень голоден.
Ночной воздух, то и дело оглашаемый криками животных и птиц, нёс прохладу, вместе с которой вернулось в тело и сознание, требовавшее накормить, а ещё более того – напоить утомлённый организм. Бартоло постарался снова уснуть, однако сон никак не шёл – и он беспокойно ворочался с боку на бок до самого рассвета.
День, к сожалению, не принёс облегчения – наоборот, у одного из парней, которого звали Тристао, начался бред. Он то угрожал кому-то треснутым голосом, идущим из пересохшей глотки, то просил о пощаде. Когда жрец, заглянувший в щель между неплотно подогнанными брёвнами, предложил ему воды и еды, тот согласился.
Скользнул, продвигаясь сквозь железные петли, засов и дверь, скрипнув, проехала по земле и открылась. Вошли два местре, в одном из которых Бартоло узнал Лазаря, и, подхватив Тристао за колени и подмышки, вынесли его наружу.
Дверь тут же захлопнулась. Эмоции нахлынули на Бартоло водопадом: страх, отчаяние, затаённое желание умереть прямо здесь, на циновках – и, в конце концов, облегчение оттого, что их оставили в покое. За весь день он вставал лишь несколько раз, предпочитая двигаться как можно меньше.
Ночью прошёл дождь, и они с Маркошем жадно пили воду, густыми потоками стекавшую сквозь крышу. Правила разрешали подобное, как и всё, что не является насилием в отношении партнёра. Пожалуй, от этого стало только хуже, ведь, восстановив силы, они тем самым продлили срок своего пребывания в маленьком тесном строении, более напоминающем клетку. Испражнялись они здесь же, очертив вокруг себя зону чудовищной вони, преодолеть которую мог лишь человек, начисто лишённый обоняния.
Мысли о схватке не раз посещали Бартоло, однако он гнал их прочь: в таком случае ему бы немедленно засчитали поражение. Умение управлять своей агрессией, давать ей волю лишь тогда, когда это необходимо, любить злейшего врага, который может стать твоим другом – все эти истины кандомбле постепенно проникали в его душу. Поэтому он продолжал стоически выжидать конца, поставив перед собой цель победить во что бы то ни стало.
Маркош оказался достойным противником. Он ни разу не заговорил с ним без нужды, не попытался запугать или ударить. Бартоло, вынужденный так или иначе постоянно думать о нём, о том, когда Маркош сдастся, начал понемногу осознавать смысл, содержащийся во фразе: «Возлюби врага своего». Преодолеть позывы ненависти, накатывавшие мощными вспышками, оказалось непросто. Однако Бартоло не сдавался. Поняв, где именно находится ключ к победе, он приучил себя радоваться всякий раз, когда Маркош встаёт, чтобы помочиться, а также испытывать удовольствие, выслушивая его храп. В конечном итоге, это помогло.
Поначалу юноши были необщительны: их местре находились в неприязненных отношениях, да и сами соревнования не способствовали разговорам. Однако человеческая природа постепенно взяла своё: они начали с обмена мнениями по поводу удовлетворения своих насущных нужд, а потом, сами того не заметив, постепенно перешли к долгим беседам, помогавшим скоротать время.
Маркош оказался третьим ребёнком в многодетной семье – у него было девять братьев и сестёр. Он жил в фавеле Росинья, в лачуге, лишь едва немногим лучшей, чем их тюрьма. Жизнь в фавеле была дешева, и кариоки часто с ней расставались – правительство даже не знало толком, сколько именно народу живёт в тамошних «кварталах». Всем заправляли наркоторговцы и сутенёры, отбиравшие пополнение в свои преступные группировки ещё в юном возрасте. Маркош отзывался о них с нескрываемым страхом – чувствовалось, что в Росинье это подлинная власть. Он дрался на улицах едва ли не каждый день, пару раз даже нюхал кокаин, а уголовные «боссы» относились к нему хорошо.
Бартоло полагал, что Маркош, пожалуй, типичный кариока и таким и должен быть тот, кто занимается капоэйрой.
Неожиданно на третий день заключения им запретили говорить вообще. Это было коварным ходом со стороны баба-кекерэ, ведь между юношами возникла прочная, невидимая связь. Бартоло сжал зубы и молчал; точно так же поступил Маркош, хотя в глазах его отразилась печаль.
Ночью Бартоло проснулся от звуков чьего-то голоса. Маркош, свернувшийся калачиком спиной к нему, говорил во сне. Невнятное бормотание то и дело прерывалось стонами и вскрикиваниями. Бартоло молчал. По какой-то странной случайности рядом не было никого, кто бы уличил Маркоша в нарушении правил, а сам Бартоло не знал, не покарают ли его самого за нарушение навязанного обета молчания. Закусив губу, он задумался: а не является ли это спланированной загодя уловкой, хитростью со стороны соперника?
После недолгих размышлений и колебаний, Бартоло решил ничего не предпринимать. Маркош бредит, и скоро, не позже следующего дня, покинет хижину, ставшую для них местом заточения. Уловив ритм дыхания и стонов, вырывающихся изо рта Маркоша, словно речь шла об игре беримбау, Бартоло представил, что делает джингу; вскоре он уснул. Ему снились просторы африканской саванны, по которым бродили стада слонов и стаи гиен, изредка распугиваемые львиным рёвом.
Он и сам не помнил, как впал в беспокойное забытьё. Его груди, плеч и живота касались чьи-то руки, шептали ему непонятные слова на языке йоруба – пока его пересохшая кожа не ощутила, что по ней скользит холодное, как жало ядовитой змеи, острие ножа. Боль, внезапная, но вместе с тем почти ожидаемая, принесла ему и мучительное страдание, и некое необъяснимое ощущение радости одновременно. Бартоло, охваченный священной агонией, застонал.
– Тебя поранил леопард. Ты чувствуешь его когти? – голос этот, принадлежащий, должно быть, баба-кекерэ, напомнил Бартоло, что кроме него и его сладостной боли, в этом мире существует ещё кто-то. Кто-то с рычащим и фыркающим, как у хищника, голосом.
– Да, чувствую. – Распухший язык Бартоло едва шевелился во рту.
– Леопард отметил тебя, и отныне ты всегда будешь частью его рода. – То, что казалось когтями животного, а на деле было железным тройным крюком, на сей раз вошло в его тело с противоположной, правой стороны, и двинулось вниз, разрывая кожу и мясо. Бартоло, не в силах преодолеть боль, отдался ей до конца, превратившись в сплошную, вибрирующую единственной нотой, струну.
– Когда сила леопарда войдёт в тебя, ты станешь непобедим. Твои враги, сколь бы сильны они ни были, побегут в страхе и смятении. Те, кто станут на твоём пути, будут повержены. – Бартоло ни на миг не усомнился в этих словах, потому что именно так всё и было. – И когда леопард выйдет на охоту, ты исполнишь его волю.
Бартоло, в голове у которого мелькали картины, наполненные убийством и кровью, молчал. Более всего в этот момент ему хотелось заполучить когти, которые даровали бы способность причинять боль и увечья, сеять смерть. Ужас и хаос должны сопровождать его.
6
Когда Эрнест вернулся с запечатанными в крупный конверт негативами и фотографиями, Хосе, приветствовал его хмурым кивком головы. Венгр бросил любопытный взгляд на полупустую уже бутылку кашасы и хмыкнул.
– Ты мог бы смешивать его с колой. – Эрнест приблизился к холодильнику и, пошарив внутри, извлёк запотевшую пластиковую бутылку. – Этот коктейль изобрёл Орсон Уэллс, когда у него здесь был запой с приступами безумия.
На кухню вошла Алиса Тарсила и уселась Хосе на колени.
– Может, душевное равновесие покинуло Орсона именно по причине употребления этого пойла? – Спросив так, она посмотрела своему возлюбленному в глаза и начала шаловливо сосать палец.
Эрнеста это более чем здравое предположение ничуть не смутило.
– В любом случае, получится напиток, сочетающий качества горячительного и прохладительного. – Он наполнил стакан и опрокинул его. – И весьма недурного на вкус. Выпейте.
Хосе отказался, в то время как Алиса Тарсила позволила себя уговорить. С видимым неудовольствием он наблюдал, как девушка касается пальцев Эрнеста, принимая у него стакан. Подавив приступ ревности, Хосе, не скрывая раздражения, поинтересовался содержимым конверта.