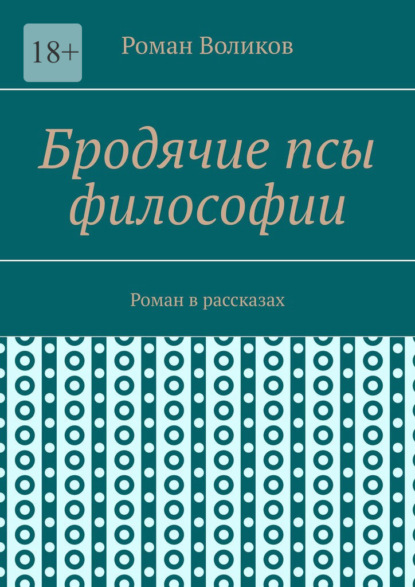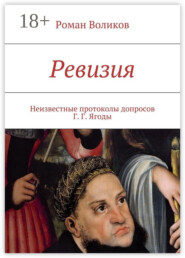По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бродячие псы философии. Роман в рассказах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В июле семнадцатого, незадолго до корниловского мятежа, меня осенило: ту трагическую ошибку, которую совершили русские люди в конце Смутного Времени, выбрав на всенародном соборе царём дурака, повторить преступно. Не важно, состоится Учредительное Собрание или нет, важно иное – кто возглавит страну, кто тот лидер, который встряхнёт Россию и начнёт делать цивилизованное государство.
Я смотрел по сторонам. Кто? Башкироподобный генерал Лавр, искренне полагавший главным лекарством казачью нагайку? Думские депутаты, трудовики, октябристы, лицедеи и шарлатаны? Террористы эсеры, членом партии которых я некоторое время состоял? Кто? Ни одного достойного лица.
С Лениным я не был знаком. Разумеется, мы из одного города, наши отцы преподавали в одной гимназии. Но знакомы не были, и никогда не возникало желания познакомиться. Я читал некоторые ленинские статьи, они не произвели на меня ни малейшего впечатления.
Вот тогда я обратил внимание на Троцкого. Возглавляемый им Петроградский Совет был в революционные дни реальной силой, не менее реальной, чем наше Временное правительство. Троцкий был холодный и упрямый. Совсем не будучи пролетарием, он управлялся со своим рабоче-солдатским сбродом куда лучше, чем я с высокообразованным и сплошь интеллигентским правительством. Упырь – я его так определил, когда увидел первый раз в Таврическом Дворце. Упырь, ненасытный, жадный, фанатичный в своей последовательности.
Троцкий сидел на широком низком подоконнике, я стоял рядом. Мы оба смотрели в дворцовое окно. Были изумительные белые ночи. Вы можете мне не верить, доктор, но между нами действительно происходил безмолвный диалог.
– Еврей никогда не станет правителем России.
– Знаю. Для этого у нас существует Ульянов.
– Не лучший выбор.
– У нас нет выбора. Ульянов основал партию. И он не так стар, как Плеханов. И в отличие от Плеханова, он – практик.
– Он заставит вас таскать каштаны из огня, а потом бросит на съедение шакалам. Не доживёте до торжества коммунизма на земле.
Троцкий молча посмотрел мне в глаза.
– Верные люди донесли: Корнилов готов выступать на Петроград. Вас сметут, пукнуть не успеете.
– Я вызвал надёжные части с фронта.
– Ой, ли! Вы преувеличиваете свою популярность в войсках, господин Керенский. Никто вас не защитит, кроме этого бабского батальона, что расквартирован в Зимнем.
– Сметут меня, следующий на очереди Вы.
– Не понимаю, чем Керенский лучше Ульянова.
– Ульянов слишком хорошо Вас знает. Я же не знаю вовсе. Мы оба уже прыгнули в пропасть. Прекрасная возможность подружиться.
Больше с Троцким мы никогда не встречались. Никогда в жизни. Между нами установился бессловесный, определенного рода телепатический контакт. Я дал негласное указание вооружить красногвардейские отряды. Именно они подавили корниловский мятеж. Троцкий был прав, моя популярность в армии являлась сильным преувеличением. Господа генералы ненавидели меня, вернее, в моем лице эту новую, неумолимо наступавшую жизнь. Это можно понять, в их среде пределом вольнодумства была конституционная монархия на английский манер. Смешно, декабристская фантазия в стране с поголовно неграмотным населением. В том огромном списке идиотских решений, которые мне приписываются, особенно любят издеваться над моим приказом о выборности командиров. На эту тему написана целая библиотека. И каждый автор, вне зависимости от цвета, указывает, что этот приказ дезорганизовал армию и фактически привёл большевиков к власти. Да, именно так и было. Но почему-то никто до сих пор не написал, что если бы я не создал анархию в армии, полки, проникнутые царским духом, растоптали бы революцию в самом её зародыше.
Я – первый. Троцкий – второй. До появления на сцене более достойных лиц. Так, во всяком случае, думал я. О чём думал Троцкий? Сейчас я понимаю, что он вообще не думал о будущем. Как фанатик идеи перманентности, бесконечного движения, он не верит в будущее, для него будущее это смерть. Для него есть только hic et nunc, только текущий момент, и ради этого момента он готов дружить и с чёртом, и с ладаном.
Двадцатый век, доктор, начался с крушения платоновского мира идей, Троцкий наглядное тому подтверждение. Он будет делать то, что удовлетворяет его тщеславие, а противоречит это его убеждениям или нет, не столь важно.
Мы оба летели в пропасть, я ожидал бархатную подушку, Троцкий не сомневался, что вместо подушки будут острые камни.
К двадцатым числам октября большевики контролировали почти весь Петроград. Не помню, в какой из дней мне доложили, что известно местонахождение Ленина и положили на подпись приказ об его аресте. Я не подписал. Я велел изъять и уничтожить тираж газеты, где большевик Каменев опубликовал подробный план вооружённого восстания. Я упрямо делал вид, что ничего не замечаю. Я был уверен, что Троцкий понимает меня. Утром двадцать пятого октября я вскользь заметил прогуливающемуся по коридору Зимнего коменданту Петрограда генералу Здановичу: «Вы знаете, генерал, что у нас вооружённое восстание?» Тот посмотрел на меня как на умалишённого.
Я сидел в царском приват-кабинете и ждал звонка Троцкого. На столе лежал томик Чехова, бутылка коньяка была отпита наполовину, моя тогдашняя суточная норма. Я подумал о том, что уходя в революцию, не дочитал новый сборник Зинаиды Гиппиус. Уже по первым стихотворениям было понятно, что это шедевр.
«Жаль, что не успел», – подумал я. Раздался телефонный звонок.
– Александр Фёдорович! – голос телефонистки заглушался скрежетом и рёвом эпохи. – Александр Фёдорович! Я вас умоляю. Немедленно уезжайте из Зимнего.
– Кто вы? – спросил я.
– Я Лиза. Лиза Колокольникова. Я служу стенографисткой в Петроградском Совете. Я вас умоляю, бегите. Дыбенко едет арестовать Вас.
– Кто такой Дыбенко? – сказал я.
– Это матрос. Дурной человек. Он убьет Вас. У него приказ военного совета.
– Кто подписал приказ?
– Все, – сказала Лиза. – Ленин и все остальные. Они всегда подписываются все. Уезжайте, у Вас очень мало времени.
– Троцкий тоже подписал?
– Да, – сказала Лиза. – Троцкий предложил арестовать Вас в первую очередь, чтобы потом судить.
– Спасибо, барышня! – сказал я. – Помолитесь когда-нибудь за меня.
Доктор, мне девяносто лет. Я пережил всех, врагов, недругов, завистников, хулителей, Ленина, Троцкого, Николая Второго, Сталина, Черчилля, всех, кого я знал лично и многих из тех, кто слышал обо мне. Свою единственную любовь я похоронил в сорок шестом году в Австралии, её звали Лидия Триттен. Если я продолжу жить, то с высокой степенью вероятности доживу до крушения коммунизма в России. У меня есть ощущение, что пресловутая идея Троцкого о бесконечном движении воплотилась в моей жизни. Я не вижу конца. Я решил установить его сам.
Поэтому сейчас Вы отключите аппарат, который поддерживает мою жизнь, сделаете это аккуратно, чтобы не вызвать подозрений в вашей врачебной этике и тихо выйдете из палаты. Вы вернётесь через час, убедитесь в отсутствии жизни, сделаете соответствующую запись в медицинском журнале и гордо сообщите: – Я последний человек, который разговаривал с Фёдоровной.
О, РИО-РИТА
В субботу 19 июля 1941 года лейтенант Кузовкин прогуливался по парку Сокольники в ожидании Риты Пчелинцевой. Кузовкин явился на свидание заранее, ровно в семнадцать ноль ноль, и маялся от безделья в предвкушении романтической встречи.
Погода выдалась солнечная, прекрасная, по лицам неспешно гуляющих парочек и мамаш с грудными детьми совершенно не чувствовалось, что проклятый враг второй месяц топчет советскую Родину и объявлена всеобщая мобилизация.
Кузовкин купил у мороженщицы вафельный «кругляшок» и стакан ситро. Продавщица, приятная женщина с формами, бросила на него быстрый лукавый взгляд. Кузовкин гордо расправил плечи и достал из кармана галифе пачку «Казбека».
– Товарищ военный, здесь курить нельзя! – томным голосом произнесла мороженщица.
– Есть! – Кузовкин приложил ладонь к пилотке и бодрым шагом направился к лавочке.
«До чего жизнь хороша! – он взглянул на наручные часы. – Мадемуазель должна прибыть через полчаса. Если не опоздает, конечно».
Лейтенант Кузовкин был не вполне окончательный. Выпуститься из артиллерийского училища он должен был в сорок третьем, но случилась война и весь их курс срочным порядком подготовили к отправке на фронт. Позавчера выдали лейтенантскую форму и построили в актовом зале:
– Поздравляю, товарищи офицеры! – гаркнул добродушный усатый подполковник Сыпаренко, начальник училища, до невероятности похожий на маршала Семёна Михайловича Будённого. До назначения в Москву Сыпаренко служил на родной Харьковщине, характером отличался незлопамятным, за что получил от благодарных курсантов ласковое прозвище «наш Сёма». – Через неделю на фронт. Не посрамим чести училища. Позади Москва, отступать некуда. Ура, товарищи! Родным, близким и знакомым ни слова. Военная тайна!
– Ура-а-а-а! – рявкнули в ответ сто двадцать румяных физиономий.
Признаться откровенно, лейтенант Кузовкин не слишком стремился воевать. Он и в училище поступил скорей по настоянию матери, чем по велению сердца. «В армии всегда сытно, – сказала мать, будто отрезала ломоть хлеба. – Мне ещё двоих поднимать. Отец покойник одобрил бы».
Отец Кузовкина, начальник смены на заводе «Компрессор» погиб восемь лет назад в результате аварии. Кузовкин был школьником, а младший брат и сестрёнка пешком под стол ходили.
– В работяги не пойдёшь, – сказала мать. – Не из таких мы, чтобы с гегемоном за одним столом щи хлебать.
С происхождением у Кузовкина действительно имелись некоторые затруднения. То есть по отцовской линии всё было правильно. Дед из курских крестьян, после Освобождения подался в Москву и устроился подсобником на завод Дангауэра. На этом же заводе, переименованным в «Компрессор», начался трудовой путь и отца Кузовкина, поднявшегося от простого слесаря до начальника смены.