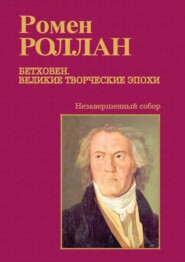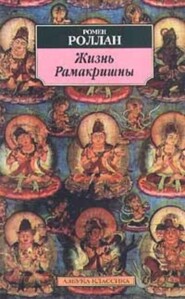По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Питан! Мне известно, о чем ты писал моей тетке.
– А! – отозвался старик.
И не прибавил ни слова.
Марк глотнул слюну.
– Ты жертвовал собой ради нас. Ты великодушен.
– Не так великодушен, как твоя мать.
– А чем она рисковала?
– Она не сказала тебе?
– Нет.
– Но ведь ты же не хочешь, чтобы я сказал это за нее?
– Нет…
Марка разбирала досада, но Питан был прав. Они все шагали и шагали.
Марк с усилием выговорил:
– Я хотел бы знать по крайней мере… Ей еще угрожает опасность?
– В данную минуту – не думаю. Но в наше время, когда кругом столько трусов, столько зверья, такая женщина, как она, смелая, прямая, всегда рискует.
– И этому нельзя помешать?
– Зачем мешать? Надо, напротив, помогать ей.
– Но как?
– Рискуя вместе с ней.
Марк не мог сказать ему:
«Рисковать – да. Но как это сделать, если я ровно ничего не знаю о ней, если она не посвящает меня в свои опасные тайны?»
Он еще преувеличивал горькое чувство отчуждения. Он говорил себе:
«Из всех, из всех людей она меньше всего верит мне».
Питан, не слыша ответа, не правильно истолковал его молчание. Он сказал:
– Мой мальчик! Ты вправе гордиться своей матерью.
Марк, разозлившись, кликнул:
– Ты думаешь, я дожидался твоего разрешения?
Он повернулся к нему спиной и ушел, сердито размахивая руками.
Аннета, почувствовав, что с плеч ее скатилось тяжелое бремя, опять спокойно, тихо зажила в своем доме. Казалось, ни бесконечная война, ни смятение окружающих не трогали ее. Она приобщилась к их опасностям, но не считала себя обязанной приобщаться к их взглядам. Дела у нее было достаточно. Как ни зорок был взгляд Сильвии, смотревшей в ее отсутствие за Марком, есть множество мелких, но важных подробностей, которые только глаз матери подмечает во всем, что касается ее ребенка, в состоянии его здоровья, в костюме. Она осматривала его белье, одежду и лукаво улыбалась, находя непорядки, ускользнувшие от бдительного ока Сильвии. Немало труда пришлось ей затратить на уборку квартиры, где в продолжение двух лет хозяйничала только моль. Сильвия всегда заставала сестру за шитьем или уборкой. Вечерами они подолгу беседовали. Но Марк, работавший в смежной комнате, наблюдал за ними через открытую дверь; поглядывая на них глазом цыпленка, который умеет смотреть вбок, он не находил в этих речах ни одного зернышка, которое можно было бы клюнуть: обо всем личном, задушевном было уже переговорено; теперь сестры толковали о самых будничных вещах, злободневных происшествиях, о всяком женском вздоре, тряпках, ценах на продукты… Выйдя из терпения, он закрывал дверь. Как они могли целыми часами пережевывать эти пустяки? Сильвия – еще куда ни шло! Но она, эта женщина, его мать – она, которая только что рисковала жизнью и, быть может, завтра снова поставит ее на карту, она, чьи опасные тайны он смутно угадывал, хотя не мог разгадать вполне, – она выказывала не меньше интереса к этим пустякам – ценам на хлеб, нехватке масла и сахара, – чем к своему тайному миру (который она утаивала от него лишь наполовину)! Он уловил своим ревнивым взглядом огонек, лучившийся внутри светильника. Сама Аннета, быть может, не видела его. Но говорила она или молчала, он безмолвно бросал на нее свет…
«Молчит, но говорит.»
Светильник бесшумно горел: среди дня его не замечали. Но соколенок неотрывно смотрел на безмолвное свечение, мерцавшее за алебастровым экраном… Откуда шли эти лучи? И для кого они сияли?..
Другая душа, ночная, тоже заметила этот огонек светлячка, сиявший в траве, и потянулась к нему…
Урсула Бернарден, столкнувшись на лестнице с рассеянной Аннетой, робко остановила ее и, коснувшись ее руки, шепнула:
– Извините… Нельзя ли мне как-нибудь прийти поговорить с вами?
Аннета очень удивилась. Она знала, как застенчивы молодые девушки, сестры Бернарден, и заметила, что они старательно уклоняются от встреч с ней. Хотя лестница была плохо освещена, она увидела краску на смущенном лице соседки; рука в перчатке, лежавшая на локте Аннеты, дрожала.
– Хоть сейчас! Идемте! – решительно сказала Аннета.
Оробевшая девушка заколебалась, предложила отложить свидание до другого раза. Но Аннета взяла ее за руку и потащила за собой.
– Мы будем одни. Входите.
В комнате Аннеты Урсула Бернарден остановилась, с трудом перевела дыхание, вся как-то съежилась.
– Мы слишком быстро бежали? Извините, я всегда забываю… Когда я поднимаюсь, то всегда бегом, я беру лестницу приступом… Садитесь!..
Нет, здесь, в этом углу, против света, здесь нам – будет лучше. Отдышитесь! Успокойтесь! Как вы запыхались!
Аннета смотрела на нее с улыбкой, пытаясь успокоить девушку, которая сидела в принужденной позе, застыв от переполнявшего ее смущения; ее грудь тяжело поднималась вместе с туго натянутой тканью платья. Аннета впервые присмотрелась к этому лицу, к этому телу, созданным для жизни на деревенском просторе, увядшим от заточения в четырех стенах городского жилища. У нее были грубоватые черты лица, тяжелые формы, но в деревне, в усадьбе ее легко можно было вообразить себе жизнерадостной и деятельной среди детей и домашних животных; это славное, юное лицо было бы приятным, будь оно здоровым, смеющимся, озабоченным, загорелым, под теплой испариной, покрывающей лоб и щеки при свете летнего солнца… Но смех и солнце были на запоре. Кровь отлила. И потому особенно бросался в глаза курносый нос, толстые губы, неуклюжее, рыхлое, съежившееся тело, которое боялось двигаться, боялось дышать.
Видя, что Урсула не решается заговорить, Аннета, чтобы дать ей время справиться с волнением, задала ей два-три дружеских вопроса. Урсула отвечала невпопад, смущалась, не находила слов. Ее мысли были далеко. Ей хотелось поговорить о чем-то другом, но она боялась и думать об этом разговоре; она страдала, у нее было только одно желание:
«Боже мой, как бы мне убежать!»
Она поднялась:
– Умоляю вас… Позвольте мне уйти! Я не знаю, что это у не вдруг пришло в голову. Простите, я вас задерживаю!..
Аннета, рассмеявшись, взяла ее за руку:
– Да что вы! Успокойтесь! Куда вам торопиться?.. Неужели вы боитесь меня?
– Нет, извините, я лучше уйду… Я не могу говорить… Сегодня не могу.
– Ну и не говорите. Я ни о чем вас не спрашиваю… Прошу вас только остаться еще на несколько минут. Ведь вам захотелось навестить меня? Ну вот я и пользуюсь случаем. Нельзя же так: только вошли – и уже убегаете.