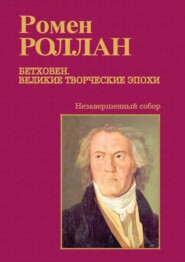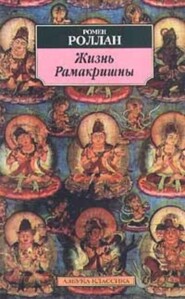По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы так давно живем с вами рядышком – и ни словом не перемолвились! Надолго я здесь не останусь. Я опять уеду. Дайте хоть спокойно на вас поглядеть! Да покажите же ваши глаза! Ведь я показываю вам свои. Что в них страшного?
Урсула, сконфуженная и расстроенная, мало-помалу успокаиваясь, начала неловко извиняться за свою застенчивость и невежливость; она сказала, что не забыла искреннего участия, которое Аннета выказала им в прошлом году, когда их постигло горе, – ее это растрогало, ей захотелось написать Аннете, но она не посмела. В их семье не любят завязывать знакомства с чужими.
Аннета ласково говорила:
– Конечно… Конечно… Я понимаю…
Урсула, понемногу смелея, перестала запинаться и, сделав над собой усилие, рассказала, как она страдала все четыре года от войны, ненависти, вражды. И хотя она не знает Аннеты, ей почему-то кажется, что ее новая приятельница тоже чужда всему этому…
(Аннета, не говоря ни слова, тихонько взяла ее за руку.).
…Но вокруг себя она не находит места, где бы ей легко дышалось. Даже ее родные – это очень добрые люди-все свои помыслы сосредоточили на мести (она поправилась), – нет, на беспощадной каре! Смерть несчастных сыновей озлобила их. Слово «мир» выводит их из себя. И больше всех кипит злобой ее сестра Жюстина, с которой она с детских лет живет в одной комнате; они всегда были откровенны Друг с другом. Каждый вечер перед сном она громко молится: «Боже, дева Мария, архангел Михаил, сотрите их с лица земли!..» От этого можно с ума сойти! А ей, Урсуле, еще надо прикидываться, будто она присоединяется к этим молитвам, иначе ее будут укорять за равнодушие к горю родных, к смерти двух братьев…
– Нет, я не равнодушна!.. Именно потому, что я несчастна, мне хочется, чтобы и другие не страдали…
Она неуклюже выражала трогательные мысли. Аннета, для которой они были не новы, соглашалась с ними, выражала их яснее. Каждое ее слово было отрадой для Урсулы; она молча слушала. И, наконец, доверчиво спросила:
– Вы христианка?
– Нет.
Этот ответ поразил Урсулу.
– Ах, боже мой!.. Значит, вы не можете меня понять!..
– Дитя мое, нет надобности быть христианкой, чтобы понимать и любить все человечное.
– Человечное!.. Этого недостаточно! Разве зло не человечно? А люди?..
Я боюсь их… Посмотрите, какие жестокости, какие ужасы они творят!..
Искупить их можно только кровью Христовой.
– Или нашей. Кровью любого человека-мужчины или женщины, – если он приносит себя в жертву другим.
– Если он делает это во имя Христа.
– Какое значение может иметь имя?
– Но если это имя бога?
– А какая цена богу, если он не живет в каждом из тех, кто приносит себя в жертву? Если бы хоть один из этих людей – я говорю: хотя бы один, – был вне бога, как узки были бы пределы этого бога! Человеческое сердце было бы шире.
– Нет, ничто не может быть шире бога. Все добро – в нем.
– Значит, достаточно одного добра.
– Кто мне укажет, в чем добро, если вы отнимете у меня бога?
– Дорогая! Ни за что на свете я не хотела бы отнять его у вас. Пусть он будет с вами! Я чту его в вас. Неужели вы думаете, что у меня есть желание поколебать вашу опору?
– Тогда скажите мне, что вы тоже верите в него.
– Дитя мое! Как же я скажу, что верю в то, чего не знаю? Ведь вы не хотите, чтобы я вам солгала?
– Нет. Но верьте, верьте, умоляю вас!
Аннета ласково улыбнулась.
– Я действую, дорогая. Мне нет надобности верть.
– Действовать – значит верить.
– Может быть. Тогда это мой способ верить.
– Действие, если оно не освещено светом Христовым, всегда может оказаться заблуждением или преступлением.
– И вы думаете, что Христос удержал верующих от заблуждений и преступлений? В эти четыре года?
– Ах, не говорите! Я знаю, знаю. Так мало истинных христиан! Это печальнее всего! Среди известных мне людей вряд ли насчитаешь и двоих. Это меня пугает, убивает! Ужас и горе обуревают меня. Ужас перед этой жизнью. Ужас перед этими людьми. Я хотела бы искупить их страдания. Я не могу больше оставаться среди них, я не умею действовать, как вы: всякое действие внушает мне страх. Я не создана для жизни в этом мире. Я хочу уйти. Я уйду, я удалюсь в монастырь кармелиток. Отец согласен, мать плачет, а сестра меня осуждает, но я не могу больше жить со своими: мне кажется, что они каждую минуту терзают Иисуса Христа!.. Боже мой, что я говорю? Не верьте мне, госпожа Ривьер!.. Они меня любят, и я их люблю, я не имею права судить их… Нет, не слушайте меня!.. Ах! Будь вы христианкой!..
Она закрыла лицо руками.
Аннета по-матерински утешала девушку, положив руку на ее склоненный затылок. Она говорила:
– Бедная крошка! Да, вы правы.
Урсула подняла голову:
– Вы не браните меня?
– Нет.
– Это хорошо, что я ухожу?
– Может быть, так для вас будет лучше.
– И вы не осуждаете меня за то, что я удаляюсь, вместо того, чтобы действовать, как вы?
– Это тоже действие. Каждый действует по-своему! Я не из тех, кто не допускает, что молитва – действие. Хорошо, что в некоторых душах еще цел священный огонь божественного созерцания: он открывает шлюзы на потоке крови, отделяющем нас от всего вечного. Вы будете молиться за нас, моя девочка, мы за вас – действовать! И, может быть, окажется, что мы с вами – слепой и паралитик!
Урсула склонилась и с благодарностью поцеловала ей руку. Аннета обняла ее. Проводила до двери. Урсула, вздохнув, сказала:
– Ах, зачем, зачем вы не христианка! Но в дверях прибавила:
– Вы христианка.
– Не думаю, – ответила Аннета улыбаясь.