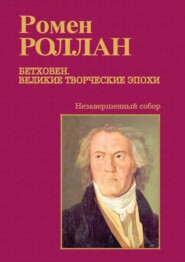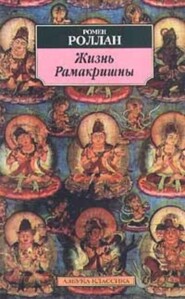По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для утоления голода она находила Ersatz'ы. Она утоляла им особый вид голода – голод духовный, приступы которого терзали ее по временам не менее жестоко. И, утоляя его, заглушала голод телесный. Она проводила целые часы под аркадами «Одеона» и читала неразрезанные книги, разложенные на лотках перед книжными лавками. Дули ледяные зимние ветры, и закутанные продавцы, от холода топавшие ногами, не мешали ей: они уже знали ее, – глядя на нее, им становилось теплее. Прочитав книгу, она снова вкладывала ее в бандероль и аккуратно клала на место. Но в рукаве у нее была спрятана шпилька, которой она разрезала страницы, когда продавец отворачивался. Так она прочитала от начала много книг, в том числе научных и несколько брошюр Маркса. За три года скитаний, гонимая Революцией, она слышала о Марксе лишь от яростных клеветников и представляла его в виде одной из семи голов дракона. Теперь она проводила целые дни за чтением Маркса, жадно глотая страницу за страницей. Она боялась стащить книгу, как таскала помидоры и картофель в мелочных лавочках. Голый парень, у постели которого она сидела сейчас в гостинице, и не подозревал, что именно ее поймал он однажды за руку у лотка на улице Комартен. Она не постеснялась бы стащить и нужную книгу, если бы не боялась, что не сможет подойти к кормушке книготорговца в другой раз. Она была способна вырвать одну или две страницы из книги, которую читала. Она принадлежала к тем опасным варварам (все женщины в большей или меньшей степени варвары), которые, стремясь овладеть какой-нибудь крупицей знания, способны повредить ценную книгу, взятую в библиотеке, – повредить, не колеблясь:
«А что ж тут такого? Книги на то и существуют, чтобы я их глотала…» Но ей надо было думать о провизии и на завтра – о крошках со стола книготорговца, и осторожность подсказывала ей обращаться с книгами, которые она перелистывала, не менее бережно, чем сам книгопродавец. Они оказывали друг Другу доверие.
Затем с пустым желудком и насытившимися мозгами она шла домой переваривать пищу. Чтобы заглушить резь в желудке, она сосала сухую корку и косточки от апельсина, съеденного накануне.
За два года этого режима героического голодания, нарушенного лишь несколькими случайными удачами, когда она наедалась досыта, Ася не только не умерла – она создала себе новую жизнь. Она была наделена загадочной гибкостью, свойственной славянам, которые в течение столетий учились все сносить и не умирать. И еще была у нее чудесная способность воскресать – дар избранных душ, (Когда я говорю: «душ», я говорю «тел»; есть тела, которых ни годы, ни сама смерть как будто не касаются – никакая рана, никакое пятно не оставляют на них следа; оболочка изнашивается, лопается и спадает, и появляется новая, свежая.) Женская душа – фильм. Души, точно образы, сменяют одна другую и движутся (вернее, их движут). Души нередко бывают чужими друг другу. Даже наиболее устойчивые натуры, даже такие, как Аннета, не раз наблюдали в самих себе это мелькание кадров. Но никогда еще у такой женщины, как Аннета, смены душ не происходили столь внезапно. Они вообще редко случались у женщин Запада. У Аси полное затмение царствующей души наступало в одну секунду: она забывала все. И возникала новая душа, новая воля. Ее это нисколько не удивляло – она мгновенно отождествляла себя с ними; они принадлежали ей, она принадлежала им в течение всего периода затмения. Потом она сразу, без всяких толчков и нисколько не удивляясь, обнаруживала у себя ту, первую, душу, которую скинула. Это была постоянная опасность. Но были здесь также уверенность и покой. Ибо первая душа возвращалась! (В этом можно было не сомневаться.) И за время затмения она набиралась и сил и свежести, – она точно восставала от крепкого сна…
Так, без связей, без места в жизни, без веры в бога, без иллюзий, без всего, что дает силу жить, Ася жила и не сдавалась. Каждое утро лук бывал туго натянут наново и готов к охоте. Жизненные испытания, как ни были они тяжки для тела и для души, не оставили у нее, однако, гноящихся ран на теле и не опустошили ее душу. Она была существом глубоко здоровым. Умом она все разрушала, все взрывала. Напрасно: инстинкт извлекал из-под развалин молодое будущее. Ее смелая до дерзости критика и дикарски здоровая натура, которая всегда шла прямо к цели, не блуждая по окольным путям, мало-помалу приблизили девушку к пониманию новой России.
Сперва она сама не отдавала себе в этом отчета. А потом подумала: «В чем дело? Я иду своей дорогой. Собаки – и те имеют право ходить по дороге!..» Когда она сталкивалась с теми, кто приезжал оттуда, – она встретила подругу по институту, вступившую в Коммунистическую партию и работавшую машинисткой в советском посольстве, – она сразу чувствовала родную землю, дух родины. Гордость побежденной не позволяла ей признать это. Но признавала она или не признавала, а факт остался фактом: эта эмигрантка видела и эмигрантов, и Запад, и весь моральный и социальный мир в целом глазами русской женщины из революционной России. Больше всего мешала ей примкнуть к революционной России ее индивидуалистическая гордыня, которая в изгнании и одиночестве разрослась еще сильнее. Сама жизнь наложила на нее этот неизгладимый отпечаток, но в глубине души ей страстно хотелось слиться со сплоченными человеческими массами России.
Отсюда приступы лихорадочной, гнетущей тоски по родине.
Отсюда и те дни, о которых я уже говорил, – дни, когда она лежала часами в полной прострации. Тут-то и начала мало-помалу просачиваться в ее сознание невидимая жизнь за перегородкой. Ася лежала в паралитической неподвижности, но сквозь щели ее обостренный слух заползал в комнату Марка, как щупальца исполинского насекомого. Ася исследовала эту комнату, обшаривала ее и постепенно воссоздавала в своем воображении и берлогу и самого зверя. А зверь, то есть Марк, обманутый нерушимой тишиной в соседней комнате, не подозревал, что прощупываются все его движения, и давал себе волю. Безглазые, но цепкие щупальца обшаривали его сверху донизу. Марк всегда находился в возбужденном состоянии и говорил вслух сам с собой не только во сне. Когда он полагал, что никто его не слышит, он не сдерживал своего кипения. В такие минуты у него вырывались обращенные к кому-то слова – слова, полные ненависти, обрывки фраз возникали из темноты, как гребни волн, сверкающие на солнце (то была беседа Иакова с ангелом). Настороженный слух нырял, как чайка, в солнечную пену слов и проникал в глубину души. Сначала Ася прислушивалась лишь к тембру голоса и представляла себе губы, как по запаху можно себе представить плод. Потом она в темноте пыталась представить себе все тело. Она обнюхивала его. Не по влечению, а в силу животного инстинкта самки и от безделья.
Наконец изучение было закончено. Существо, жившее рядом, она уже знала по запаху, вкусу и слуху. Тогда у нее появилось желание рассмотреть не спеша, de visu,[120 - Собственными глазами (лат.).] тот образ, который она себе создала. Она его не искала, но однажды вечером встретила его на лестнице и постаралась остаться незамеченной. Она его увидела и сразу узнала приказчика с улицы Комартен, который уличил ее в краже; она вспомнила волчью яму, в которую попала, и руку, которая ее выпустила. (В эту минуту, склонившись над изголовьем Марка, который горел в лихорадке, она смотрела на эту руку, красивую, молодую руку с длинными пальцами, которые тогда держали ее, как в тисках, и ласково погладила ее.) Что касается всего остального, то реальный образ не показался ей очень далеким от того, какой она себе создала. В таких случаях реальное мгновенно подменяет воображаемое и воображение не может себе представить, что когда-нибудь видело его иным.
Во всяком случае, с этого дня сосед заинтересовал се еще больше, и она стала следить за его судьбой еще более напряженным взором, вернее слухом. Ее поражала серьезность этой юной натуры, а собственный опыт помог ей увидеть все сокровенные закоулки этого нечеловеческого одиночества, подобного ее одиночеству, и все страдания, которым сопротивлялась стоическая гордость Марка. Теперь, когда она порой заставляла себя не спать, чтобы во сне не выдавать своих тайн, она следила за тайнами чужого сна и за приливами все усиливавшейся горячки. Она видела, что неотвратимый недуг надвигается на молодое существо, что он кружит над ним, как коршун, и круги становятся все уже. Она знала, что настанет час, когда ей надо будет вмешаться.
Час настал. Она пришла.
Она видела много болезней в жестокие времена исхода, когда ее кружило в водовороте разгромленной и бегущей армии; много приходилось ей ухаживать за ранеными, часто пользовалась она средствами, которые предоставлял счастливый случай, вернее – случай несчастный, случай самый гнусный; знала она все горести и весь стыд изувеченных тел, – никакое страдание уже не могло застать ее врасплох. Она не сочла нужным пригласить врача.
Она решила, что справится сама. Марк с таким же успехом выздоровеет либо умрет у нее на руках, как и на руках доктора. Она судила о других по себе, и пришла к мысли, что надо прежде всего уберечь его от больницы, а больница – первое, что предписал бы врач… Нет, уж если умирать, то в одиночку. Это последняя роскошь.
Она применила сильнодействующие отвлекающие средства: горчичники к бедрам и лед на голову. Она ухаживала за Марком, кормила его, умывала.
Ничто не вызывало в ней брезгливости. Комната была грязная, воздух спертый. Окно выходило во двор и упиралось в стену. Изъеденная проказой стена стояла так близко, что если высунуться из окна, можно было дотронуться до нее рукой. В угловой комнате, где жила Ася, окно выходило на улицу. Ася открыла – взломала дверь, которая соединяла обе комнаты, и перенесла больного к себе. Он был выше ростом. Его длинные, худые ноги свешивались, одна рука волочилась по земле. Он был похож на молодого Христа, тело которого полагают во гроб. Ася несла его, согнувшись, широко расставив сильные ноги, выпятив нижнюю губу, стиснув зубы, нахмурив брови и не сводя строгих глаз с доверившегося ей тела. Что-то материнское проснулось в ее пустой груди, в которой, после того как от нее оторвали ротик убитого ребенка, иссякло молоко человеческой нежности. Пересохший родник оживал. Больной был в беспамятстве; она уложила его на свою постель. Ночью, в минуту проблеска сознания, он открыл глаза и, как утопающий, позвал: «Мама!» Он увидел, что находится в чужой комнате и над ним склонились красивые уста, от которых исходило утешение. Уста сказали ему с жалостью: «Да, мой мальчик…» – и поцеловали его в сухие губы.
Она убрала оставленную комнату. В течение нескольких недель, предшествовавших болезни Марка, там набралось много грязи, по всем углам валялись клочки бумаги. Во время своих ночных дежурств она подобрала их и привела в порядок. Среди них оказалось много писем. Ася их прочла. Человек, лежавший в ее постели, был ее добычей, – пусть кратковременной, но ведь принимается во внимание только настоящая минута; что было раньше и что будет после – это не имеет значения. Все, что принадлежало пленнику, составляло часть добычи.
Много писем было от «мамы». Из твердого, четкого почерка, который летел вперед, как птица, знающая свой путь, – широкими и правильными взмахами крыльев, – возникал и запечатлевался в глубине Асиных глаз страстный образ Аннеты. С каждой страницей, которую переворачивали пальцы захватчицы, гордый и нежный образ этот становился все яснее. Вскоре обе женщины стояли лицом к лицу и мерили друг друга взглядом. Они ничего друг другу не сказали. Ася сложила письма и начала обнюхивать незнакомку. Она взвешивала силу ее любви и ее силу боевую – силу жизненную. В этом-то она разбиралась. И она не ошиблась. Человек, лежавший в комнате рядом, становился ей дороже потому, что происходил от этой женщины…
По письмам матери Ася представляла себе письма сына. Она проникала в самые укромные уголки этого мрачного, вечно боровшегося сердца, старалась уяснить себе порывы ярости, которые вызывали в нем весь мир и он сам, его врожденную чистоту и грязь его повседневной жизни, от которой его самого тошнило, его слабости и его поражения, которые делали его более близким ей, более человечным… И его полную откровенность с матерью, которая с чисто мужским пониманием раскрывала человеку его сущность и успокаивала его. У Аси шевельнулось ревнивое чувство к этой женщине… И это было для нее первым признаком того, что она полюбила.
Она поняла этот знак. От нее не ускользнуло ничто из того, что скрытная, замкнутая натура девушки пыталась утаить от нее самой. Она пожала плечами. Стоя перед кроватью, она смотрела на Марка. Болезнь все еще держала его в тисках. Несмотря на заботливый уход, ему становилось не лучше, а хуже. Грозила роковая развязка. Рука Аси погладила пылающий лоб, затем, под одеялом, осторожным движением сжала ноги. Подумав, Ася бросила взгляд на письма, лежавшие на столе, вышла из дома и послала матери телеграмму.
Аннета находилась с Тимоном в Англии. Когда ей подали краткую и беспощадную телеграмму без подписи, она зашаталась. Тимон взял у нее из рук листок, прочитал. (У нее не было сил говорить.) И этот суровый человек, который и бровью не повел бы, если бы на его глазах погибал целый народ, проявил неожиданную доброту. Аннета растерялась; она набросила на плечи пальто и хотела бежать на ближайший вокзал, забыв все – деньги, паспорт, вещи. Он удержал ее и заботливо усадил.
– Полно, дружок! Не теряй голову! Соберись в дорогу, но спокойно! Не пройдет и четырех часов, как ты увидишь своего мальчика.
Он позвонил на аэродром и распорядился немедленно подготовить к вылету его аэроплан. Он проводил Аннету в автомобиле. По дороге он ее успокаивал с грубым добродушием, которое не успокаивало ее, но трогало.
Расставаясь, он был взволнован, хотя и старался не показывать этого.
– Ты его спасешь! – убеждал он. – Но потом возвращайся! Продержусь ли я до тех пор?
– Тебе-то ничто не грозит… – сказала она (его слова испугали ее, но страх был отдаленный, она думала о другом).
– Я сам себе буду грозить… – возразил он, – как только останусь один. Ты это отлично знаешь. Если бы не ты, разве я бы продержался до сегодняшнего дня?
Заметив, что мысли Аннеты уже далеко, он сказал:
– Ну, спасибо тебе! Ты сделала больше, чем я мог ждать. И не вспоминай ни о чем, что пачкало меня в твоих глазах.
– Я помню только нашу дружбу. У нее всегда были чистые руки.
– Ну так дай же мне твои руки! Они обменялись рукопожатьем… Загудел мотор. Она взглянула на Тимона: лицо атлета, над которым скульптор работал не резцом, а кулаками, с печатью грубых страстей (и благородных и низменных), с бычьим лбом и тяжелыми глазами, упорный взгляд которых впитывал в себя ее образ, как губка. Она приблизила к нему свое лицо и сказала:
– Давай поцелуемся! Дверь комнаты была открыта. Асю нисколько не тревожило, что кто-нибудь может войти. У нее нечего было украсть. Соседей она не ставила ни во что. Но когда вошла мать (она узнала ее с первого взгляда), Ася была удивлена: она не ждала ее так скоро. Они не обменялись ни единым словом. Аннета прошла прямо к постели, даже не сняв пальто, и бросилась к сыну. Но так, как умеет это делать только мать: она обняла его страстно и вместе с тем так нежно, что прикосновение ее было похоже на легкий ветерок, который ласкает выгоревшую траву на лугу.
Пылавшее в огне тело больного почувствовало облегчение. Губы зашевелились. Он вздохнул. Аннета приподняла его горячую голову, а затем снова бережно положила на подушку. Обернувшись, чтобы снять пальто, она увидела женщину, которая продолжала стоять, полная решимости не уступать своего места. Скрестились быстрые, прямые и суровые взгляды. Аннета спросила:
– Это вы телеграфировали мне? Ася, не шевельнувшись, ответила:
– Да, я.
Аннета протянула ей руку. Ася пожала ее. В обеих руках не было теплоты. Они заключали договор. Аннета вошла в соседнюю комнату, жестом предложив Асе следовать за ней, и попросила:
– Расскажите! Конечно, у матери свои права. Но они столкнулись с правами, которые присвоила себе Ася. И Асю возмутило то бессознательно повелительное, что было в этом голосе и жесте. Последовало несколько секунд немой схватки между двумя волевыми женщинами. Они, пожалуй, сами не отдавали себе в этом отчета, но каждая напряглась, как лошадь, у которой крепко натянули поводья. Затем одна из лошадей сдалась. Ася заговорила.
Она кратко описала ход болезни. Она не сказала, какие у нее отношения с Марком. Но ей доставило смутное удовольствие сообщить этой женщине, что ее сына она уложила в свою постель. Покуда она говорила, Аннета быстрым взглядом окинула обе комнаты. Она не сомневалась, что эта женщина-любовница Марка. Аннета была свободна от предрассудков, и Ася тотчас перестала быть для нее чужой. Аннета вдруг начала держать себя с ней менее натянуто. Ася не понимала, в чем дело. Строгие глаза, смотревшие на нее, смягчились, а она продолжала держаться холодно, замкнуто.
Обе не старались сейчас лучше понять друг друга. Надо было спасать человека. И ради этого они объединились. Каждая решила обменяться с другой своим опытом. Аннету поразила уверенность Аси. Ася все делала с холодной точностью, быстро, не задумываясь. Ни одного лишнего движения. В присутствии матери она действовала так, словно была здесь одна, нисколько не стесняясь. Она обращалась с этим жалким и беспомощным телом, точно санитар, который смотрит на больного как на свою собственность.
Аннета была шокирована и вместе с тем пленена. То, что делала Ася, казалось ей бесчеловечным, но она не могла не видеть, что это правильно и полезно. Она чувствовала ее превосходство и невольно покорялась ей, когда та кратко, отрывисто приказывала:
– Подержите ногу! Поднимите ему поясницу! Да вы что, не видите?
Аннета тоже умела ухаживать за больными (какая женщина в Европе не научилась этому за годы войны?), но руки выдавали ее волнение, когда они прикасались к сыну. Она восхищалась бесстрастной точностью всех движений Аси. Эта бесстрастность тем более удивляла ее, что она очень скоро заметила, какие страсти и какая неистовая сила наложили свой отпечаток на лицо Аси. Благодаря вспышкам молнии, которые по этому лицу пробегали, Аннета поняла лучше, чем сама Ася, и прежде, чем признала это сама Ася, что молодая женщина завладела ее сыном.
Они поделили между собой ночные дежурства. Каждая по очереди сидела у постели Марка, а затем отдыхала. Ася не спала все предшествующие ночи и сразу свалилась, как мертвая. У Аннеты было время о многом подумать, покуда она прислушивалась к лихорадочному дыханию двух существ. Одно дышало неровно и прерывисто, другое – торопливо и шумно: так ест человек, который спешит поскорее съесть свою порцию. И действительно, едва настало время смениться, Ася мгновенно проснулась. Она пришла занять место у изголовья Марка и заставила Аннету лечь в постель, еще теплую после ее сна, полного бредовых видений.
Прошло несколько тревожных дней – и к Марку вернулось сознание. Еще затуманенные глаза его просветлели и остановились на нежном лице матери.
Он улыбнулся, и для нее это была радость. Но его взгляд ощупывал все, что было вокруг, и встретил за спиной Аннеты нахмуренные брови и сверкающие глаза Аси. Взгляд застыл, удивленный, вопрошающий, и старался разобраться. Он вернулся к глазам матери, и она прочла в них недоумение.
Ася стояла за ее спиной и молчала… Стало быть, они даже не знают друг друга? Аннета молча наблюдала. Недоверчивая замкнутость Аси не допускала никаких расспросов. Ася продолжала перекладывать Марка на подушках, ворочать его, распоряжаться им, как если бы имела на него все права. А Марк молча подчинялся и не смел ни о чем спрашивать: его точно заколдовало необъяснимое присутствие чужой женщины. Он силился найти разгадку и обращался к минутам просветления, какие бывали у него в бреду. У него было странное опасение, что если он начнет расспрашивать, видение исчезнет. После долгих бесплодных усилий он напал на след. Луч света проник во тьму. Ему, однако, надо было удостовериться. Но стесняло присутствие матери. Наконец он улучил минуту, когда мать отошла и Ася склонилась над ним. Он прошептал:
– Вы моя соседка? Вы живете рядом?
– Это вы живете рядом, – ответила она. – Сейчас вы у меня.
Он не заметил этого… Он обвел взглядом комнату. К голове прилил теплый поток, порозовел лоб. Ася погладила его своей крепкой рукой:
– Ладно! Лежи спокойно! Будет у тебя время подумать!
Все еще склонившись над ним, как бы для того, чтобы взбить подушку, она в нескольких словах, не допускавших возражений, объяснила ему, что произошло: