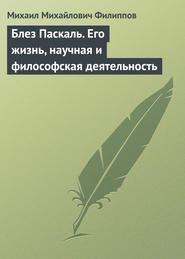По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт (сборник)
Жанр
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Завещание Микеланджело действительно характерно: «Мою душу – Богу, мое тело – земле, мое имущество – близким» – это все; республиканская простота и мужественность. Не менее замечательно завещание Рафаэля. Заранее догадываясь о близкой смерти, он назначил в завещании приданое для своей невесты, не забыл даже ее дяди, кардинала Биббиены, заранее избрал себе могилу в Пантеоне, истратил тысячу золотых скуди на часовню и на панихиды, подарил ученикам все свои начатые картины.
Ровно ничего выдающегося и оригинального нельзя найти в завещании Леонардо, исключая крайне мелочные подробности, которыми он желает обставить свои похороны, да еще разве странные для нашего слуха, но обычные в XVI веке выражения вроде следующего: «Прежде всего он (Леонардо) поручает свою душу нашему владыке Господу Богу, славной Деве Марии, монсинъору святому Михаилу и всем блаженным ангелам и святым мужеского и женского пола в раю». Назначив себе по возможности пышные похороны, Леонардо требует, чтобы по нему были отслужены три большие и тридцать малых панихид и чтобы на его похоронах было шестьдесят факелов, несомых шестьюдесятью нищими. Не без некоторого основания думает Гуссэ, что Леонардо да Винчи, много изучавший анатомию и медицину, боялся, быть может, быть погребенным заживо, чем отчасти объясняется значительное количество назначенных им месс; что касается лиц, упомянутых в завещании, – главным наследником Леонардо и в то же время его душеприказчиком назначен Франческо Мельци «в вознаграждение за услуги, оказанные в прошлом». Ему Леонардо завещал все свои книги, инструменты и рисунки. Вилланис и Салаи названы в завещании просто «слугами», не забыта и верная служанка Матюрина, получившая «хорошую одежду черного сукна, украшенную кожей, суконную шляпу и десять дукатов единовременно». Даже братья Леонардо получили по завещанию 400 экю.
Еще 23 апреля 1518 года было написано это завещание; через год Леонардо скрепил его королевской печатью. Девять дней спустя, 2 мая 1519 года, Леонардо скончался после довольно продолжительной болезни, шестидесяти семи лет от роду. Некоторые писатели конца XVIII и начала XIX столетия уверяли, будто он умер в Фонтенбло. Это совершенно неправдоподобно, так как в последние месяцы жизни Леонардо находился почти безвыездно в своем поместье в Амбуазе. О смерти великого художника есть, собственно говоря, лишь два вполне заслуживающих доверия документа: письмо Франческо Мельци к братьям Леонардо и надгробная надпись, сообщаемая Вазари, который передает также рассказ об обстоятельствах смерти Леонардо да Винчи. Письмо Мельци, к сожалению, слишком кратко. Оно послано из Амбуаза.
1 июня 1519 года, но из письма нельзя даже узнать наверное, где умер Леонардо.
«Я думаю, – пишет Мельци братьям да Винчи, некогда отвергнувшим Леонардо как незаконнорожденного, – что вы, вероятно, услышите о смерти маэстро Леонардо, вашего брата, бывшего для меня нежнейшим и лучшим из отцов. Я не в состоянии выразить горя, причиняемого мне этим событием; могу только сказать, что, пока продлится моя жизнь, я буду испытывать смертельную скорбь, потому что не проходило дня, чтобы Леонардо не доставлял мне доказательств своих нежнейших чувств. Этот редкий человек, подобного которому еще не создавала природа, был любим всеми, все глубоко сожалеют о нем. Он умер.
2 мая, исполнив обряды, требуемые церковью. У него было письмо от христианнейшего короля, разрешившего ему оставить свое имущество, кому он захочет, исключая случай, если наследники просителя окажутся цареубийцами. Если бы не доброта короля, все его имение по французскому закону перешло бы в казну – таков закон этой страны». Далее Франческо сообщает подробности завещания и обещает прислать его с верным человеком.
А вот рассказ о смерти Леонардо, переданный Вазари:
«Будучи уже стар, Леонардо заболел и пролежал несколько месяцев. Чувствуя близость кончины, он занялся исключительно истинами нашей святой католической религии. Скорбя о своих грехах, больной исповедался со смирением и, приготовляясь набожно принять причастие, приподнялся, хотя не мог стоять. Друзья и слуги поддерживали его, король, часто посещавший его по-приятельски, вошел как раз в эту минуту. Леонардо, весьма уважавший монарха, снова лег в постель и, рассказывая королю подробности своей болезни, просил прощения у Бога и людей в том, что не сделал для искусства всего, что мог бы сделать.
Вдруг с ним сделался припадок судорог. Король встал и стал поддерживать ему голову, чтобы облегчить страдание; но божественный художник как будто почувствовал, что не может надеяться на еще более высокие земные почести, и испустил дух в объятиях короля».
В достоверности этого рассказа, принятого некоторыми историками за легенду, не может быть ни малейшего сомнения. Он буквально подтверждается сохраненной Вазари латинской эпитафией, которая гласит:
«Леонардо да Винчи. Что еще сказать? Его божественный гений, его божественная рука заслужили ему честь умереть в объятиях короля».
Несмотря на подтверждение этого рассказа многими писателями, которые могли еще знать современников Леонардо, во Франции и особенно в Германии был целый ученый спор из-за того, присутствовал ли Франциск I при смерти Леонардо или узнал об этом несколько дней спустя. Вазари, отлично знавший ближайшего друга Леонардо, Франческо Мельци, конечно, не стал бы без всякого повода искажать подробности кончины великого художника, да и весь рассказ его дышит правдивостью и непосредственностью.
Известная картина Роберта Флери – одно из лучших произведений французской исторической живописи – оказывается поэтому вполне согласною с историей. Еще раньше писали картины на ту же тему многие французские художники, между прочим Виан (Vien) и Жигу (Gigoux): последний превосходно воспроизвел черты лица да Винчи.
Несмотря на заботы Леонардо да Винчи о своих похоронах, могила его была забыта еще в XVII веке, а в нашем столетии понадобилась вся проницательность и настойчивость французского критика Арсена Гуссэ для того, чтобы открыть ее, раскопать и не без священного трепета взять в руки череп великого старца. С помощью садовника замка и его дочери Арсену Гуссэ после долгих поисков удалось найти великолепный череп с сохранившимися еще восемью зубами, с широким и высоким челом; затем были найдены камни с полустертыми буквами INC. После некоторых поисков удалось также найти плиты с буквами LEO и, наконец, DUS. Сомнений более не было: эти буквы, украшенные затейливыми арабесками, очевидно гласили: LEOnarDUS vINCius.
Это было начало латинской эпитафии, вероятно, той самой, которую сохранил Вазари и в которой, между прочим, сказано: «Его искусная рука, более всякой другой, умела располагать для утехи глаз тени и краски. Он обладал тайною воспроизводить тела людей и даже воздушные образы богов. Его кисть давала жизнь лошадям».
Необходимо, однако, дать более точную оценку художественного значения произведений Леонардо да Винчи и той роли, которая принадлежит им в истории искусства.
Глава IX
Леонардо да Винчи как художник. – Эпоха Возрождения. – Классическая древность и дух нового времени. – «Иоанн Креститель». – «Вакх». – «Джоконда». – Значение «Тайной вечери» в истории искусства
Эпоха, к которой относится жизнь и деятельность Леонардо да Винчи, известна под именем Возрождения. В течение долгого времени под этим подразумевалось возрождение в буквальном смысле слова, то есть восстановление классической древности, внезапно возродившейся после многих веков спячки и отсутствия всякого прогресса. В таком воззрении было много преувеличенного и неточного. Теперь даже последние представители этого взгляда, встречающиеся по преимуществу в Германии, обставляют свою теорию многочисленными оговорками. Так, Людвиг Шеффлер в своем этюде о Микеланджело, сравнивая произведения этого гораздо более чем Леонардо да Винчи приближающегося к древним грекам художника с классическими образцами, пишет, что отличительной чертой искусства времен Возрождения является «индивидуализм» или, если угодно, субъективизм. Личность художника, его «я», постоянно выступает наружу. Наивность и непосредственность античной жизни исчезают при этом совершенно, но зато появляется внутренняя «демоническая» борьба.
При всем глубоком различии, существующем между Леонардо да Винчи и Микеланджело, некоторые из приведенных соображений относятся одинаково к обоим художникам. Отсутствие в их творчестве того душевного равновесия и олимпийского спокойствия, которые являются наиболее характерными чертами лучших произведений классической древности, стремление выразить весьма сложные душевные движения – вот в чем соприкасалась деятельность обоих мастеров и что отличает их от классиков, для которых главным регулирующим началом была физическая красота, совершенство и гармония форм. Здесь, впрочем, вполне подтверждается положение, гласящее, что искусство, как бы ни были идеальны его задачи, всегда тесно связано с жизнью: жизнь конца XV и начала XVI века давала совсем иной материал, нежели эпоха Перикла и Фидия. Быть может, все итальянское Возрождение не создало ничего более классического, нежели двадцать юношей, сгруппированных Микеланджело в одном из его произведений. Казалось, только древние были способны в такой степени восхищаться наготою юных мужских тел, изображенных как будто после чтения Платона. Но, присмотревшись ближе, нетрудно и здесь увидеть борьбу, разочарование, зависть – словом, все то, что так характеризовало тогдашнюю светскую жизнь Италии и что было совершенно чуждо истинному платонизму.
Леонардо да Винчи еще более чужд идеалам и формам классической древности, нежели его гениальный соперник. При всем глубоком знании античного мира, которым обладал Леонардо, он не только не копирует древних, но и не может подражать им, потому что он – сын своего времени, представляющего странную смесь идеальнейших порывов с пучиною порока. То была Италия не только Рафаэля, но и Чезаре Борджиа. Достаточно прочесть сонеты Микеланджело, чтобы увидеть, какая демоническая борьба происходила в этой гениальной натуре, окруженной искушениями и спасшейся от них лишь благодаря постоянным попыткам ограничить себя уздою мизантропии. Леонардо не оставил подобных биографических признаний; но и его жизнь была полна бурь и невзгод, и он не раз должен был разочароваться в людях и даже в самом себе.
В числе картин Леонардо, находящихся в Луврской галерее, можно видеть два произведения, о которых много спорили, но в которых всякий, кто сколько-нибудь понимает историю искусства, должен признать кисть Леонардо. Мы говорим о «Вакхе» и другой картине, известной под названием «Иоанн Креститель». Все эти картины безбожно искажены позднейшими реставраторами, но тем не менее невольно обращают на себя внимание. Вторая в особенности поразительна. Может быть, это и не Иоанн Креститель, но во всяком случае это юноша, находящийся в состоянии ненормального, болезненного восторженного экстаза. Таким мог быть Иоанн Креститель в юности, когда начал изнурять себя постом и ночным бодрствованием. Кто раз видел эту картину, никогда не забудет странного выражения глаз юноши, придающего его лицу даже нечто неприятное; некоторые из зрителей находят в них что-то хитрое, но это не хитрость, а самоуслаждение аскета, уверенного в том, что он обрел никому не доступную истину[1 - Были критики, утверждавшие, что эта картина изображает Вакха, к которому будто бы позднее был пририсован крест. Сходство с Вакхом то, что аскет опьянен своими созерцательными грезами, доводящими его до исступленного восторга.]. Напрасно во всей классической древности стали бы мы искать подобный тип, более родственный героям романов Достоевского, чем Софоклову безумному Аяксу. Это сияющее от восторга лицо с болезненной улыбкой на устах, характерный жест, с которым аскет указывает на небо, производят поразительное, драматическое впечатление. Форма этого произведения, как говорят, некогда украшавшего кабинет Кромвеля, совершенно соответствует идее. Краски, разумеется, потускнели – Леонардо губил себя своей слишком ученой химией, – но все эти дымчатые тона и почти металлический блеск освещенных частей производят впечатление фигуры, вышедшей из мрака для того, чтобы увидеть свет и проникнуться им. Это именно смешение мрака со светом путем тонких переливов. Поразительно, но не резко выделяется эта фигура аскета на фоне темном, как ночь.
Любопытно, что в то время, как этого Иоанна многие считали Вакхом, настоящего Вакха, находящегося в том же Лувре, иные принимают за Иоанна. В выражении обоих лиц есть действительно нечто сходное, но для Леонардо Вакх не был веселым богом классической древности. Это Вакх-мечтатель, опершийся о мрачную скалу. Он не наслаждается, а ищет наслаждений, и жадный взор его устремлен в беспредельное пространство. Перед ним раскрывается чудная картина, ярко залитый светом пейзаж; но он только прислушивается, как бы внимая росту каждой былинки, шелесту ветра и шуму отдаленных вод. Это не шумное веселое опьянение классической Греции, а лихорадочный бред пытливой, гениальной, но болезненной натуры.
Если даже эти две картины Леонардо представляют много загадочного – особенно для тех, кто судит о них, не вникнув в дух той эпохи, – то что сказать о бессмертной «Джоконде», об этой поэме любви, в которой действительно все загадочно? Эту дивную картину копировали не один раз. Существуют даже две копии совсем особого рода (одна из них у нас в Эрмитаже), изображающие «Джоконду», или Мону Лизу, без одежд. Это не копии, а наглые и бесстыдные профанации. Люди, не пощадившие «священного трепета» гениального художника, должны были по крайней мере пощадить женщину, которая, быть может, и любила Леонардо, но о которой один старинный французский писатель пишет: «Это была женщина весьма добродетельная». В высшей степени замечательно, что даже лучшие копии «Джоконды» не похожи на оригинал. Это участь, разделяемая подражателями Леонардо с теми, которые пытались воспроизвести Венеру Милосскую. Что всего любопытнее – и это доказано фотографическими снимками, – ни одна из копий не воспроизвела сколько-нибудь точно даже, так сказать, геометрических измерений и пропорций оригинала: на всех копиях руки слишком велики и улыбка почти цинична вследствие неверного воспроизведения губ. Чем объяснить это поразительное явление? Очевидно, что гений Леонардо сумел создать иллюзию, которой поддается и копирующий его художник почти так же, как если бы он писал с живой Моны Лизы. Где Леонардо чувствовал высочайшие и идеальнейшие порывы, обыкновенный талант видит только красивое лицо и вместо божественного трепета чувствует, быть может, лишь одно физическое удовольствие. К этому произведению Леонардо ближе всего подходят слова сонета его знаменитого врага Микеланджело:
«Мои взоры не видели смертного существа. Они видели глубочайшие тайники ее души… Чувственность есть похоть, убивающая душу: это не постоянная любовь. Любовь стремится к тому, чтобы совершенствовать предмет любви».
И действительно, Леонардо достиг совершенства. Вазари не находит слов, чтобы похвалить эту картину. «Это чудо, – говорит он, – это вещь скорее божественная, чем человеческая». В наше время уже нельзя любоваться «вечно русыми» кудрями Моны Лизы: они потемнели и стали почти черными; и ее руки, «которым нет подобных», по словам одного старинного писателя, теперь кажутся погруженными во мрак; ее одежда стала почти вдовьей, а дивный пейзаж – море, окаймленное живописными скалами, – едва заметен. Но эта грациозная поза, эти чудные глаза женщины, полной любви, знающей, что ее любят, и в то же время чистой, как невинная девушка, – это не эллинская пластическая красота, это что-то высшее, потому что здесь скрывается сложная душевная драма.
Дух нового времени, бьющий ключом во всех работах Леонардо, достигает высочайшего совершенства в идеальнейшем из его произведений – «Тайной вечере». Если в «Иоанне Крестителе» и «Вакхе» выразились болезненные стороны его эпохи, а в «Джоконде» Леонардо запечатлел лучшие из своих личных порывов, то в «Тайной вечере» он сделал много больше. Великий художник создал бессмертные типы, воспроизводящие основные идеи христианства и, что всего важнее, ту борьбу, которую пришлось и приходится выдерживать этим идеям. Тут проявился весь гений Леонардо как в замысле, так и в исполнении. Ангельская душа Рафаэля создала тип Мадонны – это высочайшая концепция материнской любви, женской нежности и целомудрия; античный лишь по пластике, но полный демонических противоречий и мук характер Микеланджело создал кентавров, атлетов, нагих юношей и мрачную картину Страшного суда – героические, эротические и демонические типы. На долю Леонардо выпало воплотить в поразительно сильных и глубоко продуманных образах моральное торжество христианской идеи, заметное более всего там, где ей грозит самое низкое предательство.
Для большинства предшественников и преемников Леонардо, бравшихся за тот же сюжет, «Тайная вечеря» была либо чисто религиозным обрядом, либо театрально обставленным историческим эпизодом. Даже такой крупный талант, как Веронезе, не сумел справиться со своей задачей и дал обряд претворения воды в вино, – прекрасная, роскошная картина восточных нравов, хотя и не без исторических неточностей.
Не так отнесся к своей задаче Леонардо. Он понял, что наиболее драматический момент тайной вечери наступает, когда Иисус говорит своим ученикам: «Один из вас предаст меня». Изобразить душевные движения всех двенадцати апостолов – людей, различных по возрасту, темпераменту, общественному положению, – и не впасть при этом ни в однообразие, ни в преувеличения, – такова была необычайно сложная задача, поставленная перед собою Леонардо да Винчи. Но эта задача еще ничто по сравнению с изображением фигуры Христа, которая должна была выделяться даже среди таких людей, каковы любимейшие и пламеннейшие из его учеников.
Леонардо справился с этими трудностями гениальнейшим образом. Чем более критика изучает это высочайшее из его произведений, тем более выясняется полная несостоятельность теории, придающей первостепенное значение инстинкту и вдохновению и ставящей мысль на второй план. В этой картине все – мысль, здесь нет ни одной черты, ни одной детали, которая не была бы сотни раз взвешена и продумана. Конечно, это мысль гения, но она идет не ощупью, а верно рассчитанным путем: многие позы, выражения лиц и т. п. точно взяты из трактата о живописи, написанного самим Леонардо.
Описать фигуру Христа невозможно: ее надо видеть, если не в Милане, то по крайней мере на лучших копиях, дающих хотя бы слабое указание на красоту оригинала. Есть до пятнадцати копий, принадлежащих крупным художникам. Выражение лица грустно, но величественно и спокойно; сказав это, мы только делаем бледный намек на общий характер этого лица, в котором Леонардо сумел воплотить идею бесконечной любви и кротости. Тициан в своей «Вечере в Эммаусе» воспроизвел только позу, данную Леонардо Христу, но даже не приблизился к идеальному совершенству выражения.
Все последующее рассчитано и обдумано. Евангелист Иоанн дремлет на груди Христа и вдруг пробуждается от его слов; Петр гневно и скорбно спрашивает у Иоанна имя предателя. Движение бровей, опущенные глаза, поза Иоанна у Леонардо – все указывает на юношу, только что видевшего сладкие грезы и вдруг пробужденного поразившим всех страшным известием, скорбным предсказанием или указанием на предателя. Созерцательная и любящая душа Иоанна испытывает скорее скорбь, чем гнев.
По правую руку от Иоанна сидит Иуда. Он отодвигается от стола. Он поражен тем, что его предательство известно Христу. Судорожно протянута его левая рука, еще более конвульсивно сжимает он правой рукой кошелек: это не символ полученных им сребреников, а настоящий кошелек, потому что Иуда был казначеем апостольской общины. Сделав выдающее его движение, Иуда опирается локтем о стол и переворачивает солонку – дурная примета у многих народов Востока. Главная черта Иуды – жадность к деньгам, ради которых он способен на самый низкий поступок, – схвачена превосходно. Но Леонардо не желал, чтобы взор зрителя слишком останавливался на этой фигуре, хотя взгляды почти всех апостолов невольно обращаются к истинному предателю, который как будто собирается бежать, но останется и совершит свое предательство.
Петр, гневный и пылкий, поднимается с места, чтобы спросить Иоанна. Левая рука его протягивается к Христу, правая хватается за короткий меч. Кроткий, преданный Андрей остолбенел от ужаса. Он раскрыл руки, губы его сжаты, углы рта опустились, брови дугообразно поднялись, на лбу усилились морщины. Леонардо был глубокий физиономист и даже теоретик в этой области. Достаточно прочесть в его трактате о живописи «о выражении лица старика, пораженного словами оратора», чтобы тотчас же вспомнить фигуру Андрея.
Иаков Алфеев, двоюродный брат Христа, сходный с ним, согласно преданию, лицом и станом, изображен так же и у Леонардо. Иуда во время акта предательства поцеловал Христа именно для того, чтобы воины отличили его от весьма сходного с ним Иакова – об этом есть указания в письме Игнатия к Иоанну-евангелисту. Лицо Иакова у Леонардо выражает изумление, тревогу за любимого учителя, но нет ни гнева, ни жажды мщения предателю. Так и следовало изобразить человека, который, по словам Игнатия, не только лицом, но и жизнью, и характером «походил на Христа, как будто был его близнецом от одной матери». Спокойное величие и простота во всем, даже в одеянии, характеризуют этого апостола.
Смерть Леонардо да Винчи.
Офорт Джузеппе Кадес. 1780-99
На шестом месте находится Варфоломей. Черные курчавые волосы, большие глаза, тонкий нос, смуглое лицо и коренастая фигура этого апостола указывают на его египетское происхождение. Он сомневается, правильно ли понял услышанное, и приближается, чтобы узнать более, привставая и опираясь обеими руками на стол.
Иаков-старший поражен ужасом. Голова наклонена вперед, брови опущены и сжаты, взор блуждает, рот полуоткрыт, грудь сильно дышит. Он гневен, но его гнев не так сильно проявляется, как гнев Петра и Фомы: последний поднимает палец, как бы грозя предателю. Филипп выражает кротость, дружбу; он как бы протестует, прижимая руки к груди, чтобы убедить всех, что он вполне невинен и даже в мыслях не способен на позорное дело.
Нетрудно узнать Матфея, по одежде и типу отличающегося от апостолов и, очевидно, принадлежащего к более богатым классам общества.
Фаддей изумлен и несколько поворачивается к соседу. Симон, сидящий против Варфоломея, – величавый мудрец, проникнутый христианским милосердием.
Выдержаны не только характеры действующих лиц, но даже их костюмы. Так, у Петра верхняя одежда наброшена на плечо, и правая рука свободно может делать сильные движения. Грандиозная и одновременно простая туника Христа с мелкими складками на груди, красная с лазурного цвета паллиумом – род верхней накидки; написанное полутонами неяркое одеяние Андрея: туника орехового цвета и зеленая верхняя одежда, – все это поразительно гармонирует с фигурой каждой личности. И в целом, с исторической и археологической точек зрения, картина Леонардо представляет лишь одну неточность – блюдо рыбы подле пасхального агнца; но ведь апостолы работали в субботу, а Петр впоследствии не гнушался есть с необрезанными… Быть может, да Винчи преднамеренно сделал это отступление от предписаний Моисеева закона. Обстановка такая, какую и следовало ожидать в доме богатого человека, Иосифа Аримафейского, где происходила вечеря, – ковры в восточном вкусе, с листьями и цветами. Момент действия, по-видимому, противоречит Моисеевой традиции: лучи солнца еще светят, озаряя окно, и их отблеск освещает всю картину. Но в этом Леонардо следует тексту евангелиста Иоанна: Христос праздновал свою последнюю Пасху до заката солнца.