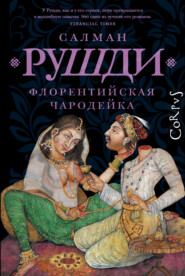По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стыд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В старой карге удивительно сочетались олимпийское спокойствие и неуемная свирепость. Якуб – мастер на все руки – как зачарованный беспрекословно исполнял все ее приказы. Она велела соорудить со стороны улицы необычайный лифт, подъемник без дверей, наподобие тех, в которых доставляют из кухни в ресторан готовые блюда – только просторнее, чтоб вмещал трех человек. На нем с помощью рычагов, тросов и моторов любой груз можно было поднять на верхний этаж. Причем Хашмат-биби особо указала, что управляться лифт должен из дома, да так, чтобы обитательницам не то что из окна высовываться, пальчика своего улице не показывать. Предусмотрела она и меры безопасности.
– Здесь поставь пружину. Чтоб в доме нажали, а днище б откинулось. А вот здесь, здесь и здесь запрячь в стенки кинжалы подлиннее да поострее – тоже на пружинах. Кнопку нажмешь, а они – раз! – и выскочат. Тогда уж к моим хозяйкам никто без спроса не сунется!
Много еще ужасных секретов таил подъемник. Сам Якуб так ни разу и не лицезрел сестер. Закончил он работу, а вскорости умер в придорожной канаве, корчась от боли и держась за живот. И опять попеняла сестрам молва: отравили умельца бесстыжие бабы, чтоб не сболтнул чего о своей последней столь загадочной поделке. Впрочем, справедливости ради отметим, что медицинское заключение никоим образом не подтвердило слухи. Якуба-белуджа, оказывается, уже долго донимали время от времени боли справа внизу живота, и умер он, очевидно, самым естественным образом: от банального, хотя и рокового перитонита или от чего-то подобного, но отнюдь не от злых козней мнимых отравительниц.
В один прекрасный день трое из оставшихся в доме слуг-мужчин наглухо затворили массивные с медной окантовкой двери. В последний раз перед кучкой зевак мигнул тусклым металлом огромный замок на тележке в сумрачном чреве дома, ознаменовав начало более чем полувекового затворничества сестер. Закрылись двери, заскрежетал ключ в замке, и удивительное отшельничество обитателей дома началось.
Не напрасно ходила в город Хашмат-биби: она оставила в запечатанных конвертах подробнейшие указания местным торговцам и ремесленникам. И с той поры по установленным дням и часам к последнему детищу Якуба приходили: доверенная прачка, портной, сапожник, избранные торговцы мясом, фруктами, галантереей, цветами, почтовыми товарами, овощами, книгами, безобидными напитками, зарубежными журналами, газетами, мазями, духами, сурьмой, полосками эвкалиптовой коры – чистить зубы; приносили пряности, крахмал, мыло, кухонную утварь, рамы для картин, игральные карты, струны. Торговцы подавали условленный свист, лифт, шурша, опускался, в нем лежала записка с заказом. Таким образом сестры Шакиль полностью устранились от мира, по доброй воле вернувшись к затворничеству, конец которого они едва успели отпраздновать после кончины отца. Но обставили они все и на этот раз с таким чванством, что и само затворничество воспринималось как новая прихоть их безудержной гордыни, а отнюдь не как раскаяние в собственном жестокосердии.
И тут – пикантный вопрос: а как сестры расплачивались с торговцами?
Мои героини стыдливо потупятся, а я хоть отчасти воздам читателям за многие и многие неотвеченные вопросы и приоткрою тайну, докажу, что в самых крайних случаях автор все-таки в состоянии дать вразумительный ответ: последний запечатанный конверт Хашмат-биби оставила на пороге наименее почитаемого в городе заведения. Там чтят не Коран, а векселя, там полки ломятся от неисчислимых полуистлевших реликвий… Ах, пропади пропадом это заведение. Короче и честнее говоря, Хашмат-биби навестила ростовщика. Был он неопределенного возраста, худой как щепка, смотрел невинно широко распахнутыми глазами. Звали его Пройдоха, и вскорости он тоже объявился у подъемника (как и предписывалось) под покровом ночи, чтобы оценить все, находящееся в доме, и незамедлительно выдать наличными сумму в 18,5 % от продажной стоимости заложенных вещей без права их выкупа. Так три матушки грядущего Омар-Хайама воспользовались прошлым (единственным своим достоянием), чтобы обеспечить будущее.
Так кто же из троих ждал ребенка?
Может, старшая, Чхунни? Средненькая – Муни? Или младшая (сущее дитя, можно сказать) – Бунни? Никто так этого и не узнал, даже когда ребенок появился на свет. Сестры держались единым фронтом, во всем до мелочей повторяя друг друга. А слуг они заставили – даже в голове не укладывается – присягнуть на Коране! Те, кто разделял с сестрами добровольное заточение, покидали дом разве что ногами вперед, завернутые в белое и, разумеется, с помощью все того же механизма Якуба-белуджа. За девять месяцев ни разу не вызывали доктора. Все же сестры понимали, что с каждым днем их тайна все больше и больше норовит упорхнуть в окно, или просочиться под дверь, или уползти в замочную скважину – то есть стать достоянием всех и вся. И они дружно препятствовали этому, втроем выказывая все признаки беременности – одна, так сказать, поневоле, двое других – искусно притворяясь.
Старшую и младшую сестру разделяли пять лет. Но одевались все трое совершенно одинаково. И видимо, из-за долгой совместной затворнической жизни они стали совсем неотличимы одна от другой. Порой их даже слуги путали. Поначалу я назвал их красавицами, хотя ни столь любимых здешних поэтами “ликов, подобных луне”, ни “глаз – что миндаль” у них и в помине не было. Волевые подбородки, коренастые фигуры, твердая поступь – все это сочеталось с невероятно притягательным обаянием. И вот все трое одновременно начали раздаваться в бедрах, у них стали наливаться груди. Случись, затошнит одну, остальных тут же выворачивало наизнанку, причем их сердобольные позывы совпадали с точностью до секунды, так что не определить, у кого раньше взыграло в желудке. Одновременно росли и животы, обозначая скорое разрешение. Очевидно, достигалось это механическими средствами – подкладками и подушками, солями, вызывающими обморок или рвоту. Но такое прозаическое объяснение (для меня вполне убедительное) выхолостило бы суть – взаимную любовь сестер. Все трое так жаждали материнства, так хотели обратить позор внебрачной связи в безоговорочное торжество исполненного желания, что, ей-богу, вопреки всем законам природы, беременности настоящей могли сопутствовать две ложные, а до мелочей одинаковое поведение объясняется тем, что сестры жили, думали, чувствовали как единый организм.
Спали они в одной комнате. Пристрастия у них были одни и те же: к марципанам, жасмину, орехам, косметическим маскам – и возникали одновременно. Прочие запросы их организмов тоже совпадали. Весили они одинаково, уставали одновременно, просыпались минута в минуту – будто кто по утрам звонил в колокольчик. Даже схватки у всей троицы были одинаковы, три чрева готовились исторгнуть одного младенца. Три тела корчились и извивались в такт, словно в хорошо отрепетированном действе. Возьму на себя смелость утверждать, что и роды были мучительны для всех троих. Каждая выстрадала право называться матерью. Появился на свет малыш, и уж не определить, у кого из матерей отошли воды, чья рука заперла изнутри дверь спальни – нет, имя роженицы мне определенно не угадать. Ни один человек не присутствовал при родах, как истинных, так и фиктивных. Никто не видел, как лопнули надувные шары у двух сестер, а у третьей меж бедер показалась головка совершенно незаконного ребенка. Не узнать, чья рука подняла Омар-Хайама за ножки и шлепнула по попке.
Итак, наш герой издал первый крик в стенах огромного особняка, в котором и комнат не счесть, открыл глаза, и его перевернутому взору предстало распахнутое окно, за ним – на горизонте – зловещие вершины Немыслимых гор. Но все же которая из матерей подхватила его и шлепком понудила к первому вздоху? Не спуская глаз с опрокинутых гор, младенец заорал.
Хашмат-биби услышала, как отперли дверь спальни, осторожно и робко вошла – принесла поесть и попить, свежие простыни, губки, мыло, полотенца. На необъятной постели, где некогда скончался хозяин дома, сидели три сестры. Кровать являла собой огромный помост красного дерева о четырех резных столбцах, по которым змеи-искусители подбирались к райским кущам, вытканным по парчовому балдахину. Сестры светились радостью и смущением, как, собственно, и подобает молодым матерям, и по очереди кормили малыша грудью. Соски у каждой были влажны!
Исподволь крохе Омар-Хайаму внушалось, что его появлению на свет сопутствовали некоторые, так сказать, отступления от принятых норм. О тех, что предваряли его рождение, уже достаточно сказано, о последующих речь ниже.
Исполнилось Омар-Хайаму семь лет, и старшая мама, Чхунни, призналась:
– Я наотрез отказалась благословлять тебя именем Божьим.
Миновал год, и настал черед средней мамы – Муни:
– Я так и не позволила обрить тебя. Ты народился с чудесными черными-пречерными волосами. Разве я могла допустить, чтобы их сбрили? Ни за что!
А на девятый день рождения младшенькая мама сурово поджала губы и изрекла:
– Ни за что на свете не разрешила бы делать тебе обрезание. Что еще за фокусы! Это ведь не банан очистить.
Так и вступил в жизнь Омар-Хайам без положенного обрезания, бритья головы и благословения. “Разве это полноценный человек!” – воскликнут многие.
Родился он на смертном одре деда, испросившего себе для вечного поселения задворки ада, а его мятежный дух обосновался меж шторами и москитной сеткой. Первое, что явилось младенческому взору, – опрокинутые горы. И представление о перевернутом мире сызмальства не покидало Омар-Хайама: все-то на белом свете вверх тормашками. Или того хуже: ему казалось, что он живет на самом краешке мироздания и вот-вот упадет. Сидя за старым телескопом у окна на верхнем этаже, он разглядывал пустынные окрестности и все больше проникался мыслью: живет он на самом краю света, и за Немыслимыми горами на горизонте – великое Ничто, этакая бездонная пропасть, куда он неизменно падал в кошмарных снах. Тревожила в этих снах какая-то предопределенность, мол, летишь в тартарары – и поделом, так тебе и надо… Он просыпался весь в поту и видел над собой все ту же москитную сетку. Порой он даже вскрикивал от безысходности, ведь сны без обиняков говорили о его никчемности. Малоутешительное откровение.
Именно в этом, не очень-то еще сознательном возрасте и решил Омар-Хайам (причем решил – как отрезал, на всю жизнь!) побольше бодрствовать и поменьше спать по ночам. Неустанная борьба эта привела его в конце жизни, когда жена его превратилась в… нет, нет, не следует забегать вперед, пусть в рассказе все идет своим чередом: за началом – середина, за серединой – конец. И не указ нам новомодные научные опыты, из которых выводят, что в определенных замкнутых системах под высоким давлением время может повернуть вспять и следствия с причинами поменяются местами. Пусть. Нам, рассказчикам, не след к этому заманчивому приему прибегать, чтоб разум не померкнул![1 - Обрывок фразы короля Лира: “Нет, замолчи, чтоб разум не померкнул”. У. Шекспир. “Король Лир”. III, 4, пер. А. В. Дружинина. (Здесь и далее прим. перев.)] Так вот, возвращаясь к сути: Омар-Хайам приучил себя довольствоваться легкой, непродолжительной (минут сорок) дремотой, этого хватало, чтобы восполнить к утру запас сил. Возможно ль, чтоб в голове ребенка родилась мудрая мысль: уж лучше зыбкая, как сон, явь, чем пугающе-правдоподобные сны? Матушки, узнав о его ночных скитаниях по бесконечным комнатам, смиренно вздохнули и прозвали его Летучим Мышонком. Холодными зимними ночами Омар-Хайам облачался в широкую темную накидку с капюшоном, и решай сам, читатель, на кого он больше походил: то ли на Летучего Голландца, то ли на Могучего Мышонка.
(Надо сказать, что жена его – Суфия Зинобия, старшая дочь генерала Резы Хайдара, тоже не спала по ночам. Но если Омар-Хайам приучил себя бодрствовать, то бедняжка Суфия Зинобия мучилась, закрывала глаза, отчаянно терла веки, тщетно пытаясь избавиться от бессонницы, словно от соринки или от непрошеной слезы. А каким пламенем горела она в той самой комнате, где впервые открыл глаза ее суженый и где навеки закрыл свои его дед, подле знаменитого ложа со змеями-искусителями и райскими кущами… ах, это проказливое будущее опять встревает! Мне остается ниспослать на него самые страшные кары, а сцену смерти отправить до поры за кулисы.)
Годам к десяти Омар-Хайам проникся благодарностью к защитницам-горам на горизонте. Они укрывали и с севера, и с юга. Немыслимые горы! Этого названия не найти в самых подробных атласах. Видно, и географам не объять необъятного. Мальчик пристрастился к чудесному, блестевшему медью телескопу. Он откопал его в жутких дебрях домашнего хлама. И, разглядывая звезды на Млечном Пути, Омар-Хайам отчетливо понимал, что ни одно тамошнее существо, будь то живой песок или газовое облако, ни за что не отыскало бы своей родной планеты по названиям в затертых Омар-хайамовых звездных картах.
– Это наши горы, – говаривал он, – и назвали мы их так неспроста.
Порой на улицах города появлялись и сами горцы, узкоглазые, словно выточенные из камня. (Не столь твердокаменные горожане, завидев их, спешили перейти на другую сторону, дабы избежать нестерпимой вони и бесцеремонного обращения.) Обитатели Немыслимых называли их “Крышей рая”. Нередко весь горный кряж, а с ним и городок сотрясались от подземных толчков – сейсмически неблагоприятный район! – и горцы свято верили, что это ангелы прорываются наружу. Много лет спустя младший брат нашего героя и впрямь увидит крылатого человека в золотом сиянии, смотрящего с крыши, а пока маленький Омар-Хайам самостоятельно вывел и развил любопытную гипотезу: рай находится не на небе, а внизу, прямо под ногами. Неспроста ангелы колышат твердь, выбираются на свет божий – видать, не безразлична им мирская суета. И под напором ангелов горный кряж то и дело менял очертания. Порой из ярко-желтых склонов вдруг выпирало множество столбов, столь совершенных по форме и богатству геологических слоев на срезе, будто их вытесывали великаны-богатыри в земных недрах. Но вновь появлялись ангелы, и чудесные сказочные башни обращались во прах.
Итак, Ад наверху, Рай – внизу. Я не случайно так подробно описываю теорию Омарова окраинного бытия, своеобычную, но зыбкую, как песок: хочется выделить, что вырос он меж двух извечных стихий Добра и Зла, и его недолгий жизненный опыт подсказывал, что силы эти, так сказать, поменялись местами. Оттого-то все в мире и представлялось перевернутым с ног на голову. Последствия такой убежденности оказались разрушительнее любого землетрясения, да только их не измерить – не придуман еще сейсмограф души. Итак, лишенный обрезания, обривания и благословения, Омар-Хайам чувствовал себя обделенным и неприкаянным.
Рассказ увел меня далеко от дома, прямо под палящее солнце, и, пока его не хватил тепловой удар или не поглотил коварный мираж, спрячу его подальше… Много-много лет спустя, уже на закате жизни Омар-Хайама (будущее, как вода сквозь песок, так и норовит просочиться в прошлое), имя моего героя замелькало во всех газетах в связи с нашумевшими убийствами – убитых находили непременно с оторванной головой! Тогда-то дочка таможенного чиновника Фарах Родригеш и вытащила из кладовой памяти случай, который произошел с Омар-Хайамом в отрочестве. Уже в ту пору он был неопрятным толстуном – на рубашке (на уровне пупка) недоставало пуговицы. И однажды он сопроводил тогда еще юную Фарах на пограничный пост милях в сорока к западу от города. Рассказывала Фарах об этом в подпольном питейном заведении, обращаясь ко всем сразу, сопровождая рассказ смехом – некогда хрустально-переливчатым, теперь же – колюче-шершавым, как битое стекло (видно, сказались время и воздух пустыни).
– Вы не поверите, но я клянусь честью! – приступала она. – Не успели мы вылезти из джипа, как откуда ни возьмись облако и садится прямо на пограничную полосу, словно визы дожидается! Так Шакиль до смерти перепугался, даже сознание потерял. Голова пошла кругом, и вот он уж себя не помнит, хотя стоит на твердой земле. Необъяснимое головокружение (“стою на краю, вот-вот сорвусь”) проклятием преследовало Омар-Хайама даже в его звездный час, когда он женился на дочери Хайдара, а сам Хайдар стал президентом. Одно время Омар-Хайам водил бражную дружбу с богатым повесой Искандером Хараппой, политиком самых левацких взглядов, потом – премьер-министром, потом (уже после смерти) – чудотворящим духом. И как-то, уже изрядно под хмельком, наш герой разоткровенничался с другом:
– Ну что я за человек! Даже в собственной жизни мне главной роли не сыграть. Так меня вырастили – белый свет только в окошко показывали. А теперь вот расплачиваюсь.
– Что-то уж больно мрачно ты на жизнь смотришь, – изрек Искандер Хараппа.
Растили Омар-Хайама ни много ни мало три матери, без единого отца в обозримом пространстве и времени. Загадка, да и только! И к ней добавилась еще одна: Омар-Хайаму шел двадцатый год, когда у него родился брат – очередной плод коллективного творчества трех матушек. Как и в первый раз, все было разыграно словно по нотам. Но задолго до этого не меньшей занозой разбередила душу Омара первая любовь. Неуклюже переваливаясь, тучный юноша тенью следовал за сколь желанной, столь и недоступной некоей Фарах Заратуштрой. Ухаживать за ней пытались едва ли не все окрестные парни, но только один Омар-Хайам, живший словно в коконе, не знал, не ведал, что былые воздыхатели рассудили так: “За Фарах увяжешься – в дураках окажешься”, и называли ее “Конец света”.
Подведем итоги: страдает обмороками и неприкаянностью; увлечен девушкой и звездами; мучается от кошмарных снов и ожирения. Ну разве это герой?
2
Башмачная гирлянда
Примерно через месяц после входа русских войск в Афганистан я приехал домой: повидать родителей и сестер да похвастать своим первенцем. Живут мои родные в районе “Заставы” – так именуется жилищно-кооперативное общество пакистанской армии, – хотя военных у меня в роду нет. Просто “Застава” – престижный район Карачи. Офицерам земля там выделяется почти даром, только построить дом не каждому по карману. А продать пустующий участок не разрешается. Попробуйте-ка построить дом на офицерском участке, и вас ждет замысловатейший контракт: владельцу земли вы платите за нее по рыночной цене, однако земля остается его собственностью. А вам отводится роль этакого славного малого, по доброте душевной одарившего неимущего офицера круглой суммой (надо же и ему свить себе гнездо). Чтобы построить дом по своему вкусу, вы потратите еще кучу денег, и тут новая закавыка: по контракту землевладелец должен назвать еще “третье лицо”, так сказать, полномочного распорядителя вашей будущей недвижимостью. Выбирать это “третье лицо” вам, и ему, собственно, остается поздравить вас с новосельем, когда строители уберутся восвояси. Итак, вам дважды приходится являть добросердечность и щедрость. По принципу “ты – мне, я – тебе” и застраивалась вся “Застава”. Не правда ли, яркий пример беззаветного, жертвенного служения ближнему ради общей цели?
Обставлялось все тонко – комар носа не подточит. Хозяин участка богател, “третье лицо” получало комиссионные, а вы – новый дом. Но главное – не обойден ни один закон! Излишне говорить, что никто не допытывался, по какому праву самый лакомый кусок городских земель застраивается подобным образом. И вообще, не в правилах жителей “Заставы” проявлять любопытство. А потому – от сонмища незаданных вопросов не продохнуть. Хотя их зловоние тонет в благоухании садов, аромате цветущих на бульваре деревьев, в запахе дорогих духов местных светских львиц. Населяют “Заставу” дипломаты, заправилы международных фирм, сыновья канувших в Лету диктаторов, модные певички, текстильные магнаты, звезды крикета – эти халифы на час. Район кишмя кишит японскими машинами. А о том, что “Застава” некогда начиналась как офицерский городок и для легковерных слыла символом взаимовыгодного сотрудничества властей гражданских и военных, в городе уже давным-давно забыли. Осталось одно лишь название.
Как-то вечером, вскорости после приезда, я отправился в гости к своему старинному знакомцу – поэту. Я ожидал долгую, неспешную беседу, мечтал услышать, что подумывает мой друг о недавних событиях в Пакистане и, конечно же, в Афганистане. Как и всегда, в доме у него было полно гостей. Странно, толковали лишь о крикетных матчах между Пакистаном и Индией. Мы с другом уселись за стол и начали легкую шахматную партию. Мне, разумеется, не терпелось расспросить его, и поподробнее, о жизни. В конце концов, что пришло на ум, о том я и спросил: что он думает о казни Зульфикара Али Бхутто. Увы, договорить вопрос мне было не суждено, он так и приобщился к сонму незаданных собратьев. А я получил пинок под столом. Сдержав стон, я тут же переключился на спортивные темы. Еще мы говорили о повальном увлечении видеотехникой.
На смену одним гостям приходили другие, люди собирались кучками, смеялись. Минут через сорок мой приятель вдруг сказал:
– Ну все, теперь можно.
– Так кто же стукач? – догадливо спросил я.
Друг назвал осведомителя, затесавшегося именно в этот круг. Про него все знали, но никто и вида не подавал (иначе он бы просто исчез, и поди потом гадай, кого прислали на его место). Мне довелось увидеть его еще раз: славный малый, судя по речи, образованный, с открытым лицом. Не сомневаюсь, он бывал рад-радешенек, когда не находил в беседе “компромата”. И волки сыты, и овцы целы. И снова я поразился, до чего ж много в Пакистане “славных малых” и каким пышным цветом распустилась в благоуханных садах благовоспитанность.
Пока меня не было в Карачи, мой друг-поэт успел отсидеть немало месяцев в тюрьме – поплатился за свои связи. Точнее, приятельница его знакомого оказалась женой двоюродного брата троюродного дядюшки одной особы, которая, по слухам, сожительствовала с парнем, переправлявшим оружие повстанцам в Белуджистан. Да, в Пакистане по знакомству возможно все, даже угодить за решетку. И по сей день друг ни словом не обмолвился о том, что пережил в тюрьме. От других узнал я, что вернулся он из заключения совсем больным и долго шел на поправку. Говорят, его подвешивали вверх ногами и били. Новорожденных тоже подвергают подобной процедуре, чтоб заработали легкие и младенец закричал. Я не спрашивал друга, кричал ли он и виделись ли ему в окно опрокинутые горные вершины.
Куда ни повернись, всюду что-то постыдное! Но поживешь бок о бок со стыдом и привыкнешь, как к старому креслу или комоду. В “Заставе” стыд гнездится в каждом доме: искоркой в пепельнице, картиной на стене, простыней на постели. Но никто ничего не замечает. Мы же благовоспитанные люди!
Возможно, моему другу больше пристало сочинить эту книгу, точнее, и сочинять бы ничего не пришлось – хватило бы рассказа о своей жизни. Но с той поры он больше не пишет стихов. И вот приходится выступать мне и рассказывать о чужой жизни. Моему герою, прошу отметить, уже довелось повисеть вверх ногами; назвали его в честь великого поэта, хотя сам он за всю жизнь не сложит и четверостишия. Чужак! На что посягаешь! Ты не имеешь права касаться этой темы!.. Да, знаю, я в тюрьме не сидел и вряд ли когда сяду. Отщепенец! Узурпатор! Нам твоя писанина не указ! Нас не проведешь: даже твой ядоточивый язык и то иноземный, это уже твоя плоть и кровь! Что ты, переметная сума, можешь рассказать о нас? Ложь и только ложь!
А я спрошу в ответ: неужто история – исключительная собственность ее действующих лиц? В каких судах на нее заявляют права? В каких высоких инстанциях определяют границы застолбленных участков?
Неужто право голоса получают только мертвые?
Себе я говорю, что роман этот – мое прощальное слово о Востоке, от которого годы все больше отдаляют меня. Но подчас мне трудно поверить этим словам, ведь Восток – хочу я или нет – край, к которому я привязан, пусть и некрепко.
Касательно Афганистана: вернувшись в Лондон, я разговаривал на приеме с неким высоким дипломатическим чином, по долгу службы занимавшимся моим “регионом”. Он сказал, что “в свете последних афганских событий” Западу ничего не остается, как поддерживать диктатуру президента Зия-уль-Хака. Мне б сдержаться, но я возмутился. А что толку? Жена дипломата, сдержанная, благовоспитанная дама, примирительно воркуя, пыталась меня утихомирить, а потом, уже выходя из-за стола, спросила: