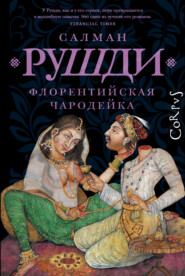По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стыд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Матушки дружно ахнули, воздели руки к небу, потом одна заслонила глаза, другая – уши, третья – уста, дабы не видеть, не слышать и не произносить греховного.
Мама Чхунни (не отнимая рук от ушей) воскликнула:
– Как он может так говорить?! Как у него язык поворачивается?!
Средняя мама, Муни, подглядывая сквозь прижатые к глазам пальцы, трагически бросила:
– Не иначе, кто-то обидел нашего ангелочка!
А крошка Бунни все же отняла руки от уст и изрекла совсем-совсем негреховное:
– Говори! Все подарим! Все, что только есть на белом свете!
Тут он и рыкнул:
– Выпустите меня из этого страшного дома! – И уже спокойнее вонзил следующую фразу в бездыханно повисшую после его слов тишину: – А еще скажите, как звали отца.
– Подумать только! О чем мальчик говорит! – возопила средненькая Муни, и сестры тут же вовлекли ее в тесный кружок; они встали, обняв друг друга за талию, являя прямо-таки непристойнейший образец единства, столь ненавистного мальчику.
Быстрый их шепоток прерывался только вскликами-всхлипами вроде: “А разве я не предупреждала?!” или “Почему ж мне эту кашу расхлебывать!”
Но перемены, что называется, налицо. Из тесного кружка доносятся споры! Впервые за двенадцать лет сыновняя просьба расколола единые ряды матушек – они спорят! А в споре мнения притираются со скрипом, с трудом. И так непросто вновь обрести незыблемое единение младых лет.
Но вот они выбираются из руин порушенного единства и силятся обмануть и сына, и самих себя – дескать, ничего особенного не произошло. Они-таки пришли к единому мнению, но чего стоило им теперь это уже лицемерное единство! Ведь мальчика не обмануть!
Первой берет слово крошка Бунни:
– Что ж, твои желания справедливы. По крайней мере одно мы выполним!
Мальчик вне себя от счастья, а матушки в ужасе. Омар задыхается, в горле у него клокочет.
– Какоекакоекакое? – шепчет он, не в силах перевести дух.
Эстафета переходит к Муни.
– Мы закажем тебе ранец, его доставят на подъемнике, – важно начала она. – Ты пойдешь в школу. Но не очень-то радуйся. Не успеешь из дома выйти, тебе прохода не дадут, начнут обзывать, насмехаться – все равно что ножом колоть, и пребольно. – Муни, самая ярая противница его освобождения, режет словом ровно клинком.
Завершает старшая матушка:
– Смотри, на улице никого не обижай. Мы все равно узнаем, как бы ни скрывал. Отвечать на оскорбления – значит, унижаться, поддаваться запретному чувству – стыду!
– То есть терять свое достоинство, – подхватывает средняя матушка.
СТЫД. Написать бы мне это слово на родном, а не на чужом языке, испорченном ложными понятиями и мусором былых эпох, о которых нынешние носители языка вспоминают без угрызений совести. Но я, увы, вынужден писать на английском и потому без конца уточнять, дополнять и переиначивать написанное.
ШАРАМ – вот нужное мне слово! Разве убогенький СТЫД передаст полностью его значения! Три буквы – шин, ре, мим (написанные, разумеется, справа налево) – да еще черточки-забар для обозначения кратких гласных. Вроде маленькое слово, а значений и оттенков – на целые тома. Не только от стыда отвращали матушки Омар-Хайама, но и от нерешительности, растерянности, застенчивости, самоедства, безысходности и от многих еще чувств, которым в английском языке и названия-то нет. Как бы стремглав и безоглядно ни бежал человек с родины, без багажа (хотя бы ручного) не обойтись. Вот и Омар-Хайам (речь идет все-таки о нем): возможно ли, чтобы запрет, наложенный матушками на стыд (то бишь на шарам) еще в детстве, перестал действовать на нашего героя в зрелые годы, много позже его бегства из зоны матушкиного влияния?
Невозможно, ответит читатель.
А что суть противоположность стыда? Что останется, если, подходя арифметически, вычесть шарам из нашей жизни? Останется, очевидно, бесстыдство.
Из-за унаследованной гордыни и чересчур уж особенного детства Омар-Хайам Шакиль, дожив до двенадцати лет, так и не познал чувства, на которое матушки наложили суровый запрет.
– Какой он, этот стыд? – недоумевал он, и матушки пускались в объяснения.
– Лицо краснеет, а сердце бьется часто-часто, будто дрожит, – пугала Чхунни.
– Бывает и наоборот, – вставляла средняя матушка.
С каждым годом все отчетливее проступали различия сестер. Они уже спорили по пустякам (и это настораживало), вроде того, чья очередь писать заказ и отправлять его с подъемником или пить им полуденный чай в гостиной либо в холле у лестницы.
Отпустили они сына в солнечный просторный город, и словно пелена спала у них с глаз. Ведь они отказывали ему в праве жить, набираться опыта. В тот день, когда их детище впервые показалось на людях, трех сестер наконец-то поразили стрелы запретного шарама. Но распри меж матушками кончились лишь тогда, когда Омар во второй раз покинул дом. А окончательно единство восстановилось, когда они решили завести второго ребенка…
Нужно рассказать и еще кое о чем, еще более удивительном. А именно: хотя бунтарское желание Омар-Хайама и порушило единство матушек, но столь долго они прожили вместе, что напрочь потеряли каждая свою суть и, даже обособившись, не обрели вновь своих былых черт и привычек. Все-то у них перемешалось: у младшенькой Бунни у первой появились седые волосы, а в поведении проглянула царственная величавость, что более пристало старшей в семье; старшая, Чхунни, похоже, совсем потерялась и растерялась, породнившись с сомнениями и колебаниями; а Муни вдруг принялась с наигранной злобой язвить и разить всех и вся, что испокон веков считалось привилегией младшего ребенка в семье (увы, младшие дети вырастают, а привилегии сохраняют на всю жизнь). Путаница коснулась не только душ, но и тел, обратив сестер то ли в кентавров, то ли в русалок. И свидетельствовала эта путаница об одном: даже отделившись друг от друга, они по-прежнему составляли одно целое.
Всякий бы сбежал от таких матушек. Много позже Омар-Хайам вспоминал о детстве, как влюбленный – о давно покинувшей его девушке: воспоминания сильны, но былой страсти нет. Так пылкое сердце цепко удерживает память в своем узилище. Только сердце у Омара полнилось не любовью, а ненавистью. И вместо пыла – лед. Его великий тезка питал вдохновение любовью, а наш герой – желчью. Что и говорить, нечем похвастать.
Нетрудно убедиться, что сызмальства в Омар-Хайаме взрастало ярко выраженное женоненавистничество. И все его последующие отношения с женщинами зиждились на стремлении отомстить его недоброй памяти воспитательницам. В защиту Омар-Хайама скажу: всю жизнь, чем бы ни приходилось ему заниматься, он не забывал о сыновнем долге и исправно оплачивал все расходы матушек. Даже ростовщик Пройдоха перестал наведываться к подъемнику. Это ли не свидетельство Омаровой любви, какой-никакой, а любви… Впрочем, пока Омар еще маленький мальчик; подъемник умельца Якуба только доставил новый ранец; вот юный бунтарь надевает его, входит в подъемник, и ранец проделывает обратный путь – на землю.
На двенадцатый день рождения Омар-Хайаму подарили не торт, а свободу. А в ранце и тетради с голубыми линейками, и грифельная доска, и досточка деревянная – на ней можно писать мелом, а потом стирать; несколько заточенных тростниковых палочек – плести хитроумную вязь родной письменности; мелки, карандаши, деревянная линейка, готовальня с транспортиром и циркулем, компас, а еще маленькая алюминиевая коробочка – для препарирования лягушек. Итак, Омар-Хайам покинул матушек, в ранце у него был целый арсенал орудий познания. Матушки помахали ему на прощание, как и прежде – все разом!
Не забыть Омар-Хайаму, как, выбравшись из подъемника, ступил он на пыльный “ничейный пустырь”, окружавший его детскую обитель, отторгнутую как военным поселением, так и городом. Не забыть ему и кучку зевак, и диковинную гирлянду в руках у одной из женщин.
Когда слуга принес жене лучшего в К. кожевника заказ от трех сестер изготовить школьный ранец (слуга наведывался к подъемнику дважды в месяц, согласно желанию сестер), Зинат Кабули тут же бросилась к дому своей лучшей подруги Фариды, вдовы Якуба-белуджа, жившей с братом Билалом. Все трое более двенадцати лет свято верили, что смерть Якуба-белуджа на глазах у всей улицы прямо связана с сестрами Шакиль, и сейчас дождаться не могли, когда дитя преступной связи затворниц предстанет перед всем честным народом. И вот они пришли к дому сестер Шакиль и принялись терпеливо ждать. Зинат Кабули притащила из лавки целый мешок старых, полусгнивших башмаков, сандалий, чувяк – все равно за них никто и гроша ломаного не даст. Вся эта разномастная обувка, связанная в гирлянду, дожидалась своего часа: нет ничего позорнее, когда человеку надевают этакую башмачную гирлянду.
– Собственными руками наброшу ее мальцу на шею! – клялась подруге Зинат. – Вот увидишь!
Целую неделю пришлось дежурить Фариде, Зинат и Билалу, и, конечно, они привлекли всеобщее внимание. Так что у подъемника Омар-Хайама встретили и другие насмешники: оборвыши-мальчишки, безработные чиновники, прачки, не очень-то спешившие к мосткам на реке. Был там местный почтальон Мухаммад Ибадалла. На лбу у него красовалась шишка – гатта – от чрезмерного усердия в молитвах. По меньшей мере пять раз на дню расстилал он коврик и отбивал земные поклоны, случалось (по настроению), молился и шестой раз. На работу его пристроил один бородатый змей в человечьем обличье, пустив в ход свои злокозненные чары. Звали змея Дауд, был он мауланой, то есть ученым-богословом, но мнил себя святым и, разъезжая по городу на мотороллере, подаренном сахибами-ангрезами, стращал жителей проклятием Божиим. Сейчас он тоже оказался у дома сестер Шакиль. Почтальона Ибадаллу привел сюда праведный гнев: почему это сестры послали письмо директору школы в гарнизонном городке не по почте! Вместо этого гордячки сунули его в конверт (вместе с чаевыми) цветочнице Азре. Ибадалла давно ухаживал за девушкой, но та лишь высмеивала его:
– На что мне жених, у которого весь день задница выше головы!
Разумеется, опрометчивое решение сестер больно задело самолюбие Ибадаллы и подорвало устои учреждения, в котором он служил. А главное, сестры Шакиль еще раз изобличили себя безбожницами, стакнувшись с Азрой, этой бесстыдницей, позволившей издеваться над святой молитвой. Не успел Омар-Хайам выбраться из подъемника, как почтальон зычно выкрикнул:
– Смотрите! Се дьявольское семя!
Однако потом произошел немалый конфуз. Ибадалла, снедаемый злобой на Азру, заговорил первым, чем вызвал неудовольствие своего духовного наставника. (Потеряв при этом святейшее покровительство, Ибадалла потерял и возможность продвинуться по службе и с той поры еще пуще возненавидел сестер Шакиль.) Несомненно, святой старец считал своим исконным правом лично заклеймить пороки, воплощенные в несчастном, до поры созревшем толстуне. И, пытаясь перехватить инициативу, он рухнул перед мальчиком на колени, неистово боднул раз-другой пыльную дорогу и возопил:
– О, Боже! Простри свою карающую десницу! Да поразят Твои огненные стрелы это исчадие ада!
Ну и дальше в том же духе. Но столь яркая демонстрация пришлась совсем не по душе троим изначальным дежурным.
– В конце концов, это мой муж поплатился жизнью ради подъемника, – прошипела на ухо подруге Фарида. – Так чего ж старик-то надрывается? Чего вперед меня лезет?
Зато братца Билала удержать никому и ничему не под силу. Он шагнул вперед и заголосил так же пронзительно, как и его легендарный тезка, черный Билал, муэдзин самого Пророка.
– Эй ты, плоть бесчестья! Благодари судьбу, что я тебя не пришиб, не раздавил, как мокрицу!
А позади разноголосое эхо вторило: